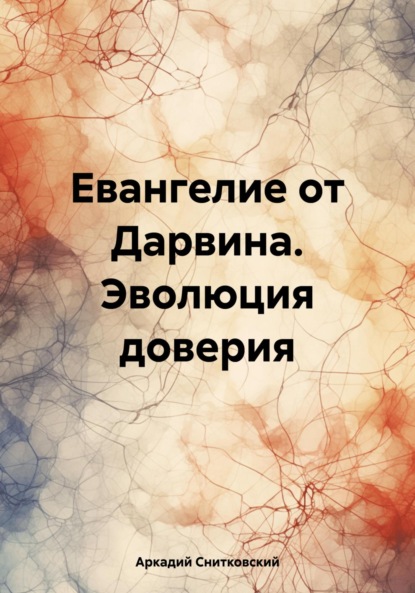
Полная версия:
Евангелие от Дарвина. Эволюция доверия
Могу предположить, что жажда славы бессмысленна для человека, все интересы которого сосредоточены в ограниченной группе, такой как семья, община или деревня. Как только человек осознает себя частью чего-то большего – народа, страны или мира, – возникает незнакомое и тревожное ощущение собственной неизвестности (ничтожности) и одиночества оттого, что никто ничего не знает о нем. Не знает о том, какой он замечательно уникальный человек, о том, как он мечтает осчастливить всех ратной победой, одарить частичкой своей любви в виде стиха, песни, картины, грандиозной постройки или мудрой книги, которая откроет всем глаза на мир и сделает, наконец, их жизнь счастливой.
Стремление к славе и осознание своего одиночества, по всей видимости, неразрывно связано со стремлением к свободе и ее обретением. Пока ребенку комфортно в семье и он не видит никого за пределами этого круга, то не ищет иного одобрения и славы, кроме как у мамы, папы и других близких родственников, так же, как не пытается бороться за свободу от родительского ига.
Расширение круга интересов, возможностей и желаний за пределы близкого круга в эпоху бурного развития торговли, морских путешествий, раздвигающихся границ мира, возможно, и послужило толчком к пробуждению вольного духа свободы, идущего в комплекте к ощущению одиночества.
Чтобы никого не обижать, будем считать, что нельзя однозначно судить о том, являются свобода и достоинство врожденными, как считает Фукуяма, или продуктом мифа, возникшим «чуть ли не за ночь», как считает Юваль Ной Харари.
Скорее всего, истина где-то посредине, и в каждом человеке уживается и конформизм, и индивидуализм, и стремление к подчинению правилам, и стремление к свободе. Не исключено, что в зависимости от внешних условий то или иное свойство может преобладать в человеке, а когда он видит вокруг себя подтверждение тому, что именно это и есть хорошо, то с еще большой силой подчиняется всеобщему настроению.
Из этого можно сделать предположение, что не только стремление к подчинению правилам, но и стремление к свободе есть продукт не только внутренних убеждений, но и во многом социальный, зависящий от культурной среды и устоявшихся общественных настроений. В первом случае, оба устремления – и стремление к свободе, и конформизм – это свободный выбор индивидуума, а во втором – это во многом несвободный выбор, происходящий из навязанных обществом установок.
Если для конформизма здесь нет никакого внутреннего противоречия, то для индивидуализма и либерализма есть. Согласитесь, если стремление к свободе отдельного человека является следствием несвободного выбора, то в этом есть что-то… недосказанное.
Если сводить исторический процесс к народным возмущениям, бунтам, войнам и, исходя из этого, искать среди мотивов, двигающих людские массы к революционным потрясениям, стремление к свободе и достоинству, то лучше всего это вписывается в марксистко-ленинскую картину мира. Напомню, по Марксу, основной движущей силой истории является классовая борьба – по сути, борьба за свободу от тирании и признание права свободно распоряжаться результатами своего труда.
Не будем слишком придирчивы к Фукуяме и не станем безапелляционно требовать переименовать марксизм-ленинизм в марксизм-фукуямизм. Констатируем лишь то, что исторический процесс, по всей видимости, несколько многообразнее и не лезет в то прокрустово ложе, в которое его пытались втиснуть оба великих теоретика.
Кратко. Наряду со стремлением к свободе человеку не менее естественно единение с другими людьми. С точки зрения эволюции, для человеческого вида стремление к свободе отнюдь не способствовало выживанию в отличие от стремления к сплоченности. Не исключено, что свобода в том виде, в котором мы воспринимаем ее сейчас, является продуктом развития цивилизации.
Глава 3. Свобода и сознание
Если зашел разговор о свободе, то не стоит забывать о сознании. Во всяком случае, о той его части, которая отвечает за самосознание. Ведь без осознания личностью своей индивидуальности, отдельности себя от других субъектов и мира вообще, без фиксации своих жизненно важных интересов невозможно даже задуматься о свободе.
Между тем сознание – это наименее изученный наукой микрокосмос или, если хотите, макрокосмос, учитывая его значение для каждого человека. Существует множество подходов к проблеме возникновения сознания: от космического до биологического.
Первый подход подразумевает, что сознание имеет космическое либо божественное происхождение, существует независимо от человека и исходит непосредственно из Космоса. В этом случае сознание едино, а частицы «мирового сознания» рассеяны в природе в виде сознаний живых организмов.
В свою очередь, биологический подход сугубо материалистичен и исходит из того, что сознание присуще всем живым организмам и является порождением живой природы.
У космического подхода есть различные взгляды. Это и теория монад, выдвинутая Лейбницем[6]; и развитая Даниилом Андреевым, согласно которой мир наполнен множеством неделимых бессмертных монад – первичных духовных единиц, в которых заключена энергия Вселенной и которые являются основой сознания; и теория Тьера де Шардена, согласно которой сознание – это некая надчеловеческая сущность, являющаяся «мозгом материи».
Довольно близки друг к другу теории Толбета и психосферы Рейзера, согласно первой из которых Вселенная – это гигантский разум, а сознание индуцируется в результате взаимодействия полей, образующих материю; а для второй – разум уже не един для всей Вселенной, а сконцентрирован по Галактикам, где наш Млечный Путь вступает в контакт с человеческим мозгом и «заряжает» его разумом точно так же, как это происходит с нашими мобильными телефонами, находящимися в радиусе действия зарядной станции.
Биологический подход базируется исключительно на материалистической точке зрения, согласно которой сознание есть порождение эволюции материи и ничего более. В качестве подтверждения приводятся такие факты: сознание человека не существует без мозга, а мозг – хоть и сложный, но биологический орган; или то, как прием психотропных веществ отражается на сознании.
У физикализма (так называется крайне материалистический взгляд на сознание) есть нюансы. Одни ученые (Д. Армстронг, Дж. Смарт) отождествляют духовные процессы с телесными – кровообращением, дыханием, мозговыми процессами, а другие (Карл Фохт) проповедуют теорию вульгарного материализма, согласно которой мозг выделяет мысль точно так же, как печень – желчь.
Кстати, знаменитое утверждение о том, что «человек произошел от обезьяны», фундаментально обосновал именно Фохт в публичных лекциях, прочитанных им в 1862 году в Невшателе, и, например, историк Борис Федорович Поршнев из этого факта делает вывод, что «…следует признать приоритет К. Фохта в создании теории происхождения человека от обезьяны»[7].
Вот какими тезисами описывает эту точку зрения Юваль Ной Харари: «В конечном счете многие ученые признают, что сознание реально и может иметь огромную моральную и политическую ценность, однако утверждают, что оно не выполняет никакой биологической функции. Сознание – это биологически бесполезный побочный продукт некоторых мозговых процессов. Двигатели самолета ревут громко, но не рев поднимает его в небо. Людям не нужен углекислый газ, но каждый их выдох увеличивает его содержание в воздухе. Так же и сознание может быть своего рода ментальным выхлопом от работы сложных нейронных сетей. Оно ничего не делает. Оно просто есть. Если это правда, значит, все боли и удовольствия, испытанные миллиардами живых существ за миллионы лет, – не более чем подобный выхлоп. Мысль интересная, даже если и ошибочная. Но больше всего поражает то, что на сегодняшний момент это лучшая теория сознания, которую нам способна предложить современная наука»[8].
Согласитесь, очень своеобразная логика. Мол, вполне может быть, что все это про выхлоп чушь и глупость, но у науки нет ничего более подходящего, поэтому давайте полагаться на глупость. Не имеет значения, что эта «лучшая теория сознания» опровергается буквально одним фактом, причем фактом, который науке известен уже очень давно. Главное – что физикализм очень неплохо вписывается в теорию Дарвина и позволяет самому Харари садиться на своего излюбленного конька, развивая идею о том, что все люди – это алгоритмы.
Однако люди далеко не алгоритмы, точно так же, как сознание – это не ментальный бесполезный выхлоп. У сознания вполне конкретные и очень важные социальные функции. И если бы люди представляли собой алгоритмы, точно выполняющие запрограммированный ДНК набор инструкций, то не были бы так непредсказуемы.
В отличие от алгоритмов, отвечающих на любой запрос дискретно – да или нет, у людей есть еще множество вариантов из ряда: «может быть», «надо сначала подумать», «не сейчас», «может, завтра обсудим?», «да, наверное, нет»; или «давайте взглянем на вопрос с другой стороны» и потом забудем.
Алгоритмы, в отличие от человека, не знают страха ответственности за ошибочный выбор, они дискретно принимают решение и не переживают о последствиях. А человеческое сознание зачастую не готово к сложным решениям, не делит мир на единицы и ноли, различая в нем множество оттенков, где любое принятое решение, наряду с плюсами, имеет негативные последствия. Повторю: любое!
Поэтому подавляющее большинство людей избегают принятия решений, опасаясь того, что негативные последствия могут перевесить любые плюсы. И даже если плюсов будет несравненно больше, это не значит, что они будут оценены по достоинству, поскольку маленький недостаток может испортить впечатление от самого безупречного выбора, а один негативный отзыв перевесит тысячи положительных оценок. Недаром в народе живет фразеологизм о «ложке дегтя в бочке меда». Для многих несовершение выбора – это лучший выбор, оставляющий все на привычных местах, что позволяет избегать разочарований, угрызений совести и/или ответственности за ошибки прошлого.
Если все же на минуту принять логику Харари с алгоритмами, то как должны называться алгоритмы при принятии решений регулярно придерживающиеся выбора «оставить все как было»?
Правильно: люди!
Но как же тогда может работать компьютерная модель, основанная на алгоритмах, беспрерывно прерывающих процессы принятия решений?
Что ж, ни для кого ни секрет, что система довольно инертна, и любые глобальные изменения если и происходят, то, как правило, в периоды исторических катаклизмов, которые приводят людей в состояние отчаяния или отчаянной решимости, когда внешние условия становятся настолько нестерпимыми, что на откладывание с принятием решений не остается времени.
Прокрастинация[9] никуда не исчезает и на бытовом уровне. Хотя для принятия менее ответственных решений финальные сроки уже не так расплывчаты, а степень ответственности не настолько фатальна, в том числе для собственной психики, выбор порой так же затруднителен.
Между тем различные права открывают все новые возможности для выбора, а стремление к свободе должно сказываться на готовности делать тот или иной выбор, и поэтому, вполне возможно, что по сравнению с нашими предками нынешние поколения являются образцом решимости. Но до алгоритмов нам все еще далеко.
По поводу того, как соотносится свобода выбора с эволюционной теорией Дарвина, стоит привести следующую цитату Ноя Харари: «Либералы потому так высоко ценят личную свободу, что свято верят в свободную волю людей… Последний гвоздь в гроб свободы забивает теория эволюции. Эволюция не сопрягается со свободной волей точно так же, как она не уживается и с идеей вечной души. Ведь если люди свободны, каким образом их мог сформировать естественный отбор? По теории эволюции, за любой выбор, который делает животное, отвечает его генетический код. Если одни гены велят животному есть питательные грибы и спариваться со здоровыми и плодовитыми особями, эти гены передаются следующему поколению. Если из-за других генов животное выбирает ядовитые грибы и анемичных партнеров, эти гены исчезают»[10].
Редьярд Киплинг, автор знаменитой истории о «Маугли», имел в свое время возможность познакомиться с реальными детьми, воспитанными волками. Со времен написания Маугли учеными зафиксированы десятки случаев воспитания детей животными. Чаще всего – человекообразными обезьянами, реже – волками, медведями, леопардами и газелями.
Те дети, что провели в обществе животных первые годы жизни, после возвращения из леса так и не смогли научиться говорить, ходить прямо и осмысленно общаться с людьми, несмотря на годы, проведенные в обществе людей, стремящихся окружить их заботой и вниманием.
Основываясь только на одном этом факте, можно опровергнуть все теории, отождествляющие сознание с кровообращением, дыханием, или утверждающими, что мозг выделяет мысль, словно печень – желчь.
Если бы это действительно было так, то реальные Маугли, воспитанные в диких условиях, должны были обладать сознанием, ни в чем не уступающим сознанию своих сверстников. Вернувшись в человеческую среду, должны легко адаптироваться, говорить и понимать человеческую речь, а заодно проявлять все то, что характеризует сознательного человека.
Судя по всему, сознание является социальным продуктом, не возникает само по себе под воздействием кровообращения или каких-либо процессов в мозгу, а пробуждается в раннем детстве в эмоциональном контакте с другим сознанием, как правило, сознанием родителей.
Можно сказать, что сознание передается как огонь от другого сознания, после чего уже может развиваться индивидуально, но все равно в обязательном контакте с другими людьми.
Хорошо известно, каким ментальным страданиям подвергается человек, оказавшийся в заточении в одиночной камере или вынужденный жить на необитаемом острове. Такой человек большую часть энергии тратит на то, чтобы попросту не сойти с ума.
В преклонном возрасте сознание зачастую уходит так же, как и пришло в детстве. Известно, что лучшим средством от старческой деменции является поддержание семейных связей и социальной активности. Не исключено, что именно утрата связей с близкими и социальных интересов в современном разобщенном мире является главной причиной эпидемиологического роста случаев утраты сознания у пожилых людей.
В пользу социальной природы сознания свидетельствует то, что индивидуальное сознание не только зарождается в раннем детстве в общении с близкими людьми, но и достаточно длительное отсутствие такой возможности может привести к полному его угасанию.
Даже само значение слова говорит о том же. В русском языке «сознание» означает совместное знание, впрочем, как и во многих других языках, а на латыни и языках латинской группы[11] имеет еще и значение совесть.
Кратко. Человеческое сознание является социальным продуктом. В связи с этим возникает загадка из разряда, что было раньше: курица или яйцо, или как все-таки могло возникнуть человеческое сознание, если зарождается оно только в контакте с другим сознанием?
Глава 4. Возникновение сознания
Утверждать, что наука не может предложить ничего лучшего, чем набор теорий физикализма, для опровержения которых требуется даже меньше доводов, чем само их изложение, довольно оскорбительно для науки. Особенно уничижительно это звучит из уст ученого.
На самом деле наука изобилует различными концепциями сознания. Не претендуя на уникальность, но чтобы как-то заступиться за науку, я осмелюсь предложить еще и свою гипотезу возникновения сознания. Называя данную гипотезу своей, я лишь констатирую тот факт, что мне не удалось обнаружить аналогичных рассуждений, однако это не значит, что десятки и даже, может быть, сотни умных людей до меня не высказывали нечто подобное или, что более вероятно, существенно полнее обоснованное и продуманное.
Начнем с того, что ограничим понятие сознания до значения, которое дает Большой энциклопедический словарь (2000), где сознание определяется как «высшая форма психического отражения, свойственная общественно развитому человеку и связанная с речью».
Низшими формами сознания, существующими на чувственном или биологическом уровне, обладает большинство живых существ, почти не замеченных в борьбе за свободу. Во всяком случае, не будем унижать это понятие до того, чтобы приравнивать его к непокорности или стремлению вырваться на волю, каковые демонстрируют почти все дикие и некоторые домашние животные.
Если мы подразумеваем под свободой в большей степени свободу воли, которая проявляется в способности человека без принуждения делать осознанный выбор между различными возможностями, то, пытаясь включить в стремление к свободе желание бизона проломать изгородь, чтобы вырваться на волю, или рвущуюся с поводка таксу, учуявшую запах леса, мы должны будем перейти к обсуждению либерализма в терминах науки, изучающей инстинкты и физиологические рефлексы, что неизбежно заведет нас в тупик.
Никоим образом не пытаясь оскорбить бизонов и такс, а тем более отнять у них право на субъективные переживания, все же предположу, что их порывы не связаны с осознанным выбором.
Вернемся к людям. Считается, что сознание стало результатом труда и коммуникации древних людей друг с другом. С ходом времени человек приобретал способность выделять и обобщать различные предметы и явления окружающей природы и затем фиксировать в конкретном слове (знаке, сигнале, звуке) для того, чтобы передать его другим людям. Предполагается, что становление сознания происходило параллельно с формированием языка.
Вот как, предположительно, это происходило: мышление возникло и развивалось благодаря манипуляции с предметами. Занимаясь примитивной деятельностью вроде оттачивания камня или совместной охоты при помощи острых палок, древний человек думал, а усложнение труда благоприятно сказывались на развитии его сознания.
Несколько замечаний. Во-первых, сознание проявляется по большей части во внутреннем диалоге, львиная доля времени которого занята рефлексией – осмыслением произошедшего, оцениванием своей роли во взаимодействии с другими людьми и реакцией окружающих.
Как часто вам требовался внутренний диалог при забивании молотком гвоздей или распиливании ножовкой доски? Когда в последний раз вы рефлексировали, готовя еду на кухонной плите или используя миксер с тостером? Большинство из нас даже управляют автомобилем на уровне автоматизма, переключая свое сознание с прослушивания новостей по радио на общение с попутчиком и обратно.
В большинстве случаев даже для непростых манипуляций с предметами и сложной деятельности участие сознания не требуется, а зачастую даже вредно, как в известном парадоксе с сороконожкой: помните? – муравей глупым вопросом вынудил ее задуматься над процессом хождения, что привело к катастрофическим последствиям. Мы не задумаемся над тем, как и в какой последовательности использовать конечности при ходьбе, как это не делают и все обладатели аналогичного или большего, чем у нас, числа ног.
Для манипуляции с камнем или палкой не требуется внутренний диалог. Множество наблюдений за животными, эксперименты с приматами и лабораторными крысами фиксируют использование ими различных предметов для получения пищи или вознаграждения. Если это и является определенным уровнем сознания, то оно совершенно точно не подкреплено речью и почти наверняка лишено рефлексии.
Во-вторых, для более или менее приличного внутреннего диалога нужен развитый словарный запас. «Вначале было слово»[12]. В связи с этим более вероятно, что сознание развивалось не параллельно с речью, а с некоторым отставанием.
Могло ли развитие сознания быть связано с совместной деятельностью наших предков, такой как охота и собирательство? Безусловно, переживание личного вклада в успех или провал совместной охоты – это сильный эмоциональный импульс, вполне способный вызвать рефлексию. Но тогда мы должны признать, что и другие животные, замеченные в коллективной охоте или собирательстве, также имеют все предпосылки для развитого сознания. Что мешает, например, волкам или львицам, вернувшись с неудачной охоты на зебр или антилоп, углубиться в переживания о своем месте под солнцем и несправедливостях судьбы? Или тем же зебрам и антилопам, наевшись досыта сочной травы, обратить взгляд к звездам и…
Поскольку сознание – это совместное знание индивидуумов, предположим, что и пробуждаться, и развиваться оно должно в состояниях двойственности, то есть таких ситуациях, когда индивидуум внезапно ярко осознает свою отдельность, но при этом испытывает неразрывную связь со своим сообществом.
Охота и собирательство не совсем для этого подходят. В такой совместной деятельности не много места для двойственности: все либо вместе охотятся, либо по отдельности поедают собираемые ягоды и плоды. Мимики и зачатков речи более чем достаточно для обмена информации, в то время как внутренний диалог требуется для общения с самим собой, гипотетическим Alter ego или высшим судьей, о сокровенных вопросах, не подлежащих огласке.
Это же внутренний диалог! Он потому и ведется неслышно, что не желает публичной огласки. Этот диалог, как правило, индуцируется эмоциональным взаимодействием с другими людьми и при этом не предназначен для их ушей.
Причинами такой конспирации могли быть как определенные табу, накладывающие запрет не только на сами действия, но и на разговоры о них, так и банальный страх быть непонятым. Вообще, переход на внутренний диалог, скорее всего, был связан с нежеланием негативного отношения к себе или боязнью инициировать в коллективе разногласия и распри, подрывающие общую сплоченность, что в довольно тяжелых условиях всегда сопряжено с угрозой жизни.
Известно, что у людей верхнего палеолита мозг был заметно больше, чем у современного человека. Процесс «усыхания» мозга еще десять тысяч лет назад продолжался вполне ощутимо, но вскоре сошел на нет.
Вопрос: связано ли это как-то с неолитической революцией? Мог ли повлиять на размер мозга переход от небольших кочевых групп охотников-собирателей к более крупным сельскохозяйственным поселениям и ранней цивилизации?
Считается, что больший, чем у нас сегодня, размер мозга мог быть связан с тем, что древние люди были умнее нас. Они «жили в гораздо более сложных условиях, чем мы сейчас. К тому же они были универсалами. В одной голове один человек должен был хранить сведения обо всем на свете: как делать все орудия труда, как добыть огонь, как построить жилище, как выследить добычу, как ее поймать, выпотрошить, приготовить, где можно добыть ягодки-корешки, чего есть не следует, как спастись от непогоды, хищников, паразитов, соседей. Еще помножьте все это на четыре времени года. Да еще добавьте мифологию, предания, сказки и прибаутки. Да необходимость по возможности бесконфликтно общаться с близкими и соседями. Поскольку не было ни специализации, ни письменности, ВСЕ это человек носил в ОДНОЙ голове. Понятно, что от обилия такой житейской премудрости голова должна была "пухнуть"»[13].
Переход к оседлому образу жизни существенно снизил потребность индивидуума в знании географии, флоры, фауны и всей той информации, которая была жизненно необходима кочевнику. При этом «мозг – энергетически жутко затратная штука. Большой мозг пожирает огромное количество энергии. Неспроста палеолитические люди часто имели мощное телосложение – им надо было усиленно кормить свой мощный мозг, благо, еще неистощенная среда со стадами мамонтов и бизонов позволяла. С неолита отбор пошел на уменьшение размера мозга. Углеводная диета земледельцев позволяла неограниченно плодиться, но не кормить большие тело и мозг. Выигрывали индивиды с меньшими габаритами, но повышенной плодовитостью. У скотоводов с калорийностью пищи дело обстояло получше. Неспроста групповой рекорд размеров мозга сейчас принадлежит монголам, бурятам и казахам. Но жизнь скотовода несравненно стабильнее и проще, чем у охотника-собирателя; да и специализация имеется, плюс возможность грабить земледельцев позволяет не напрягать интеллект. Все скотоводческие культуры зависят от соседних земледельческих. Посему размер мозга уменьшался у всех – тотально по планете»[14].
Что сразу бросается в глаза. Если процесс уменьшения размеров мозга, как выяснили ученые, начался примерно 25 тысяч лет назад, то он никак не может быть связан с неолитической революцией, которая началась около 10 000 лет до нашей эры в регионе Ближнего Востока, называемом Плодородным Полумесяцем, где люди впервые занялись земледелием. А вот повлиять на прекращение этого процесса неолитическая революция вполне могла.
Учитывая энергетическую затратность мозга, можно предположить, что уменьшение его размера могло быть связано с ухудшением рациона питания охотников-собирателей. Хотя вариант первобытной специализации, при которой одни члены племени запоминали маршруты, а другие – все разнообразие съедобной флоры и фауны, тоже полностью исключать нельзя.



