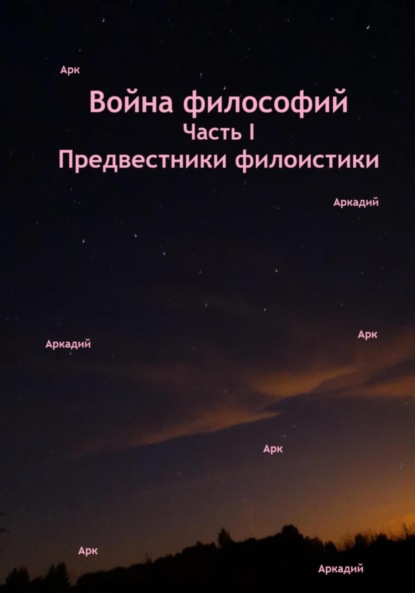
Полная версия:
Война философий. Часть I. Предвестники филоистики
Это доказывает, что утверждение «Я мыслю, следовательно, я существую» – не совсем верно. Оно верно лишь по индивидуальному восприятию своего существования, а не по факту такового. Выходит, можно существовать, даже не зная о своём существовании, даже не мысля. Вот такой парадокс.
Впрочем, я отвлёкся. Нас ведь интересует не солипсизм, а отношение Декарта к науке и философии.
В этом ракурсе нам более интересно убеждение Декарта в том, что в основе мира лежит движущаяся материя. Явления природы Декарт объяснял механическим взаимодействием элементарных материальных частиц. Он утверждал:
«Достоверно, что во всём, чему нас учит природа, должна заключаться истина».
О чём это говорит в свете отношения к философии? Думается, о том, что философы должны заниматься поиском истины не в религиозных фантазиях, а в окружающей природе, в действительности.
В то же время Декарта нельзя назвать ни твёрдым материалистом, ни атеистом. Во всяком случае, у него есть такое высказывание:
«Два вопроса – о Боге и душе – всегда считались мною важнейшими среди тех, которые следует доказывать скорее посредством доводов философии, чем богословия».
Но и это высказывание показывает нам понимание Декартом несовместимости философии и богословия (теософии). Даже будучи религиозным верующим Декарт понимает, что богословие и теософия – беспочвенны и не несут знаний.
Почему Декарт делает это разграничение? Потому что, как и сегодня, в философии того времени этого разделения не было.
Выше мы показали, что многие известные философы понимали необходимость этого разграничения. Но так как церковь была у власти, ничего поделать они не могли. И основную массу философов, особенно теософов в философии, это, видимо, устраивало. Поэтому Декарт вполне резонно замечает о таких философах:
«Люди, более всего занимающиеся философией, часто менее мудры и не столь правильно пользуются своим рассудком, как те, кто никогда не посвящал себя этому занятию».
Это как раз показывает внутреннюю проблему дискредитации философии, когда философия уже преподаётся скверно, когда в неё открыто внедряется теософия и прочие фиктивные формы философии. И выученные такой философии новые философы уже не в состоянии понять научной философии, за которую ратует Декарт и прочие, показанные выше философы. Поэтому Декарт и говорит, что легче объяснить эти прописные истины свежему рассудку, ещё не загаженному фиктивной философией.
Ниже я ещё буду показывать философов, критикующих такую неумную академическую философию, выступающих за создание научной философии, отделённой от теософии и прочей когнитивной фикции. А пока покажу, что Декарт говорит о такой фиктивно-научной, смешанной философии:
«Философия разрабатывалась в течение многих веков превосходнейшими умами и тем не менее не имеет ни одного пункта, который не вызывал бы споров и, следовательно, не был бы сомнительным».
Естественно, что Декарт говорит это с сожалением, с недоумением. Как же так, превосходнейшие умы за многие века не смогли отделить зёрна от плевел, не смогли очистить истинную научную философию от ненаучной, фиктивной, ложной? Вспомним, что это же удивляло и возмущало Пьера Гассенди. А до этого и Бэкона.
Рене Декарт выдвигает своё знаменитое сравнение философии со строением дерева. Он пишет:
«Вся философия подобна как бы дереву, корни которого – метафизика, ствол – физика, а ветви – все прочие науки, сводящиеся к трём главным: медицине, механике, этике. Подобно тому как плоды собирают не с корней и не со ствола дерева, а только с концов ветвей, так и особая полезность философии зависит от тех её частей, которые могут быть изучены под конец».
Он наглядно показывает на примере дерева, что философия идёт от непознанного к познанию, что именно из философии выходят все науки, которые только и могут приносить плоды знаний. А чтобы из философии рождались науки, сама философия должна быть научной. Науки – это специализация научной философии.
Внимательный читатель заметит, что Декарт пишет: «плоды собирают не с корней и не со ствола дерева», при этом ствол дерева он сравнивает с физикой. Дело в том, что «физика» раньше понималась не как строгая наука в современном её значении, а как природа, натура, так она понималась с античности, например, Аристотелем. Да это и не важно. Важно увидеть то, что Декарт показывает всеобщность философии, охватывающей всё знание! В его примере – всё дерево. И неизбежно, и необходимо философия всегда ведёт к науке!!! А не к религии.
Также характерно то, что Декарт поддерживает идею развития разума посредством опыта и знаний. Он пишет:
«У нас нет ни одной врождённой идеи. Под врождённостью мы понимаем лишь то, что у нас есть способность выразить её».
Вспомним, что об этой же идее писали его предшественники, только другими словами, например, Роджер Бэкон:
«Людям прирождён способ познания от ощущения к уму, так что, если нет ощущений, нет и науки».
Это опять приводит нас к формуле: бытиё определяет сознание. Идеи не врожденны нам и не спускаются сверху, они возникают от опыта.
Декарт тоже утверждает лозунг, вариант которого нам уже встречался у предшественников:
«Никогда не принимать за истинное ничего, что не познано таковым с очевидностью».
Правда, Декарт тут немного нарушил свой призыв. Помните, он утверждал:
«Два вопроса – о Боге и душе – всегда считались мною важнейшими…»
Однако, разве он «познал с очевидностью» что есть бог, или, что есть душа, чтобы признавать эти вопросы важнейшими? Конечно, нет. Но осуждать его мы не будем, потому что церковь в те времена была у власти и мы не можем сказать уверенно, действительно ли так считал Декарт, или написал это, чтобы избежать гонений от церковников. Исходя из всех указанных его идей, я считаю, что более реален второй вариант. Исследователи относят Декарта к дуалистам. Оспаривать это я не буду. Но Декарт также утверждает:
«Философ не должен считать ничего истинным, пока он в этом не убедиться; если он без критики верит чувствам, то он доверяет детскому воображению больше, чем прозрениям зрелого рассудка».
Трудно это высказывание сочетать с верой в бога. Не менее убедительно звучит и следующее его высказывание:
«Все науки настолько связаны между собою, что легче изучать их все сразу, нежели какую-либо одну из них в отдельности от всех прочих».
Как же тут не говорить о научной философии (филоистике), если мы уже знаем, что именно из неё и формируются, выделяются, рождаются все науки?
Известно, что Декарт около девяти лет путешествовал по свету, собирая нужный опытный материал для создания своей, совершенно новой философской системы. И судя по его размышлениям, представленным выше, можно с уверенностью сказать, что он хотел создать именно систему научной философии. Он углублённо изучал астрономию, математику, оптику, пытаясь выявить в различных науках общие черты. К примеру, Декарт первым «дал строгое и исчерпывающее научное объяснение явлению радуги». Он разработал «теорию радуги», которая после поправок Ньютона, уже учитывающего дисперсию и дифракцию света, сохраняется в основных чертах до наших дней. Декарт показал, что «основная радуга возникает благодаря лучам, достигающим глаза наблюдателя после одного отражения и одного преломления внутри капли воды, а вторичная – после двух отражений и двух преломлений…».
А вот ещё одно интересное соображение Декарта:
«Одна и та же вещь в одно и то же время и меняет место, и не меняет его.
Так, когда корабль уносится ветром в море, то сидящий на корме остаётся на одном месте по отношению к частям корабля; однако он всё время изменяет место, если иметь в виду берега, ибо, удаляясь от одного берега, он приближается к другому».
Ничего вам это не напоминает? Лично мне это сильно напоминает идею теории относительности Эйнштейна, высказанную за много веков до рождения Эйнштейна. А ведь Эйнштейн не мог не изучать Декарта. Или мог? Хотя определённые идеи относительности ко времени Эйнштейна уже были обсуждаемы среди физиков.
Каков итог борьбы Декарта за научную философию в свете борьбы с фиктивной философией? Как всегда, печален. Сегодня некоторые ученые считают, что предсмертная болезнь философа и учёного по симптомам сильно напоминала отравление мышьяком. Считается, что отравителем выступил священник католической церкви, покаравший Декарта за ересь. Вот так.
Если ещё кто-то считает, что эта война философий не опасна, пусть лучше изучает историю философии не по кастрированным учебникам, а по более надёжным источникам.
Спиноза за свободную философию
Вот ещё один рассказ о войне философий, где фиктивная религиозная философия яро боролась против научной философии. Я бы назвал этот рассказ «О бедном Бенедикте» очень показательным.
Бенедикт Спиноза (1632 – 1677), нидерландский философ-рационалист и натуралист, один из главных представителей философии Нового времени.
Родители Спинозы были евреями и бежали из Португалии, так как там свирепствовала инквизиция. Евреев просто убивали за то, что они евреи. Король Карлос так выразил свой взгляд на это дело:
«Пусть лучше у меня вовсе не будет подданных, чем будут подданные-еретики!».
В данном рассказе «О бедном Бенедикте» это первое свидетельство о нетерпимости религии ко всякому инакомыслию. Сам Бенедикт ещё даже не появился на свет, а его родители уже вкусили все блага фиктивной религиозной философии, соединённой с политическими устоями.
Родители Спинозы ссели в Амстердаме, где и родился Бенедикт, которого при рождении нарекли еврейским именем Барух. Отец Баруха, как и положено еврею, был состоятельным торговцем и имел возможность дать сыну хорошее образование. Барух получил ортодоксальное иудейское воспитание и образование, изучал Тору, Талмуд, трактаты великих еврейских, древнегреческих и арабских философов. Юный Барух Спиноза знал португальский, испанский, нидерландский языки, мог говорить на французском и испанском, хорошо писал на литературном иврите.
Всё изменилось, когда юный Спиноза стал самостоятельно переосмысливать религиозные доктрины, по-своему рассуждать о боге, а главное: открыто писать об этом философские трактаты. Этим он не на шутку всполошил местное еврейское духовенство. Религиозная община не сразу наказала «вольнодумца и еретика». Сначала ему предложили деньги за молчание. Целых тысячу флоринов в год. Это довольно большая сумма по тем временам. Он должен был замолчать, ничего не писать, продолжать смиренно посещать синагогу и вести себя как приличествует ортодоксальному еврею, прилежно исполняя религиозные обряды и законы бога.
Это уже второе свидетельство о нетерпимости религии к инакомыслию и свободе слова. Очередное свидетельство непримиримой войны философий.
Однако юный и упрямый Барух Спиноза отказался от денег, не желая продавать свою свободу и истину, к которой стремился.
Мать свою Барух помнил плохо. Когда она умерла, ему было всего шесть лет. Когда ему было 22 года, умер отец, оставив парню по наследству всё состояние. Спиноза стал богатым наследником. Но две родные сестры были этим недовольны. Они хотели свою часть наследства и стали проклинать брата, желая ему смерти. Дело дошло до суда.
В добавок к этому, юношу прокляла и вся религиозная община за его «богопротивные размышления и атеизм». Это притом, что Спиноза никогда не был атеистом. Он даже не менял религию. Тем не менее, руководитель служб и все участники общины жгли чёрные свечи, предавали юношу отлучению и проклятью, желая ему страшных мучений и ужасной смерти.
Это третье свидетельство о нетерпимости религии к свободе мысли и слова. Религия не оспаривает свою правоту в мирных дискуссиях, она действует репрессиями, что указывает на явную фиктивность религиозной философии и неотвратимость её войны против свободной философии.
И хотя Спиноза выиграл суд с сёстрами, всё же потом он отдал им всё своё наследство. Он хотел оставить себе только любимую кровать, но и этого не смог, т.к. бездомному юноше некуда было её ставить. Таким образом Барух Спиноза остался совершенно нищим, бездомным и проклятым.
Рассказывают даже, что после этого на Спинозу напал с ножом один из религиозных фанатиков за то, что философ посмел вольно мыслить и говорить, да ещё записывать свои мысли на бумаге. К счастью, Спиноза сумел защититься от напавшего религиозного фанатика.
Осудив и изгнав Спинозу из общины, евреи ждали, что после всех проклятий и гонений юноша дрогнет, раскается и ляжет на пороге синагоги с мольбами о прощении, позволит топтать себя ногами и бить плетьми. Таков в общине был ритуал «прощения». Только тогда была возможность вымолить разрешение о снятии проклятья. В детстве Барух Спиноза и сам видел, как происходит этот страшный и позорный ритуал.
Но Спиноза поступил иначе, он сменил своё имя на Бенедикта и продолжил заниматься философией. Он изучил ремесло шлифовки стекол и овладел этим искусством так мастерски, что в дальнейшем эта работа позволяла ему сводить концы с концами и кормила его до конца жизни.
Однако его несчастья ещё не кончились. Спинозе также не повезло в любви. Предмет его страсти предпочла более состоятельного претендента. Бенедикт Спиноза так никогда и не женился.
К тому же гонения со стороны религии не прекратились, а только усилились. В 1660 году Амстердамская синагога официально просила муниципальные власти осудить Спинозу как «угрозу благочестию и морали». В результате репрессий Спинозе пришлось бежать. Он переехал под Гаагу, где снял небольшую комнату, в которой и прожил до самой смерти.
Это уже четвёртое свидетельство нетерпимости теософии к свободе мысли и слова. Религия не сдаётся и не терпит строптивых и непослушных вольнодумцев. Она не спорить с ними, она их уничтожает. Те, кто думают, что это не война, а просто борьба умов, жестоко ошибаются. Это тихая и подлая война, не гнушающаяся ни каким преступлением.
Но и это далеко не все злоключения, которые пришлись на долю философа. О многих я просто не будут тут указывать, дабы не занимать много места. Естественно, что свои философские труды Спиноза издавал под псевдонимом, понимая, что духовенство его не одобрит. И был прав. Его книги не только осуждали и ругали, но и проклинали, как проклинали и самого автора «этих пасквилей». Книги Спинозы называли «адскими», «дьявольскими», «клеветническими».
Это пятое свидетельство непримиримой войны фиктивной философии со свободомыслием.
При всём этом нужно признать, что Спинозе несказанно повезло не родился раньше. Ведь в его время людей уже почти перестали сжигать на кострах. Тем более, известных учёных. А Спиноза приобрёл-таки известность. Его время считается относительно либеральным и демократическим. Иначе философа, если бы не сожгли, так уж точно замучили бы в церковных застенках.
Некоторые исследователи с сарказмом свидетельствуют:
«Одного философа обвинили в ереси за его сочинения, в которых он лишь упоминал работы Спинозы, как источники. Судьи предлагали гуманно наказать этого нерадивого ученого, проткнув язык раскаленной кочергой, отрубив пальцы и причинив ещё какие-то небольшие повреждения. Это же не варвары были, а образованные европейцы! Но наказали ещё более гуманно – отправили на каторгу на десять лет и отобрали имущество; дело ведь было в свободной Гааге, где даже к вольнодумцам относились человечно, как видите».
Вот в такой свободно обстановке жил и работал философ Бенедикт Спиноза. При этом у Спинозы всё же были и друзья и покровители, понимающие значение его философской мысли. Ему даже предлагали возглавить кафедру в университете. Но философ отказался. Он не захотел потерять возможность свободно мыслить и говорить то, что думает, обменяв это на обязанности и уступки, которые неизбежно ждали его в учебном учреждении. Ниже, когда мы будем вести разговор о Шопенгауэре, вспомните это обстоятельство. Оно значимо для философии и действует до сих пор. Как видим, даже тогда философы понимали, что университетская философия не свободна, что она вынуждена идти на уступки ложным истинам в угоду властям и официально разрешённым установкам. Тут выступают сразу три причины дискредитации философии: религиозная, политическая и внутренняя.
В результате этой борьбы философа с религией, церковь добилась того, что в Европе имя Бенедикта Спинозы было под запретом, его предали проклятью и забвенью. Осуждалось и наказывалось даже чтение его книг. Церковь приравняла это к богохульству. Самого философа называли только «еретиком», «исчадием ада», «угрозой морали» и тому подобными эпитетами. Так было и при жизни философа, так продолжалось и после его смерти. Я искренне удивлен, что по такой удивительной судьбе не снято хорошего художественного фильма.
Это шестое свидетельство непримиримой и неугасающей войны фиктивной религиозной философии с философией свободной на примере только одного слабого, больного, бедного человека. И это, напомню, притом, что Спиноза даже не был ни атеистом, ни материалистом.
Здесь можно добавить и другие заслуги Спинозы перед философией и наукой, но читатель и без меня легко отыщет их в нужных источниках. Мне же важно было показать тут только непримиримую и жесточайшую войну, которую ведёт религия со всеми свободными философами, стремящимися к истинному познанию действительности. Показать, какие методы и способы борьбы использует религия для достижения своих целей. Она не останавливается ни перед какими преступлениями, потому что знает, что в её основе лежат ложь и фикция. Она понимает, что не выдержит честных споров с научной аргументацией и фактическими доказательствами.
Джон Локк за научную философию
Джон Локк (1632 – 1704), английский философ и педагог, представитель эмпиризма и либерализма.
Локк отрицал врождённые идеи. Также он утверждал, что опыт – это основа познания человека. Локк внес значительный вклад в понятие эмпиризма своего времени. Эти мысли сочетаются с формулой Маркса «бытиё определяет сознание». Уже одно это говорит за стремление философа к научности.
Так как Локк был против врождённых идей, то он был и против того, что идея бога якобы присуща человеческой природе изначально. Он утверждал, что идеи о богах возникают лишь на определённой стадии исторического развития общества.
Локк изучал историю развития народов Африки, Бразилии, Перу, затем пришёл к выводу, что в жизни людей были периоды, когда они не имели никакого понятия о богах. В доказательство этой теории Локк приводит свидетельство миссионера-иезуита Николая дель Техо, который писал:
«Мы встретили племя, у которого не было никаких имён ни для бога, ни для души человеческой, не было ни обрядов, ни идолов».
Локк утверждает, что раз религиозные представления людей имеют начало, следовательно, они не присущи людям изначально и должны иметь свой конец. Этот вывод вытекает из учения Локка.
Также Локк выступал против гонений со стороны церкви за убеждения. Локк считал, что ни один человек не должен за свои взгляды лишаться своих «земных благ», и даже при отлучении от церкви не должно быть никакого насилия или оскорбления по отношению к отлучённому.
А почему он так считал? Да потому, что он воочию видел все эти гонения и притеснения инакомыслия со стороны церкви. О свободе слова тогда и речи не было. Вот вам ещё одно подтверждение действенности и неотвратимости войны философий, войны религии против свободной философской мыслью, войны фиктивной философии против научной, против филоистики.
Также Локк настаивал на отделении церкви от государства. В работе «Письма о веротерпимости» Локк обосновывал необходимость полного разделения духовной и светской властей. Здесь вспомним, что в России после революции 1917 года на деле произошло такое отделение церкви от государства. Но практика показывает, что подобное отделение – фикция. Без связи с властью религия быстро превращается в многочисленные секты, конкурирующие друг с другом. Поэтому религия всегда стремится присоединиться к власти, поддержать её, быть ей «полезной», потому что без протекции власти она не выживает. Даже в СССР, который, казалось бы, был атеистическим государством, власть одновременно поддерживала и религию, которую, однако, держала на коротком поводке, как и положено, не давая ей распространяться.
При всём этом Локк не был противником религии, что естественным образом привело его к противоречащим самому себе взглядам. Как пишут исследователи, «одна уступка религии повлекла за собой другую». Именно этим и опасна религия для философии. В результате Локк, вопреки своим идеям о терпимости взглядов, стал даже выступать против атеистов, говорил об опасности атеизма и предлагал лишать всех атеистов гражданских прав. Вот так религия способна заставить философа наплевать на свои же взгляды и извратить их.
На примере Локка мы видим, как религия, если не оказывать ей сопротивление, с лёгкостью может увести философа с научной дороги на кривые тропы фиктивной философии, где он будет противоречить и себе, и логике, и самой философии. Этим и опасно не понимать извечной вражды религии и философии. Все философы, пытающиеся примирить философию с религией, занимаются самообманом и обманом других людей, пытаясь совместить несовместимое. Они не понимают, что этим нельзя сделать религию хоть чуть-чуть научной, а вот философия от этого всегда становится фиктивной, ложной.
Я пытаюсь показать на примерах, что война философий (научной и фиктивной) не выдумана и не временна, она вечна, она изначальна, её нельзя окончить, как нельзя наесться раз и на всю жизнь, или навсегда помыться и всегда быть чистым. Эта борьба должна вестись всегда, постоянно. Иначе философия зарастёт грязью невежества. Как видим на примере Локка, эта опасность может подстеречь любого философа, отошедшего от научности.
Исаак Ньютон за научный подход к философии
Исаак Ньютон (1642 – 1727), английский физик, математик, механик и астроном, один из создателей классической физики и математического анализа.
Конечно, Ньютон не был ни атеистом, ни материалистом. Во всяком случае, – открытым атеистом и материалистом. Он признавал, что верит в бога. Но для этого были весьма веские причины даже помимо воспитания и общественной идеологии. Давление церкви на науку и философию было на поверхности. Не видеть этого или отрицать это мог только совершенно глупый человек. Ньютон был не из таких. Он понимал опасность противоречия с церковью. Это подтверждает и то, что в 1697 году вышел законодательный акт «О подавлении богохульства и нечестия». Например, за отрицание любого из лиц Троицы по акту предусматривалось поражение в гражданских правах, а при повторении данного «преступления» грозило тюремное заключение. Преступление! Вы только подумайте!
И после этого боговеры пытаются уверить народ, что Ньютон был верующим человеком. Да тут волей-неволей ему приходилось называться верующим в бога. Поэтому да, внешне (открыто, прилюдно) Исаак Ньютон оставался как бы верующим и лояльным к государственной англиканской церкви. Но в письмах к друзьям, которым доверял, Ньютон был более откровенен. Хотя, возможно, что и не до конца. Тем не менее, он доказывал и приводил аргументы, что никакой троицы не существует, что эта идея ложна. А ведь это – главная идея христианства.
Конечно, Ньютон говорил, что верит в единого бога. Но, в то же время, он считал церковь мировым диктатором. Он даже написал об этом целый трактат, в котором утверждал, что церковь претендует на непогрешимость, а её диктат является обязательным для всего мира.
Многие пишут, что Ньютон много лет изучал Библию. Да, изучал. Вот только его выводы вряд ли понравятся боговерам. А выводы были такие:
1) Торжество Церкви основано на обмане Никейского Собора. И этот обман народов церковниками привел к власти алчных и амбициозных еретиков-идолопоклонников.
2) Из-за введения догмата о Троице и распространившегося культа святых и мощей христианство стало идолопоклоннической ересью, лжерелигией.
Как вам такая оценка вашей религии со стороны Ньютона, господа христиане?
Ньютон не понимал только одного. Религия всегда такая. Другой она быть не может. Возможно, из-за этого непонимания он и верил в единого бога. Если действительно верил. Ведь, как указывалось выше, он видел, как поступает церковь с инакомыслящими, он знал про законодательный акт «О подавлении богохульства и нечестия». В конце концов, исследователи пишут, что друг Ньютона Уильям Уистон в 1710 году был лишён профессорского звания и изгнан из Кембриджского университета за свои утверждения о том, что вероисповеданием ранней Церкви было арианство. Кажется, какая мелось. Но даже такое инакомыслие преследовалось довольно жёстко, как видим. Так мог ли Ньютон открыто говорить что-то иное, кроме того, что он искренне верит в бога?
Да и сам Ньютон не избежал гонений церкви. Его толкования Библии совсем не понравились духовенству. Англиканская церковь признала их «лютой ересью». Что могло ждать Ньютона, можно узнать из законодательного акта «О подавлении богохульства и нечестия». Напомню, что по акту за отрицание любого из лиц Троицы предусматривалось поражение в гражданских правах, а при повторении данного «преступления» грозило тюремное заключение. Церкви было совершенно наплевать на научные заслуги Ньютона. У неё на счету уже были Коперник, Бруно, Галилей. Поэтому только личное заступничество королевы Анны, которая, видимо, понимала всё-таки значение фигуры учёного, спасло Ньютона от церковного суда.



