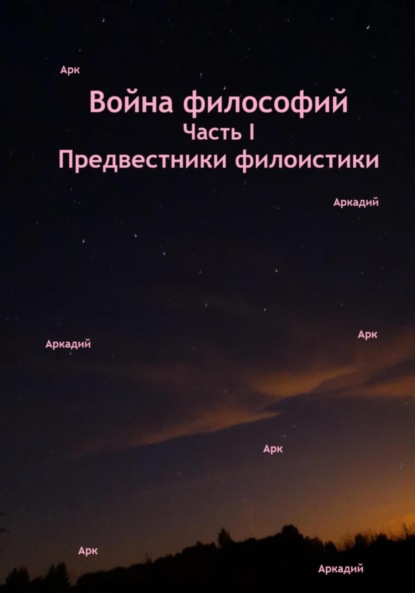
Полная версия:
Война философий. Часть I. Предвестники филоистики
Но тучи над Сократом сгущались долго, ещё лет за 25 до суда знаменитый комедиограф Аристофан высмеял Сократа в комедийной пьесе «Облака», называя его софистом – мастером «кривых речей», который «отрицает богов, принимая за них облака», и развращает своих учеников, ибо воспитывает их в непочтении к религии и традициям, забивает головы нелепицами и учит в своей «мыслильне» за большие деньги. При этом известно, что Сократ учил бесплатно. Ну, или почти бесплатно. Но если даже знаменитый Аристофан так открыто клеветал на Сократа, то можно себе представить, в какой обстановке приходилось жить философу. Поэтому не удивительно, что к 399 году терпение жрецов было переполнено.
Сократ, выступая перед афинянами, говорил: «… говорят, что есть какой-то Сократ, негоднейший человек, который портит молодежь. А когда их спросят, что же он делает и чему он учит, то они не знают, что сказать, и, чтобы скрыть своё затруднение, говорят о том, что вообще принято говорить обо всех, кто философствует: и что, мол, «ищут в небесах и под землею», и что «богов не признают», и «ложь выдают за правду». А правду им не очень-то хочется сказать, я думаю, потому, что тогда обнаружилось бы, что они только прикидываются, будто что-то знают, а на деле ничего не знают». (Платон, «Апология Сократа»).
Вот такая она, война философий. Когда идёт непримиримая борьба с фиктивной философией, цена может быть равна жизни. Естественно, что после казни учителя, Платон вёл себя уже более осторожно. Он рассуждал о богах и душе в угоду религии и невежественной толпе. В то же время Платон не одобрял религию греков, как и его предшественники философы. Он критикует богов, считает, что они появились из-за бурной фантазии людей и в реальности они существовать не могут. К тому же они являются безнравственными существами, аморальными личностями. Красноречиво говорит о позиции Платона и тот факт, что над входом в свою Академию он поместил надпись: «Не знающий геометрии да не войдёт!», показывая этим, что философия и наука тесно связаны, а тот, кто против наук, не достоин и философии.
А от его знаменитый ученик Аристотель уже не избежал обвинений и притеснений. Он выдвигал теорию самозарождения жизни. Немыслимо для религии! Понимая опасность, Аристотель выдвигал также идею о «перводвижителе», что якобы можно считать богом. Но «перводвижитель» Аристотеля не влиял на людей, поэтому трудно назвать его богом. Хотя Аристотель называл это именно богом, понятно, почему. Но это мало помогло. Аристотеля, как и многих античных философов, тоже обвинили в атеизме. Ему даже пришлось бежать на остров Эвбея, где он и умер.
Правда, потом теософы и богословы предпочитали об этом не упоминать, потому что не могли игнорировать заслуг Аристотеля перед философией и наукой. Позднее они даже пытались соединить его логику с богословием, родив очередного гомункула фиктивной философии – схоластику.
Поэтому философов, осмелившихся открыто бороться с религией за честную философию и науку, было не так много. Но и не так мало, чтобы не понять необходимость этой борьбы. А что ещё замечательнее, таких философов можно найти в каждом веке.
Даже теософы и богословы, если пытались мыслить честно и научно, неизбежно приходили к необходимости научной философии. Это читатель увидит ниже на примерах. Многие из философов размышляли о том, почему же философия всегда дискредитируется и никак не может стать наукой. Об одном таком философе хочется рассказать немного подробнее. Но так как он уже не относится к античности, то начну рассказ о нём со следующей главы.
В завершении главы упомяну всего несколько высказываний трёх античных философов, которые показывают непреодолимую тягу философии именно к научности и к науке. Хотя почти у каждого философа есть подобные мысли.
Так Сократ утверждал:
«Истина дороже любого авторитета!»
«Есть только один бог – знание. И только один дьявол – невежество!»
«Следуя мне, меньше думай о Сократе, а больше об истине»
Последнее высказывание напрямую касается проблемы авторитета в философии. Похожую фразу повторял и Аристотель, но уже о Платоне: «Платон мне друг, но истина дороже».
Аристотель и вовсе считал философию не только наукой, но первейшей наукой, наукой об истине. Он ставил философию выше всех наук не потому, что это снобизм, а потому, что все науки – это результат философии, результат осмысления действительности, потому что именно философия охватывает все знания человечества и вырабатывает мировоззрение человека. Каждая наука в отдельности – это специализация философии. Ни одна наука не обходится без философии внутри самой себя. Чтобы открыть что-то новое, учёный вынужден философствовать, осмысливать.
Не менее интересно и его высказывание о том, что ложь не в природе, а в неправильном осмыслении природы. Он это выразил так:
«Ложь и истина не находятся в вещах, а в мыслях. Связь и разделение находятся в мысли, но не в вещах».
Поэтому он считал, что истина – это соответствие наших представлений самому объекту.
Также Аристотель понимал, что философия – не изобретение его времени, а практика мысли, уходящая вглубь веков. Поэтому он утверждал:
«Пословица – сохранившийся обломок древней философии».
И ещё одно важное его изречение:
«Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле».
В подтверждение этой важной мысли хочу упомянуть Диогена Синопского, который говорил, что философия должна проявляться не в писаниях, а в делах. Он считал, что мудрость – это понятие сугубо практическое, и философ должен показывать свой ум своим поведением, а не словесами.
Многие знают фразу Маркса о том, что философия должна изменять мир, но, как видим, ещё в античности были философы, которые понимали необходимость не только теоретической, но и практической деятельности философии. Без практики философия мертва! Те, кто утверждают, что у философии нет практики, совершенно не понимают философии.
Анонимная война философий
В глубокое советское время, в далёком 1969 году Институтом философии Академии Наук СССР была выпущена необычная книга «Анонимные атеистические трактаты». В этой книге рассказывается о том, как европейские мыслители боролись против тирании и догматизма религии, религиозной философии – теософии.
Первое же предложение книги вскрывает огромнейшую проблему философии, которая не решена и по сей день. В книге говорится:
«История свободомыслия ещё не написана».
Как точно сказано. История свободомыслия, действительно, ещё не написана. И эта моя книга, посвящённая войне философий, войне научной философии со лжефилософиями, с фикциями философии, – это ещё не история свободомыслия. Это всего лишь скромное слово философа о том, что такую историю должны написать философиоведы, учёные философы.
Авторы книги пишут:
«История свободомыслия ещё не написана. Ещё не собраны, не изданы, не изучены многочисленные памятники потаённой литературы, которая существовала во все времена как реакция на попытки власть имущих заключить разум человека в оковы господствующей идеологии. В течение многих веков духовную жизнь общества сковывали религиозные догмы. Свободная мысль в этих условиях принимала характер скепсиса, богохульства, порой открытого атеизма. Люди знали, на что они шли, чем рисковали, но угроза заточения. Виселицы, плахи или костра не могла заглушить голоса совести, требовавшей от человека быть самим собой, т.е. мыслить самостоятельно, а не просто принимать на веру предрассудки».
Даже малоизвестные и неизвестные философы, борющиеся за честную и научную мысль анонимно, не афишируя свои имена, вносят весомый вклад в развитие научной философии. До сих пор не известны авторы многих анонимных трактатов, в которых философы боролись с религиозным догматическим мышлением. Среди анонимов скрывались и великие мыслители, и малоизвестные, и совсем неизвестные. Многие рукописи просто бесследно пропали, исчезли в истории. О многих других известно лишь по указаниям в сторонних источниках. Чтобы получить правильное представление об истории войны философий, «следует изучать наследство не только корифеев, но и рядовых борцов за свободу мысли», пишут авторы книги.
Книга рассказывает о французском вольнодумце Жоффруа Валле, который в 1573 году напечатал в Париже книгу «Бич веры» – это сокращённое название. По доносу Валле был арестован. Около года провёл в тюрьме, потом по приговору суда был повещен на площади в Париже в 1574 году. Его тело по приговору суда бросили в костёр. Тут же был сожжён и его памфлет. А ведь Валле даже не отрицал бога. Он всего лишь критиковал некоторые аспекты религиозной жизни и веры. Власти уничтожили весь тираж книжки. В истории остался (так и хочется написать – чудом) один единственный экземпляр. Мистификация была в том, что сам Валле не является автором другого памфлета с тем же названием, но выпущенного уже после его смерти. Якобы его сыном. Название памфлета очень длинное: «Блаженство христиан или Бич веры. Сочинение Жоффруа Валле из Орлеана, сына покойного Жоффруа Валле… Подлинный бич разнообразной веры. Бич правит верой или Война безумной вере…». Название указываю не полностью, но характерно, что в нём упоминается война вере. Война идей. Война философий.
Автор сообщал, что поиски истины заставляют его взяться за перо. И в этом я тоже усматриваю предвестие филоистики, любви к истине, заставляющей философов, несмотря ни на что, идти через тернии лжи к свету правды.
Кроме «Бича веры» были известны анонимные трактаты «Мысли Спинозы», «О трёх обманщиках». Были антирелигиозные трактаты и в Германии, и в других странах, где, хотя и скрытно, развивалась живая и честная мысль. Например, в Германии были известны так называемые «атеистические листовки». В некоторых листовках и трактатах герои открыто говорили о том, что не верят в бога, что их интересует не столько бог, сколько вопрос о том, откуда он взялся. Вполне понятно, почему такая литература была анонимной. Церковь боролась не только с изданиями, но и с издателями, с авторами.
Маттиас Кунцен из Германии выпустил несколько атеистических листовок. В одной из них герой листовки трактирщик говорит: «Я не верю в бога, ни в грош не ставлю Библию, и я заявляю вам, что надо прогнать попов и начальство, так как без них можно прекрасно жить». В третьей листовке Кунцен пишет: «Раньше я часто удивлялся тому, что христиане… ссорятся и враждуют друг с другом, но меня не удивляет это с тех пор, как я узнал, что их свод законов и основа вероучения, так называемая Библия, полна несуразиц и противоречий». «Мы заявляем, что никакого бога не существует».
Естественно, что духовенство изо всех сил боролось в подобными вольностями, идеи которых распространялись в народе и разрастались как грибы, ослабляя религиозную веру и подрывая основы религиозного невежества. Рукописи уничтожались, авторы преследовались и карались по суду.
Но постепенно атеистическая мысль распространялась всё более уверенно, порождая свободу общественному мышлению и развитию свободных наук. Авторы всё меньше прятали свои имена за анонимностью. Хотя гонения церкви не прекращались.
В 1694 году по суду была сожжена книга Фридриха Вильгельма Штоша «Согласие разума и веры, или Гармония моральной философии и христианской религии». Как видим, автор даже не отрицал религию, а только хотел сделать её более человечной, более правдивой, более разумной. Но с религией такие штучки не проходят. Религия не тот институт, который ратует за разумность и мораль. В 1717 году Теодор Лау выпусти книгу «Размышления о боге, мире и человеке». Книга была также сожжена по суду. Подвергся гонениям со стороны духовенства Иоганн Христиан Эдельман, автор ряда сочинений в духе Спинозы. Памфлеты в защиту атеизма выпускали И. Г. Шульц, К. Кноблаух; антирелигиозными афоризмами прославились Г. К. Лихтенберг, А. Эйзиндель.
Проблема даже не в том, что религия всегда воевала с честной живой философской мыслью, которая во все времена противостояла религиозной лжи. Честная мысль неизменно побеждает религиозную ложь, если только им дают равные условия для борьбы. Проблема как раз в том, что у честных мыслителей никогда не было равных условий для борьбы с религией, потому что религия всегда поддерживалась властью. За всю историю существования развитых обществ человечеству удалось лишь на короткие 70 лет создать государство, в котором религия была оттеснена от власти. Это потребовало больших усилий и жертв, но оно того стоило. Новое государство всему миру показало, что религия всегда служит только разъединению, закабалению и деградации народов, всегда выступает ярым противником развитию научной философии (филоистике) и наук. И это понимали не только сами атеисты, но нередко и вполне верующие люди. В следующей главе читатель увидит это на примерах известных мыслителей.
Стремление честных философов к научной философии – филоистике
В этой большой главе я покажу, как философы, независимо от того, атеисты они или теисты, материалисты или идеалисты, если они честно относятся к познанию и философии, неизбежно приходят к научной философии (филоистике), которая строится на принципах атеизма, неизбежно выступают за науку и неизбежно считают необходимыми одни и те же идеи, которые ведут к научности философии, рассматривая эти идеи с разных точек зрения.
И каждый раз фиктивная религиозная и идеалистическая философия пытаются сбить их с научного пути всеми доступными средствами, от идей до репрессий. В этом и проявляется война философий. При этом стоит обратить внимание на то, как философы, даже будучи религиозными людьми, упорно и самоотверженно борются за научность философии, понимая, что иначе она просто превращается в фикцию.
К сожалению, сегодняшние философы совсем отказались от борьбы за философию. Надеюсь, что не все. Очень надеюсь. Это притом, что сегодняшним не грозят все те репрессии и гонения, которым подвергались их предшественники.
Роджер Бэкон о дискредитации философии
Почему я хочу начать эту большую главу с Роджера Бэкона? Причины два. Первая как раз та, что Бэкон задумался о дискредитации философии и тоже выдвинул «четыре препятствия к постижению истины». Вторая причина в том, что Бэкон стремился сделать философию честной и развивал науки.
Роджер Бэкон жил в XIII веке, в Англии, годы жизни: 1214 – 1292. А был он монахом, философом и учёным. Роджер Бэкон утверждал, что в основу истинной науки надо положить опыт и математику. «Всякая наука требует математики» (Opus majus, т. III, стр. 98).
Бэкон во многом опережал свою эпоху в идеях и научных построениях. Он мечтал о соединении науки и техники, о построении машин, которые могли бы приводить в движение судно или повозку, летать по воздуху. Он предвосхитил изобретение увеличительных стёкол и телескопа. Он проделывал опыты с работой пара, с его возможностью двигать машины, пароход.
Известен любопытный текст Роджера Бэкона, где учёный и философ предвидит создание автомобилей, летательных аппаратов, подводных лодок:
«Машины без гребцов могут быть построены для навигации, так что самые большие корабли по рекам или морям будут перемещаться одним человеком с большей скоростью, чем если бы у них была большая команда. Вы также можете строить автомобили, которые без животных будут двигаться с невероятной скоростью. (…) Мы также можем создавать летающие машины, например, человек, сидящий в центре машины, будет вращать двигатель, приводящий в действие искусственные крылья, которые будут бить воздух, как птица в полете. (…) Мы также можем легко создать машину, позволяющую человеку привлечь к себе тысячу других людей насилием и против их воли, а также привлечь другие вещи таким же образом. Машины по-прежнему можно заставить без опасности передвигаться по морю и водным путям даже до дна. (…) И таких вещей можно достичь практически без ограничений, например, мостов, переброшенных через реки без свай и опор любого рода, и невероятных механизмов и устройств».
Как вам такие прогнозы учёного философа XIII века. Много ли сегодня общество знает об этом гениальном учёном?
Но поговорим о причинах дискредитации философии. Когда я выдвинул четыре постоянные причины дискредитации философии (религиозную, политическую, имиджевую и внутреннюю), некоторые философы писали мне, что это якобы «высосано из пальца». Однако, как показано выше, эти факторы дискредитации вполне реальны и серьёзны. Так вот Роджер Бэкон тоже писал о «четыре величайших препятствия к постижению истины». Они у него немного другие. Ниже я поясню, как они соотносятся с моими. А пока просто перечислим их.
Эти факторы, считал Р. Бэкон, мешают достичь подлинной мудрости каждому человеку. К этим четырём препятствиям он относил: пример жалкого и недостойного авторитета, постоянство привычки, мнение несведущей толпы и прикрытие собственного невежества показной мудростью. Бэкон считал, что каждый человек для построения своих выводов пользуется тремя «наихудшими доводами»: это передано нам от предков; это привычно; это общепринято, следовательно, этого должно придерживаться. Он называет это «смертоносной чумой», от которой происходят все бедствия человечества, потому что из-за этого «остаются непознанными полезнейшие, величайшие и прекраснейшие свидетельства мудрости и тайны всех наук и искусств». Также он указывал, что еще хуже от этого, когда люди, «слепые от мрака этих четырех препятствий, не ощущают собственного невежества». «Погрузившись в глубочайший мрак заблуждений, они полагают, что находятся в полном свете истины».
По сути, Роджер Бэкон верно утверждает, что есть неизменные препятствия к постижению истин, а по количеству «препятствий» – четыре – мы с ним сошлись, думаю, по чистой случайности.
Разница в наших системах «дискредитации философии» в том, что я указываю на «области», из которых исходит дискредитация философии: религия, политика, имидж в обществе и внутри философского сообщества. А Бэкон указывает на характеристики мышления каждого человека. При этом в моей системе все его четыре «препятствия» более значимы лишь для внутреннего фактора, рождаемого внутри философского сообщества, в так называемой академической философии.
Я пишу «более значимы лишь для внутреннего фактора» не потому, что они не подходят также к другим «областям», ведь каждый человек может быть подвержен этим «препятствиям», а только потому, что для внутреннего фактора они наиболее разрушительны. Ведь когда этим «препятствиям» подвержены теософы, политики или другие люди, а философы – нет, и последние имеют смелость отстаивать свою правоту, то это всё же менее губительно для философии, чем если бы сами философы были подвержены этим «препятствиям» Бэкона.
Но сам тот факт, что Роджер Бэкон (уверен, что не только он) размышлял над проблемами дискредитации научного знания, подтверждает правоту филоистики, которая указывает на существование неизменных факторов дискредитации научной философии. А также подтверждает стремление философов создать именно научную философию.
Роджер Бэкон ратовал за научный подход к любой деятельности и считал опыт – важнейшим научным методом. Он писал:
«Хотя Аристотель и признавал силлогизм источником знания, но есть случаи, когда простой опыт учит лучше всякого силлогизма». «Выше всяких умозрительных знаний и искусств стоит умение производить опыты, и эта наука есть царица наук». «Доводов недостаточно, необходим опыт».
Трудно не согласиться с этими его утверждениями.
Также интересно и другое утверждение Р. Бэкона. Помните, выше мы упоминали высказывания Парменида: «…мыслить и быть одно и то же»; Декарта: «Я мыслю, следовательно, существую»; и Локка: «Чувствую, следовательно, существую»?
Так вот, ещё до Декарта и Локка Роджер Бэкон утверждал:
«Людям прирождён способ познания от ощущения к уму, так что, если нет ощущений, нет и науки».
А все эти утверждения неизменно приводят нас к формуле Маркса: «бытиё определяет сознание». Думаю, не нужно объяснять, что наше бытиё создаёт наши ощущения, а они создают наши мысли, которые и есть – наше сознание.
Как математик, Роджер Бэкон с пиететом относился к этой науке. Он писал:
«Математика была открыта первой из всех частей философии, ибо от начала рода человеческого она была открыта первой…».
Мы не будем спорить о том, действительно ли «из всех частей философии» первой была открыта математика. Поверим тут Бэкону на слово. Но я считаю важным для нашей темы указать на тот факт, что в то время математика считалась частью философии. Это поздней, когда философия уж сильно себя дискредитировала теософией и теологией, науки стали её сторониться и сторонятся до сих пор. Причём, во многом по той же причине.
Тут мне важно указать на то, что это утверждение Бэкона в очередной раз доказывает правоту филоистики, в которой является аксиомой тот факт, что все науки – это, по сути, специализация философии, деление её «на части» по разным научным дисциплинам, что начал делать ещё Аристотель, как показывалось выше. Хотя, по факту, это делалось и до него.
Также можно указать и на одну неточность Роджера Бэкона. Он пишет:
«Математические знания как бы прирожденны нам, ибо, как рассказывает Цицерон в «Тускуланских беседах», маленький мальчик на вопросы по геометрии, задаваемые ему Сократом, отвечал так, как если бы он уже обучался геометрии».
Тут Бэкон говорит о «прирождённых» знаниях, или, как бы сказали кантианцы – априорных. Он приводит в пример беседу Сократа с мальчиком. Но этот пример неудачен, т.к. Сократ скорее подталкивал мальчика к правильным ответам своими вопросами-намёками, чем тот действительно отвечал самостоятельно и обдуманно. Да, мальчик был сообразительный, но прирождённых знаний математики у него не было. Знания нам, конечно, не прирожденны. Все знания исходят из опыта. И сам же Бэкон выше утверждал, что знания идут после ощущений, после чувств, после опыта.
К чести Бэкона, тут нужно указать, что он не утверждает категорически, а пишет: «знания как бы прирожденны», то есть не «прирожденны», а «как бы». И это всё меняет. Это не ошибка, а не точное утверждение, неточность. Он просто намекает на то, что истинные знания может получить любой человек, и даже самостоятельно, если будет относиться к познанию честно, помня о тех «препятствиях», которые способны дискредитировать само познание.
Как видим, даже монах, если подходит к исследованию мира без вранья и фантазий, неизменно приходит к научной философии (филоистике).
Как думаете, каков был итог жизни Роджера Бэкона? Увы, вполне предсказуемым. Его учение было осуждено церковью, а его самого отстранили от преподавания в Оксфордском университете. Затем его заточили в монастырскую тюрьму, где он провел 14 лет! Но и в тюрьме Бэкон умудрялся заниматься наукой и экспериментами. Из тюрьмы Бэкон вышел уже дряхлым стариком и вскоре умер.
Так на деле происходит война философий. Борьба религии и теософии с научной философией и науками идёт вполне серьёзная, недооценивать которую бывает смертельно опасно.
Дунс Скот – искатель истины
Дунс Скот (1266 – 1308), британский (шотландский) теолог, философ, номиналист, схоластик и францисканец. Он оказал значительное влияние не только на церковную, но и на светскую мысль.
Конечно, как теолог, Д. Скот искал доказательств существования бога и непорочного зачатия. Однако он задавался не только теософскими, но и вполне философскими вопросами. Например, «способна ли материя мыслить?». Его интересовали также вопросы космологии, антропологии, свободы воли. Он рассуждал о примате воли над умом. Естественно, его интересовали и вопросы этики. Также он внес весомый вклад в развитие классической логики.
Некоторые исследователи указывают, что Скот был не согласен со средневековым принципом «philosophia theologiae ancilla» – «философия – служанка богословия», и вполне справедливо, потому что он понимал различие между научной и ненаучной философией, хотя и не мог провозглашать это открыто.
Ему был присущ разумный эмпиризм, не дозволяющий выводить конкретную действительность из общих принципов; он вывел концептуальное понимание субстанции вообще и духовных сущностей в частности; представлял мир как имманентно развивающееся целое; был убежден, что истинная жизнь не сводится к мышлению ума; считал, что любовь выше созерцания.
Уильям Оккам против ложных истин
Уильям Оккам (1285 – 1347), английский философ, францисканский монах, теолог, логик, политический писатель.
Сегодня наиболее известна идея Оккама о принципе экономии мышления, или идея о том, чтобы не плодить лишние сущности, идеи там, где и без них всё ясно. Этот принцип называют «Бритва Оккама». Принцип утверждает, что из нескольких идей, объяснений, или даже теорий всегда следует выбирать то, что имеет наиболее простое объяснение, требующее наименьшего количества неподтверждённых предположений.



