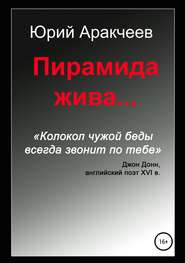 Полная версия
Полная версияПирамида жива…
И в конкретной судьбе этой женщины видел я судьбу каждого из нас: ушедшее время, потерянная жизнь, беспомощность. Но – бодрость духа. Попытка вернуть и прожить хоть теперь, несмотря на убожество плоти. «Интересная, необычная…»
Да, она была мне чрезвычайно интересна, неведомая эта «В.В.», но ехать к ней нужно было свободным хотя бы в той степени, какую я мог достичь в рамках своего бытия. Открыться ее судьбе, не обмануть доверия, поддержать в этой ее надежде – хоть так помочь…
Восьмое письмо:
«Может быть, Вы и правы, не надо Вам ко мне приезжать…»
Но я не писал об этом и по телефону не говорил! Я только еще и еще раз просил подождать окончания повести. Для себя давно понял: незаконченное дело закрепощает страшно, лишает трезвости, ясности. Тем более это важно, когда нет гарантии напечатания. Хоть в чем-то не быть игрушкой, а – проявить волю свою! Но она, милая эта женщина, изнывала в затянувшемся ожидании в объятиях еще одной долгой зимы. Да, я был жесток к ней, понимаю. Но ведь ко многим вынужден был быть жестоким! А другие, кто писал мне? А те, кто умолял о немедленной помощи (как будто я мог ее оказать!)?…
«…Я посылаю Вам кое-какие записи своей жизненной «исповеди». Может, сумеете использовать хоть что-то из того, что я «с пятого на десятое» нацарапала. Одно только меня смущает – не покажется ли Вам это ложью. Даю честное слово, что до единой буквы все – честная чистая правда. Имена все подлинные, я ничего не меняла. Как было, так и есть. Если не нужно – уничтожьте. Хорошо? И еще: если все-таки занесет Вас в Ленинград, заезжайте. Всегда рада Вас встретить у себя и принять как самого дорогого человека. За всю мою жизнь я никому о детстве своем не говорила. Стеснялась. Очень хочется, чтобы Вы могли из моей горькой участи сделать что-либо. Чтобы хоть кому-то было лучше от моих испытаний. Я устала Вас ждать. С уваж. В.В.»
Встреча
И вот…
Нет, я еще не закончил повесть. Осталось чуть-чуть – концовка. Но уже окончательно стала ясна судьба «Пирамиды» в прессе – глухое молчание. Надежда на выход отдельного издания оставалась, но радости от этого не было. Уже прошла телепередача о встрече редакции журнала с читателями, где о «Пирамиде» не было даже и упомянуто, уже миновало куцее «обсуждение» в Доме Литераторов. Иллюзии рухнули, наступила мрачная ясность. Арестована была телезапись моего выступления, так и не прозвучала на радио запись встречи в клубе МВД, письма пока еще шли, но радости от них не было – одна лишь горечь беспомощности. Заканчивался третий год «перестройки», изменений в жизни не было никаких – лишь обескураживающая, удручающая и все больше раздражающая своей безрезультатностью и все еще хитро дозируемая «гласность». Правда, надежа на выход новой повести оставалась. В сущности, эта повесть была о том же, о чем «Пирамида», но если там много публицистики и документов, то здесь – чистая литература. По крайней мере, я сам так считал. И не только я. Некоторые из моих «личных» читателей считали даже, что это, возможно, будет лучшая моя повесть. И она очень нужна сейчас, так как при всей своей «вневременности» весьма злободневна. Но перед самой концовкой можно было и отвлечься, ведь осталось совсем чуть-чуть.
И я позвонил Валентине Владимировне и сказал, что, наконец, приезжаю. Остановлюсь у своих друзей в Ленинграде, а как только приеду к ним – позвоню. И число назвал – взял билет.
Надо еще сказать о голосе. Письма – одно, голос по телефону – другое, новое. Впервые услышав В.В., я подумал, что ожидал не такого. Несмотря на бодрость писем, ожидал услышать все же голос усталой пожилой женщины, надломленный, надтреснутый – ведь жертва ГУЛАГа! Голос был живой, бодрый, не то, чтобы молодой, конечно, но вовсе не прокуренный, не надтреснутый. Кто же она, как выглядит? Высохшая седая старушка, одинокая, всеми брошенная, больная, заранее расположенная ко мне как к сыну, что ли, который выслушает, пожалеет, запишет историю нелегкой ее жизни, чтобы оставить потомкам?… Голос голосом, а жизнь берет свое, время порой не властно над духом, но оно безжалостно к плоти. Какая она?
Остановился у друзей, позвонил. На другое утро еду. Сорок минут электричкой, пригород Ленинграда. Провинциальные дома, заборы. Поселок городского типа. Февральский солнечный день, все еще в снегу.
Вот эта улица, вот этот дом. Где квартира?
– Где 34 квартира, не подскажете?
– А вон тот подъезд, на первом этаже.
Обшарпанная лестница. Унылая деревянная дверь. Звонок.
– Так вот вы какой! А я думала, уже не приедете никогда. Устала Вас ждать. Проходите, проходите вот сюда, не стесняйтесь. Раздевайтесь здесь. Ботинки можете не снимать, это снег, ничего страшного. Ну, вытрите слегка о коврик. Проходите, проходите, садитесь. Вот сюда садитесь. Наконец-то я вас повидала… У меня палец болит, как назло, упала тут на днях, скользко очень, сломала руку. Но ничего-ничего, ерунда, проходит, все до свадьбы заживет, жаль только сыграть Вам не смогу, Вы же знаете, что я музыку преподаю, мечтала Вам сыграть, а тут, как на зло…
Полная. Совершенно седая. Очень подвижная. Глаза светлые и прямо-таки лучатся энергией. Говорит, не переставая, не давая мне слово вставить. Очень возбуждена. Возраст? Внешне – за шестьдесят, но очень энергична. Тут же еще одна женщина средних лет – худая, молчаливая, скромная, темная, успела тихо сказать одну только фразу:
– Она Вас очень ждала…
– Валька! – весело, по-хозяйски закричала Валентина Владимировна. – Валька, сбегай-ка за хлебом, представляешь, я хлеба свежего не купила, только вчерашний, и еще возьми молока или кефира. Будете кефир пить? Вот Вы какой, молодой, оказывается, а я уж думала, Вы никогда не приедете, а вчера почувствовала, что Вы приехали, я звонила Вашему другу, когда вы только вошли, умывались, я Вас на расстоянии чувствую, да, знаете, я тут две тетради толстых уже исписала, посмотрите, возьмете с собой, если понравится, может пригодится когда-нибудь моя писанина, чем черт не шутит. Ну, как Ваша повесть, закончили, наконец? Завтракать будете сейчас или сразу обедать? Я тут пельменей наварила, любите пельмени? Нет-нет, не хотите обедать – позавтракать все равно надо, вот, у меня портвейн есть прекрасный, а хотите – коньяк, Вы что лучше хотите? Чай? Кофе? Вы, конечно, останетесь ночевать, я уже договорилась с приятельницей, она тут рядом живет, квартира в Вашем распоряжении, сейчас мы пока будем говорить, а Вы потом все это почитаете. Вот тетрадь – видите, сколько нацарапала старуха, – а вот и еще, меня, знаете, прорвало, плохо, наверное, написано, но уж как могла, если заинтересует, Вы тогда обработаете, а нет – выбросите, бог с ним, я уже за то благодарна, что хоть немного заинтересовались и приехали вот. А Валька – это соседка моя, приходит помочь иной раз, у меня сейчас рука поджила, а то плохо было, страшно было выйти, скользко ужасно…
Вернулась «Валька», принесла кефир, еще что-то, Валентина Владимировна как-то слишком небрежно обращалась с ней, мне это не понравилось сразу, но «Валька» воспринимала спокойно, лишь слегка улыбалась. Еще в квартире был кот, какой-то совсем не породистый и ободранный, перевязанный тряпкой. Увидев, что я обратил на это внимание, Валентина Владимировна сказала, что подобрала его на улице – ребята хотели убить, измывались, вообще молодежь здесь в поселке страшная, да и не только молодежь, а и взрослые, так что надо осторожнее, но здесь еще ничего, а вот она раньше жила в нескольких остановках отсюда, подальше от Ленинграда, за сто первым километром, так там вообще сплошные убийства – живут потомки тех, кто был когда-то сослан раньше, и те, кто сослан за пьянки, хулиганство, проституцию теперь.
Прежде, чем уйти, «Валька» немножко постояла, мило и ласково улыбаясь, и Валентина Владимировна вдруг ни с того ни с сего посреди своего монолога сказала, обращаясь к ней:
– Какой мужик, нет, ты посмотри, надо же, какой мужик, ни за что бы не упустила, если бы раньше. Эх, где мои семнадцать лет, да ладно семнадцать, годочков хотя бы двадцать скинуть.
И тут же, обращаясь уже ко мне:
– Да, ни за что бы не упустила Вас! Я о таком мечтала. Ну, да что там. Ладно, садитесь давайте за стол, сейчас немного позавтракаем, потом поговорим, если хотите, Вы погулять можете, тут у нас воздух хороший, не то, что в вашей Москве, а потом – обедать…
Она все время чего-то стеснялась. Во всяком случае, у меня было такое чувство. И говорливость тоже казалась неестественной, натянутой, на надрыве. Я в общем-то не из молчаливых, но тут она меня подавила. Усадила за стол в комнате зачем-то, хотя вполне можно было на кухне, я сказал это, но она не хотела и слушать. Коробку конфет и еще что-то я привез одинокой бедной старушке, но она нагородила на стол много всякого – и варенье, и лимон, и печенье, и какие-то булочки, и тоже конфеты (где только достала?), хотела открыть и мою коробку, но я сказал не надо, и она заявила, что будет хранить эту коробку как память… Сунула мне то ли две, то ли даже три толстенных тетради, исписанных крупным, круглым каким-то почерком – торопясь, неэкономно, с пропусками страниц между описаниями эпизодов: «Вы сегодня будете читать или потом? Вы все можете взять с собой, если хотите, я ведь для Вас писала. Полистайте, посмотрите, может и не стоит тяжесть тащить, Вы знаете, я сама не представляю, что я там накалякала, не перечитывала, а то начну перечитывать, не понравится и порву. Меня прорвало, ночами писала, жизнь как будто снова переживаю, ужас. Знаете, что у Вас самое главное? Глаза! Смотрите как будто в самую душу, и мне кажется, что Вы добрый человек, не знаю, может быть, я и ошибаюсь, но нет, у меня на людей чутье, стольких я уже за свою жизнь повидала. У вас очень сильное поле, Вам говорили? Вы как-то гипнотизируете… Да, за почерк уж извините, тут уж ничего не поделаешь, останавливаться нельзя, а то мысль прервется. Я ведь никому не рассказывала, а много есть, чего сказать, вся жизнь у меня сейчас, как на ладони, и как будто не со мной все происходило…»
Наконец, я попил чай. Она не пила – только подсовывала мне то конфеты, то булочку, то варенье: «Я уже завтракала» – «Но я-то ведь тоже» – «А вы после дороги… Знаете, что я думаю – Вы сейчас полистайте, почитайте мою писанину, а тогда и говорить будет легче. А может, погуляете? Смотрите, какая погода, день прекрасный, как будто нарочно к Вашему приезду…»
Я вышел на улицу. Снег был недавно выпавший, свежий, небо пронзительно голубело, солнце светило отчаянно – конец февраля. Я обожаю весну. Февраль когда-то был самым любимым месяцем – «весна света», по Пришвину: зима кончается, а опьяняющая весна, несказанная прелесть цветения, длинных дней, птичьих песен, все это еще только предстоит, а ожидание ведь лучше свершения – еще не так тревожит горечь потери… Но теперь мой любимый месяц все-таки май. Кипение, буйство звуков, ароматов и красок – не предстоящее, а свершаемое, здесь и сейчас. А февраль – воспоминание юности, ностальгия.
Грустно было, почему-то грустно. Все оказалось гораздо лучше, чем я ожидал: она вовсе не высохшая, не подавленная, бодрая и вовсе как будто бы не больная, жизнь так и кипит в ней. И то, что она писала, было неожиданно хорошо. Без нытья, без смакования ужасов, просто, ясно, без самолюбования и самоуничижения, свежо и ярко. Честно, трезво, спокойно. А ведь под расстрелом сидела девочка в 20 лет. И – ни за что, абсолютно ни за что. Если сейчас в ней жизнь так кипит, то что же было тогда?
– Я помню ваши письма и записи, которые вы присылали. Кое-что сейчас посмотрел. Это все о том, что было уже там. И все больше о других. Если можно, то… Как это произошло, что вы оказались там? С чего? Вы писали, что тетка… Неужели правда? Если можно, то мне хотелось бы побольше узнать о вашей жизни до… 16 лет… Как же можно было шестнадцатилетнюю девочку…
Это был мой первый вопрос. Она внимательно смотрела на меня. Потом начала отвечать.
– Понимаете, я уже писала Вам, что моя мама была красивая и удачливая, а тетка…
Постепенно она увлеклась. Я помогал ей коротенькими вопросами. И вот уже видел простенькую, не очень путевую девчонку, взбалмошную, подчас бестолковую, с музыкальными способностями, без претензий, без гонора, очень наивную, добрую. Именно такой, как видно, была ее мама, а тетка, родная сестра матери, желчная, сухая, с гонором и претензиями, с явным комплексом неполноценности, верховодила в семье. Она была махровая сталинистка…
Обычная история, обычная «классовая» вражда – бесталанных к талантливым, неумелых к умелым, нелюбимых к любимым. Мне плохо – так пусть и всем будет плохо, чем хуже другим – тем лучше мне. Сталинская искра, сталинская атмосфера, дьявольская машина для уничтожения лучших. Да еще и наследство ожидалось от деда, бывшего купца, случайно уцелевшего. Одну конкурентку подчинить, уморить, посадить другую, неважно, что эта другая – девочка. Вырастет ведь, придется делиться.
Я верил каждому слову, да ведь и похоже все это было очень на правду. Не то же ли и сейчас? Разве что одряхлела слегка дьявольская Система. «Кто был ничем – тот станет всем!» Почему? За какие такие заслуги? А если «ничем» был из-за лени, из-за духовного, нравственного ничтожества своего? Все равно – «всем»? Вот и получилось: «грабь награбленное!»… Мать была беззащитна. Она не политикой занималась, а музыкой. Она не завоевывала Валиного отца, он сам полюбил ее. И удачи приходили к ней не потому, что она боролась за них и страстно желала, а потому что любила – своего мужа, работу, жизнь. И все платили ей тем же. А вот тетка, очевидно, любила только себя.
Теткин «стук» в милицию – и следователь с семилетним образованием, сельский парень Костя Красилов, быстренько стряпает «дело». Шестнадцатилетняя девочка – опаснейший «враг народа». Ее нужно немедленно изолировать, потому что она – по свидетельству бдительной гражданки такой-то – пела частушку антисоветского содержания, а это чревато. Таким не место среди честных советских людей, строящих свое лучезарное завтра. В частушке – страшно сказать – было проявлено неуважение – чур меня, чур! – к великому нашему, самому-самому, горячо и преданно любимому Родному Отцу. И уж тут, как вы понимаете, оправдания не может быть никому. Даже ребенку.
– А что было в частушке? – спросил я.
Валентина Владимировна замялась.
– Да ерунда сплошная. Придумали глупость какую-то.
– А конкретно помните?
– Ну… Одна такая была: Ай, калина-ка́лина, мы поймаем Сталина, в жопу пороху набъем, порох спичкой подожжем…Ну глупость же несусветная. А тетка в доносе ее и написала. И этого оказалось достаточно.
Валентина Владимировна печально усмехнулась.
Но самое удивительное, что не ощущал я в ней никакой озлобленности. Она рассказывала очень просто, даже ностальгически как-то. Как если бы речь шла об обычном детстве обычной мирной школьницы. Да, вызвали в милицию, да, арестовали. Посадили сначала в «воронок», отвезли в тюрьму, потом в «столыпин»… Она и в психбольнице была какое-то время – об этом рассказывала тоже. Вон еще когда это практиковалось. Но ее, правда, посадили не как диссидентку, а проверяли на самом деле. Тогда не нужно было лукавить властям, все было проще – в концлагерь или в расход, зачем еще какие-то врачи, уколы…
Один особый вопрос хотел я ей задать, хотя сделать это было не просто. Впрочем, чего там. Не ответит – настаивать не буду. Но ведь это важно. Для женщины особенно.
– Валентина Владимировна, вам шестнадцать было перед тем, как… начался этот кошмар. Не отвечайте, если не хотите, но ведь это очень важно. Вы писали про мужа, потом дочь… А… любовь была у вас? Там, значит, да?
– Какая там любовь! Что-то было, конечно, но так… После первого срока, на высылке. Да мне это и не к чему было. Я понятия не имела, что это такое.
– А до? В школе, может быть… – набрался я смелости.
– Да что вы! Я до первого срока и не целовалась ни разу. А в лагере… Там не до этого. Какая там любовь…
И еще вопрос был.
– Сейчас, на расстоянии, прошлое кажется вам даже интересным, – исподволь начал я. – Все это действительно чрезвычайно интересно, особенно когда слушаешь вот так, со стороны, от человека, который не только выжил, но и сумел себя сохранить. Знаете, мне всегда казалось удивительным, что люди, прошедшие войну, вспоминают о том времени даже с какой-то нежностью подчас. Несмотря на весь тот ужас, постоянный риск – смерти на каждом шагу! – было, как это ни странно, и что-то хорошее: единение людей перед общей опасностью, чистые взаимоотношения, верность, бескорыстие, самопожертвование. А у вас…
– О, нет, всего такого там почти не было. Было, но очень мало, – перебила она меня. – Там лишь бы выжить. Люди превращались в доходяг, жизнь ничего не стоила. Я же вам говорила, что отказывалась от помилования, искренне хотела, чтобы меня расстреляли…
– Нет-нет, Валентина Владимировна, я не о том. Вот ведь тринадцать лет вы там были. Молодость, самое время. Вы писали, что та жизнь кажется вам интересной, необычной, я прямо хочу спросить: были у вас хоть какие-то дни счастливыми? Ведь и в трудном сиротском детстве…
– Поняла. Нет, таких дней не было. Какие там счастливые… Впрочем, нет, подождите. Вот, пожалуй… Это когда уже расстрел дали. Сижу в камере смертников. Решетка. Перед окном, чуть внизу часовой ходит, молодой парень. Увидел меня, какие-то знаки делает. Смотрю, на штыке протягивает сверток маленький. А там сигарета и спички… И так мне вдруг хорошо стало. Вот, хоть и перед смертью, а посочувствовал человек. Им ведь за это, знаете… Хорошо, что никто из начальства не видел.
– Да, ничего себе, – сказал я. – И это – все?
Она задумалась.
– Нет, пожалуй, еще вот это… На Колыме. Меня тогда за зону выпускали. Еду как-то за дровами. На подводе. За ворота выехала. Лес вокруг, дорога в лесу. Зима, солнышко вышло, снег блестит. Как будто нет ничего другого – ни зоны, ни часовых с собаками, ни Сталина, ни доходяг. Сижу я на подводе, спиной по ходу. И вдруг лошадь останавливается резко. Я аж с подводы слетела. Что такое? Смотрю – впереди нарты груженые, олени… А парень молодой под уздцы мою лошадь держит. Смеется и на меня смотрит…
Неудача с повестью
Ночевать я не остался. Да и не нужно было. До Ленинграда недалеко, а друзья меня ждут. И ведь толстенные тетради записей она мне дала. И переварить надо то, что узнал. И повесть в Москве закончить. Рано еще погружаться в эту историю.
Кот, перевязанный тряпкой, был не единственным ее опекаемым. Во второй половине дня заявилась собака – маленькая, серенькая, но боевая дворняжка. Она не могла долго находиться в квартире – ела, просилась на улицу, а потом снова тявкала у дверей. Валентина Владимировна весело отчитывала непоседливого «Джека».
Еще она показала фотографию дочери. Дело в том, что дочь родилась в лагере и в младенческом возрасте ее уронили. Теперь ей уже сорок лет, она в Доме инвалидов, практически не говорит, по уровню развития – трехлетний ребенок. Больше у нее никого нет, даже родственников. Мужей было то ли два, то ли три, но с ними не заладилось. Любви так и не было, ни одной.
Началась весна и пролетела быстро. Наступило лето. Это был период моего стресса. Письма, прекрасные, но мучительные письма читателей, просьбы о помощи, звонки, молчание прессы, ощущение предательства «левых». Толстые тетради ее я, разумеется, прочитал тогда же, но бандеролями приходили еще. Ее, как она сама выражалась, «прорвало», писала и днем, и ночью. Не перечитывая, посылала мне. Некоторые тетради были исписаны едва наполовину быстрым, крупным и круглым, небрежным почерком – не заполнив одну до конца, она отправляла ее мне и начинала другую. Прошлое властно напоминало о себе, требовало внимания и воплощения – бессмертия. Против моего ожидания и желания, наша пока что единственная встреча произвела слишком сильное впечатление на нее. Конечно, я был «повинен» в этом лишь отчасти – то, что сейчас выплескивалось на страницы тетрадей, давно уже копилось в ее душе, и нужен был, очевидно, лишь определенный толчок, чтобы мощный эмоциональный двигатель заработал. Сначала таким толчком была случайно прочитанная «Пирамида», потом наши письма и, наконец, встреча. Главным, что подействовало на нее, было, очевидно, мое внимание. Ее судьба и ее личность искренне интересовали меня, а это и было то, чего она в жизни слишком мало встречала. Вот письмо, которое пришло почти тотчас после моего возвращения в Москву: листок из тетради в клетку, а на нем одно только стихотворение:
«ВАМ
Избита, истерзана жизнью,
У жизни смочалено дно.
Какие уж тут метафоры,
Когда нету веры давно
Ни в прошлом, ни в настоящем,
Ни в будущее, ни в людей.
Учили в бараках смердящих
По взлетам преступных идей.
Что было со мною – я знаю,
Попробуй теперь, докажи,
Что ложью нас всех отравляли
Родные, чужие, вожди.
А думалось… А хотелось…
Да разве все вспомнишь теперь!
И тихо сама затворилась
Желаний узкая дверь.
Лет двадцать жила полусонной,
До смерти считала года.
Проснулся вдруг дух возмущенный,
На память имевший права.
И вспомнилось, и отрыгнулось,
И пишется, пишется мне.
А как передать это людям?
Как всем рассказать о себе?
Летят мои письма по почте
Кому? Я не знаю сама.
Вдруг стали бессонными ночи,
И вспять отступили года.
Приехал. Было? Иль не было?
В беседах – тончайшая нить…
Мне хочется это хорошее
До смерти в душе сохранить.
Об этом – никак не напишется,
Сказать – так еще засмеют.
Спасибо таким мужчинам,
Что женщинам счастье дают.
За сдержанность, за обаянье,
За глаз глубину без дна,
За чуткость и понимание,
Что женщина – и одна.
За книги талантливо-тонкие
(Вы слышите? Я кричу!!)
За нежность к нему бескрайнюю,
За то, что «зажечь свечу».
В.В.»
Последние два слова – название сборника повестей и рассказов, который я ей оставил.
А письма читателей все еще шли. И встречи «по звонкам» продолжались. Повесть с названием «Карлики» я, наконец, закончил. Но уже почти не осталось веры в ее публикацию, особенно в том журнале, где опубликована «Пирамида».
Большинство читателей рукописи считали, что это моя лучшая повесть, но уверены были, что сейчас ее не напечатают все равно. «Карлики» – это как бы постоянные двойники человека, его персонифицированные недостатки. Говорят: «он вне себя» или «он пошел в разнос», «он сам не свой, я не узнаю его»… Это происходит тогда, когда человек пребывает во власти одного из роковых своих недостатков – то есть «карлик» подчиняет себе человеческое сознание, чтобы пользоваться энергией, жизненной силой живого человека. Один «большой карлик» может подчинить себе многих маленьких, украсть энергию подвластных им людей, превратив их в «зомби», управляемые живые роботы. В сущности именно это и происходило и происходит со всеми нами, а метод большого карлика очень похож на метод «демократического централизма». Или самодержавие. Написана была повесть в чисто художественной, беллетристической манере – в отличие от публицистической, в которой была написана «Пирамида».
Дождавшись, когда Главный редактор журнала вернулся из очередной заграничной командировки, я пришел к нему.
– Что вы! Как вы могли подумать о нашем плохом отношении! Посмотрите-ка, – обратился он к человеку, который тоже был в его кабинете, знакомому мне молодому писателю, – автор «Пирамиды» сомневается в нашем к нему отношении! Ну, а что рецензий нет, так наверное просто очередь не дошла. Сейчас о Платонове да о Солженицыне пишут. А что, разве нет рецензий? Постойте, мне как раз на днях кто-то из секретарей вашу повесть хвалил… Принесли новую? Давайте, где она. Так, хорошо. Передайте в отдел, пусть зарегистрируют, как у нас положено.
Этот наш диалог только еще раз прояснил, что я был для них чужой. Повесть я передал в отдел, довольно скоро ее прочитали. Заведующий отделом назначил мне встречу. Он сказал, что повесть мне «совсем не удалась». Я понял так, что и ее заведующий воспринял как сугубо мою «личную линию»…
Долгое ожидание
Кажется, еще весной пришла первая посылка. В фанерном ящике вместе с очередными тетрадями Валентины Владимировны был шоколад, сгущенное молоко в банках, чай… Все это в те времена было лакомством, дефицитом… Что было делать? Отослать обратно? Но ведь она от души, это обидит ее. В свою очередь послать ей что-то? Но что? Она и во время встречи, и по телефону не раз говорила, что у нее все есть, ей ничего не надо. И действительно, она никак не подходила на роль бедной старушки, которой необходимо призрение и опека. А у нее проснулась потребность о ком-то заботиться, чисто женское, понятное желание, в общем-то. Не жестоко ли будет отказать ей в этом? С деньгами у нее, как будто бы, тоже все в порядке – нормальная пенсия, кроме того она вяжет, у нее даже машина вязальная есть, эта ее «индивидуальная деятельность» неплохо оплачивается.

