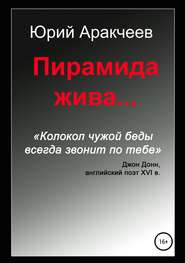 Полная версия
Полная версияПирамида жива…
– Но ведь это действительно вовсе не грех, – сказал я, внимательно слушая Михаила Матвеевича. – Что ж тут плохого?
– Это не грех, я уже говорил, но тут чрезвычайно важно чувство меры. Это очень тонкий вопрос. Посмотрите, сколько сейчас выявилось витийствующих героев – витийствующих на словах, ибо строить жизнь и вообще делать что-то гораздо труднее, чем со всевозможных трибун об этом вещать и тем самым делать себе рекламу. Я ни в коей мере не хочу принизить Сано, поймите меня правильно, я очень уважаю его, это мой друг. Но ведь наша задача с вами понять, разобраться, сделать и для себя выводы, правда ведь? Так вот, когда я сейчас пытаюсь понять, почему все-таки он погиб, почему такой сильный и умный человек не смог удержаться в этой жизни и пережить своих противников, я думаю, что его ошибка, его слабость была где-то именно в этой области. Чуть-чуть… Но в той сфере и на той высоте, на которой он, волею судеб, оказался, это «чуть-чуть» как раз и может стоить жизни… Вы понимаете меня?
– Да, – сказал я. – Понимаю. И очень внимательно слушаю. То, о чем вы говорите, действительно очень важно для всех нас. Тем более, если мы хотим победить на самом деле.
– Ну, в общем, какое-то время он был на преподавательской работе, очень недолго, а потом получил этот пост – начальник уголовного розыска Республики. Это было как раз для него. Поиск, расследование, работа для недюжинного ума. Тут его талант нашел себе применение! Работать он начал и, помимо прочего, стал собирать досье и на самых высокопоставленных лиц. И где-то здесь, наверное не рассчитал. Об этом узнали… Естественно, тотчас перевели на другую должность – это было как бы предупреждением. Должность, надо сказать, неплохая: директор республиканского ВААП. Конечно, это работа менее интересная, но самостоятельности здесь зато было больше. Там, на прежнем посту, он сильнее зависел от начальства, а здесь – глава ведомства. И все равно он оказался во власти обиды. Обиды, понимаете! А это очень опасно. Вот тут, наверное, он и совершил самую роковую ошибку: решил объявить войну, которая заведомо была обречена на поражение. На одном из публичных собраний он впервые обнародовал собранный ранее компромат на одного из высокопоставленных лиц, входящих в номенклатуру… Шаг был весьма серьезный. Верхи поняли: надо с ним кончать. Но как? Ясно: нужен компромат на него самого. Тут, конечно, не осталось в стороне определенное ведомство… Выбор пал на одного из его близких друзей. На него уже был компромат, его вызвали и поставили вопрос ребром: или ты работаешь на нас, или… Друг выбрал первое. Ему дали маленький аппаратик, и он теперь записывал все, что говорилось Сано и его друзьями в узком кругу… Потом был подключен следователь по особо важным делам… Накрутили ему десяток статей – и хищение в особо крупных размерах, и ложный донос, и превышение власти, и клевету, и даже… хулиганство. Могу поделиться опытом: если обвинение строится на множестве статей – это почти наверняка липа. Значит следствие из себя выходит, лишь бы накрутить на человека побольше. Я внимательно изучил приговор: ни одного эпизода не доказано, фабрикация, как говорится, налицо. Но сделать в то время ничего было нельзя – это заказ. За всем этим прослеживалась рука самого Демирчана, первого секретаря тогдашнего ЦК. Обстановка, сами понимаете, была такая, что помочь Сано в то время не мог никто… У него был прекрасный адвокат – жалобу написал на 150 страницах на машинке, подробно разобрал каждый пункт обвинения. От приговора не осталось камня на камне. Ясно было, что такую длинную жалобу посылать нельзя – никто не станет ее читать. По просьбе Сано я составил сокращенный вариант – 24 страницы. Но все это совершенно бесполезно…
Михаил Матвеевич помолчал, а я – как, наверное, и вы, читатель, – подумал о том, насколько примитивен, насколько же обычен сценарий! Даже сдержанные наши газеты обнародовали столько подобных случаев! Закон – на службе, закон – орудие власти одних людей над другими. Пирамида… 14 лет накрутили – больше, чем за убийство! – и за что же? А за то, что задел одного из… И нашелся «друг», нашелся следователь подходящий, нашлись судьи, нашлись и равнодушные свидетели беззакония – все так знакомо…
– Вы, конечно, знаете, что Сано возражал против амнистии, – продолжал Михаил Матвеевич. – Не амнистия нужна была ему, а полная реабилитация, по крайней мере пересмотр дела. Но его все же освободили именно по амнистии. Демирчана уже не было, его сместили. Но… Люди-то, руками которых Сано посадили, эти люди-то остались. Естественно, он требовал пересмотра дела и наказания тех людей. Раньше, при Демирчане, они чувствовали себя в полной безопасности, но теперь… Теперь Сано стал им опасен, смертельно опасен. Он не уступал, не шел ни на какие компромиссы – это и понятно, человек отсидел 9 лет по сфабрикованному обвинению, вина на нем еще как бы и осталась… Вы понимаете, что вопрос уже был: кто кого? И вот весной – да, уже было тепло, уже выезжали на выходные на дачу – его однажды вызвали знакомые. Он позвонил жене и сказал, что поедет за город на день-другой. Прошло несколько дней, а он так и не появился, не подавал вестей. Жена, естественно, беспокоилась, позвонила его приятелю – тому, который тоже шел по тому же делу вместе с ним и тоже недавно освободился (они вместе теперь добивались справедливости). Приятель ничего не знал и обратился в милицию, где и заявил об исчезновении Кургиняна. Когда он возвращался, в подъезде собственного дома его застрелили. Похоже, что в милиции были «свои» люди, они быстренько известили «кого надо», и те не стали ждать момента более подходящего, потому что приятель, очевидно, узнал что-то в милиции и мог сказать, например, жене Сано… Труп Сано обнаружили в озере Севан. Он был страшно изуродован и засунут в мешок.
– Значит, он все-таки проиграл? – сказал я с горечью. – В чем же была главная его ошибка? Неужели в том, что он взял на себя смелость бороться с мафией? Он ведь не мог по-другому.
– Да, конечно, – согласился Михаил Матвеевич, – конечно. Но если бы он был осторожнее… Вот тут излишняя самоуверенность, излишняя прямота его подвели. Хотя я не сказал бы, что он проиграл. Понимаете, он же был по сути первым, кто поднял голос против тех порядков, что с некоторых пор воцарились в Армении. Против мафии, которая опутала все. Она и сейчас пока еще торжествует… Пока другого и не могло быть. Все же он был слишком решителен и слишком торопился – не рассчитал… И все же… Нет, я не сказал бы, что он проиграл. Вы понимаете, они ведь так и не смогли согнуть его при жизни! В мешке он был сложен вдвое, согнут. Наверное, не случайно. Для того, чтобы согнуть, им пришлось его убить. Вот так, дорогой мой писатель. Он не проиграл. Он победил. Да, ценою собственной жизни. Но – победил…
Вот так приблизительно говорил Михаил Матвеевич Бабаев. Думаю, не нужно расписывать то, что я чувствовал. Я ведь помнил письмо Кургиняна. Оно так помогло мне когда-то! Я помнил его приход и гладиолусы…
И все же осталось ощущение недосказанности, какой-то неясности после разговора с Михаилом Матвеевичем. Хотелось понять. Ведь не должен он был погибнуть никак! Должны были погибнуть, наоборот, те, кто его убил!
Разве победа это – ценою жизни? Ведь именно такие люди, как Санасар Мамиконович Кургинян должны жить, действовать, работать. Какая же это победа, если честного, порядочного, умного и сильного человека нет среди нас, а те, кто жаждет согнуть любого из нас и засунуть в мешок, если мы не хотим сами сгибаться перед ними и работать на них, терпеть их грязную власть и прощать надругательства над честью и совестью человеческой, если эти люди живут, здравствуют да еще и распоряжаются жизнями честных людей?
До каких же пор…
И все-таки победа…
Думаю: мог ли Кургинян по-настоящему победить, не ценою жизни? Ошибся он или все правильно делал? Правильно ли, что он не выполнял «правил игры», будучи начальником уголовного розыска – то есть входя в номенклатуру, но оставаясь при том человеком честным, верным принципам не номенклатурным, корпоративным, мафиозным, а – человеческим? Разумеется, правильно. Но произошла «утечка информации», верхам стало ясно, что этот человек «зарывается», его предупредили, переведя на другую должность. Очевидно, что по закону мафии с ним обошлись гуманно. Однако, он не унимался…
«Моя единственная вина состоит в том, что я знал слишком много.
Я считал себя убежденным гражданином государства, который чувствует свою ответственность за это государство.
В начале 70-х годов, будучи начальником уголовного розыска республики, я вступил в бескомпромиссную борьбу со взяточничеством, коррупцией, казнокрадством и другими негативными явлениями».
/Из письма С.М.Кургиняна Председателю Президиума
Верховного Совета СССР от 15.09.87 г./
«Не хочу представлять себя героем… Однако если ты выступаешь против взяточничества, против стяжательства, против беззаконий, то ты заранее должен осознавать тяжесть и смысл того креста, который ты поднимаешь на своей спине к Голгофе. Другой альтернативы здесь нет – или ты должен быть с ворами, или против них. Пассивность не альтернатива…
В те годы, когда я был начальником Управления уголовного розыска МВД Армянской ССР, по долгу своей службы раскрывал преступления и выявлял преступников, которые, как выяснилось впоследствии, находились под покровительством того или иного «высокопоставленного лица», я на опыте своей работы убедился, что только при активном взаимодействии и содействии правительственных звеньев может безнаказанно длительное время существовать разветвленная и многоотраслевая преступная сеть…
В моем случае получилось так, что «преступник» боролся во имя государства, а выступающие от имени государственных интересов, сидящие у его руля, – против «преступника», то есть против государства…»
/Из письма С.М.Кургиняна Делегату XIX Всесоюзной партконференции, Генеральному секретарю КПСС, М.С.Горбачеву/.
Да, прав Михаил Матвеевич: уже тогда встал вопрос «кто кого». И были мобилизованы сначала друг со звукозаписывающим устройством, а потом и следователь по особо важным делам.
Но и девять лет тюрьмы не сломили этого человека. Можно понять досаду, негодование и обиду людей, которые – с их точки зрения – так долго все же возились с непокорным, не расправились с ним окончательно сразу, предупреждали…
На что же рассчитывал С.М.Кургинян?
Да, я понял, что именно считал недостатком Сано его друг, Михаил Матвеевич Бабаев. Вот эту вот несгибаемость, бескомпромиссность, несколько театральную, может быть, на взгляд осторожного человека, прямоту, безусловную верность тем принципам, которые пытались воспитать во всех нас лучшие люди планеты. Дело не в том, наверное, что он хотел обязательно стать национальным героем своей страны. Он хотел быть человеком. И не его вина, что простое и, казалось бы, такое естественное звание это стало в наше время равным званию национального героя, никак не меньше.
Ясно же, что понимал он, на что шел, продолжая и теперь, после 9-ти лет тюрьмы, не сломивших его, борьбу со всесильным кланом. Наверняка понимал. Виноват ли он, что силы были неравны?
Но – ПОЧЕМУ?! Почему же они неравны? Разве не интересы подавляющего большинства отстаивал Кургинян?!
Да, в том-то и дело. Свидетели. Вот кто убил его на самом деле. Молчаливое, терпеливое большинство. Рабы.
«В истории нашего общества наступил такой момент, когда становится ясно, что революционные перемены неотвратимы. Необычные времена требуют необычных действий.
Однако к великой беде нашего общества в органах правосудия и прокуратуры никаких перемен, никакой перестройки не произошло. Они продолжают работать по стереотипу старого мышления. Нашей «бездушно слепой» машине суда и прокуратуры все по плечу.
Они пока слишком усердствуют в защите корпоративной чести. Они пока путают честь и беззаконие».
/Из письма С.М.Кургиняна Председателю
Президиума Верховного Совета СССР от 15.09.87 г./
«Никто из нас не застрахован от неправильного, криминального шага, от ошибок.
Но чтобы один преступный шаг не повлек за собой другого, люди должны проявить мужество сожалеть о содеянном, уметь РАСКАИВАТЬСЯ.
Человек, на мой взгляд, перестает быть человеком без РАСКАЯНИЯ, без того потрясения и прозрения, которые достигаются через осознание ВИНЫ.
Как метко заметил один писатель философ: «НИКОМУ, кроме человека, не дано РАСКАИВАТЬСЯ. Раскаяние – это вечная и неизбывная забота человеческого духа о самом себе».
Однако лично я полностью и всецело отвергаю в отношении меня АМНИСТИЮ, это милосердие, так как за собой не чувствую никакой ВИНЫ. Я не раскаиваюсь о содеянном, так как содеянное мною носило благородный характер, оно было продиктовано гражданственностью и патриотизмом».
/Из письма С.М.Кургиняна Прокурору Иркутской области с просьбой о неприменении к нему амнистии./
«…Когда пишу эти строки и вспоминаю все те адреса, куда я обращался с просьбой восстановить справедливость, то понимаю, что стучался в закрытые двери. Ведь идейно-нравственная атмосфера в стране была такова, что надеяться, будто мне удастся преодолеть единство бюрократического и преступного мира и доказать факт существования этой мафии, по крайней мере, было необоснованным оптимизмом.
Но мой профессиональный опыт и тогда мне подсказывал, что стучась в эти закрытые двери, я тем самым должен оставить для времени факты и истину, чтобы они не оказались потом запоздалыми и неискренними оправданиями.
Я был уверен, что если я не увижу, не дождусь своего оправдания, то его увидят мои дети. А это для них очень важно, чтобы они высоко и гордо держали свои головы. За то, что их отец был не простым уголовным преступником, а гражданином, защищавшим от бюрократов интересы социализма и общества в очень тяжелые для нашей страны годы…
Сегодня для меня пока ничего не изменилось в нашей стране. Я вновь остаюсь жертвой насилия и клеветы…»
/Из письма М.С.Горбачеву/
Разумеется, ни на одно их этих писем С.М.Кургинян так и не дождался ответа.
А тысячи людей, которые наверняка знали о том, что происходит, молчали. Хлебали свою похлебку. Смирялись с властью высокопоставленных ограниченных и охраняющих их манкуртов-преторианцев…
Но вот еще одно письмо – то самое, под которым стоят 39 подписей представителей армянской интеллигенции. Оно было направлено Председателю Верховного Суда СССР, уже после освобождения Кургиняна.
«…Высококвалифицированный, принципиальный и беспристрастный юрист, кандидат юридических наук Санасар Кургинян ценою нарушения элементарных принципов советского правосудия в октябре 1981 года Верховным Судом Армянской ССР был приговорен к 14 годам лишения свободы… По правде говоря, наряду с писателем, ученым, музыкантом или художником, нечасто пользуется популярностью юрист. Но именно таков Санасар Кургинян, которого мы узнали по его выступлениям в прессе и по телевидению… О его шерлокхолмовских методах раскрытия уголовных преступлений рассказывают легенды. Были, и нередко, случаи, когда он раскрывал преступления, совершенные много лет назад, и настоящие преступники были наказаны.
Не будет преувеличением сказать, что после его ареста обеднели наша совесть и правосудие, вместе с ними в цепях оказалась наша смелость…
Обвинительный приговор в отношении Санасара Кургиняна, по нашему убеждению, является вопиющей несправедливостью…
Именно поэтому просим Верховный Суд СССР – высшую инстанцию, вершащую правосудие в нашей стране, – с позиции всесторонней, беспристрастной истины, пересмотреть приговор в отношении С.Кургиняна и восстановить правду и справедливость».
Как автор повести, я ставлю свою, 40-ю подпись под этим обращением. Увы, с большим опозданием. Увы, с пониманием, что долго придется ждать ответа…
Если же говорить о человеческих свойствах Кургиняна, то вот что еще вспоминается. Бывший начальник уголовного розыска целой республики, раскрывавший столько преступлений, владеющий «шерлохолмовскими» методами… И вот он оказывается в тюрьме, среди зеков. Тюремные слухи распространяются мгновенно, а сыщиков и ментов в тюрьме, ой, как не любят… Но Санасар Кургинян не только выжил, он за девять лет не утратил своих высоких человеческих качеств, не сломался и даже смог написать столь большое и серьезное письмо мне, автору повести, и имел, очевидно, право утверждать, что под ним подписываются сотни других заключенных. В тюрьме его не только не убили, но даже и не унизили. Убили его «на свободе».
Странные соображения возникают, не правда ли? Нормального, высоко эрудированного, весьма разумного Лашкина считали сумасшедшим политики и врачи-психиатры. А вот в «психушке» его уважали и даже ему исповедовались, считая здоровым. Достойнейшего, благороднейшего Кургиняна «на воле» зверски убили, а в «местах не столь отдаленных», наоборот, уважали, считали вполне невиновным и честным – несмотря на то, что он «мент», да еще и высокопоставленный… Странные, странные соображения… Помните «Палату № 6» А.П.Чехова? Да ведь у нас не одна шестая суши – у нас СТРАНА № 6. Дурдом и тюрьма. А вот в «тюрьме» и в «психушке»…
Диалектика. Теория относительности…
Но вновь и вновь во весь рост встает все тот же вопрос: ДО КАКИХ ЖЕ ПОР?!
Да, прав Михаил Матвеевич Бабаев. Кургинян победил. Проиграли свидетели – которые, предав в очередной раз своего героя, по-прежнему прозябают в дерьме.
От смерти тела в нашем «прекрасном и яростном мире» не застрахован никто. Но, думаю, что этот человек останется живым в памяти своего народа – если, конечно, выживет сам народ. Если опомнится, наконец.
Вали Джура-заде, свободный исследователь Архипелага
И еще с одним уникальнейшим человеком свела меня «Пирамида».
«…Все нахожусь под сильнейшим впечатлением от Вашей повести… Как это близко и знакомо! Ведь я отлично знал всех этих ахатовых, бойченков, джапаровых!… И что удивительно, боролись мы с вами почти в одно время, правда, в разных ракурсах и ипостасях… Думаю, вы не будете меня ругать за то, что я выразил свои эмоции письменно и отправил их в «Литературную газету» и в «Советскую культуру». Не смог сдержаться, ибо это было сильнее меня… Посылаю вам «Частное обращение» и копию Проекта. Почитайте на досуге, хотя это и адресовано главному редактору «Огонька» Коротичу. Помощи никакой не прошу, поскольку помощь только расслабляет… Чувствую, что мы с вами обязательно встретимся. Это будет вполне логично…
С искренним уважением Вали Джура-Заде»
Г.Москва /Письмо № 138/.
Ни о чем особенном не подозревая, начал я читать объемистый многостраничный текст ЧАСТНОГО ОБРАЩЕНИЯ, напечатанный на машинке.
«…Итак, сразу ставлю вопрос ребром: как вы считаете, есть ли среди современных работников КГБ, МВД, Верховных и народных судов, прокуратур, ведомственных НИИ, академий такой человек, который может встать и без всякого юродства заявить: «…я знаю средство максимального сокращения преступности, знаю, как парализовать это негативное явление и принудить его к отступлению!»???
Есть такие? Я тоже не слыхал, если не брать во внимание абстрактные провозглашения и демагогические призывы. А ведь, согласитесь, наши отечественные ученые-юристы в количественном отношении работают весьма продуктивно: регулярно выдают на-гора пухлые книжонки, солидные монографии, рефераты, статистические выкладки и даже рекомендации, как, дескать, надо бороться с окаянной…
Вот хотя бы журнал «К новой жизни», № 11, 1965 год. В этом серьезном всесоюзном издании, органе ГУИТУ МВД СССР, оттиснута статья кандидата юридических наук тов. Яковлева. Цитирую дословно: «…преступность в нашей стране неуклонно снижается, все меньше становится колоний, одна за другой закрываются тюрьмы. А в капиталистическом мире наоборот…»
Интересно, как видоизменился за истекшие годы сам тов. Яковлев? Видимо, доктор уже наук, профессор».
Тут я отвлекся от чтения, подумав, что если это тот Яковлев (а это, скорее всего, именно тот один из главных наших современных юристов), то автор Частного обращения, конечно же, не ошибся. Но что же последует за этой, так сказать, преамбулой?
«ТЮРЬМА… Какая необъятная целина для приложения сил, особенно когда отчетливо представляешь всю опасность этого зловещего явления, скрытого от взора общества не только колючей проволокой, но и многовековыми предрассудками!
…Прецедентов вроде не было. Джессика Митчелл? Не то… Вспомните, как эта экзальтированная журналистка за 25 000 долларов согласилась на правах арестантки провести год в женской каторжной тюрьме, написав впоследствии бестселлеры «Я видела тюрьму изнутри» и «Преступный бизнес в США»? Оплаченная филантропия – тоже неплохое качество, но она вряд ли изменит традиционное течение жизни.
Митчелл только регистрировала факты, изъяв тему Преступности из социального контекста. Поэтому неслучайно многие западные дяди утверждают, что добровольное самопожертвование обществу не нужно, поскольку его всегда можно обеспечить…
Моя деятельность – вызов всем этим утилитаристам, бихевиористам, экзистенциалистам и прочим «истам»!
Сейчас могу с удовлетворением констатировать: я не только «измерил» все мыслимые параметры «изнанки общества», но и разработал наиболее оптимальные Рекомендации для ее максимального сокращения, целесообразность которых готов отстоять перед дюжиной «тов. Яковлевых» и иже с ними.
Согласен, коллектив – могучая сила, но бывают ситуации, когда на передний край должны выйти личные возможности человека. Без оглядки на окружающих. И один в поле воин!»
Чувствуете, читатель? То же выражение, что у Лашкина. Джессика Митчелл, как вы уже поняли, это та самая журналистка, что решила посидеть в тюрьме не за что-нибудь, а – по словам автора письма – за 25 тысяч долларов, чтобы написать потом два бестселлера на эту тему. Но к чему же ведет наш автор?
«В январе 1966 года нас, первокурсников-«юрчат», повели на экскурсию в исправительно-трудовую колонию для ознакомления, так сказать, с «производственным сырьем», – продолжает он. – «Помнится, между нами, юрчатами, сразу разгорелся жаркий спор, который возможен только в розовой юности. Большинство моих товарищей считало, что советские тюрьмы, в отличие от капиталистических, убивают сразу двух зайцев: обеспечивают обществу превентивную защиту и в то же время предлагают «гибкую систему» социального восстановления личности…
Однако спор пришлось прервать из-за диких воплей какого-то осужденного, которого два дюжих надзирателя, не ведая о нашей познавательной экскурсии, усердно… колотили палками /!/. Все мы были, естественно, шокированы, а декан Мавлянов потребовал у сопровождающего нас офицера «убрать эту сцену в другое место».
Затем спор разгорелся в таком ключе: мол, если не «сажать» всех этих убийц, насильников, хулиганов, грабителей и воров – нельзя будет и носа высунуть из дома… Тюрьмы – необходимы, без них общество окажется в состоянии полнейшего хаоса и т.д.
…По этому вопросу я разошелся во взглядах со всем курсом, заявив, что тюрьма, вернее, ее моральная сущность, – позор для любого общества, а в Советском Союзе она также нетерпима, как некогда существовавшая система рабства, она также отравляет человеческие отношения и подрывает их… В социалистическом обществе тюрем быть не должно!»
Так, ясно, подумал я. Очередной проповедник «социалистического идеала». Что же предлагается на этот раз?
«…А если преступления все-таки свершаются? /Меня самого за месяц до этого избили пьяные хулиганы/, – так продолжал автор Частного обращения. – Разумом я был согласен, что Тюрьма – это справедливое физическое наказание за причиненное зло, но… в самом ли деле она способна изменить душу человека и возвратить его в жизнь обновленным?!
…И словно озарение нашло: людей надо не «ловить», а… освобождать! Освобождать от атавистических предрассудков и преступных мыслей!! Каким-то шестым чувством, почти инстинктивно, я почуял свою, собственную, проблему, которой можно /и нужно!/ посвятить жизнь! Античные мудрецы говорили: сначала найдите, а искать будете потом…
Моим кумиром тогда был Альберт Швейцер, кончина которого была свежа в памяти: «…человек по природе своей – добрый, и только другой человек может склонить его ко злу, а раз так, значит, только человек и может вернуть ему человечность…»
Я вдруг остро понял, что не смогу больше радоваться жизни, хотя до этого жил в самом справедливом коллективе и никогда не чувствовал себя одиноким. Мне с детства внушали: упал человек, помоги ему подняться, потому что твое появление требует от тебя самого активного отношения к жизни, которая, как басня, ценится не за длину, а за смысл…



