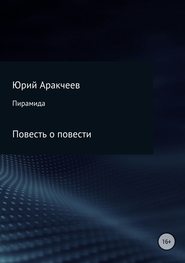 Полная версия
Полная версияПирамида
Сейчас появляются уже и не только публицистические, газетные статьи, но и повести, и романы о падении нравов, о том, что «спящий разум рождает чудовищ», об инфляции человеческих ценностей. И при всем уважении к этой «обличительной литературе», к полному согласию с тем, что она необходима, хочется сказать: обличения не выход! Обличения, наказания, воздевание рук – эти весьма привычные, весьма принятые в обиходе человеческие действия хотя и дают некоторую разрядку, некий даже катарсис гражданскому чувству, однако же они весьма поверхностны. Они, в общем-то, даже опасны. Опасны потому, что как бы выводят из-под очистительного огня критики и обличения и самих обличающих, и тех, кто, соглашаясь с ними, точно так же воздевает в отчаянии и проклятии руки.
В общественном зле всегда виноваты все. Одни действуют, другие позволяют.
Разная, конечно, доля вины у разных людей. Психологам и криминалистам известно: жертва преступления несет свою долю вины за то, что преступление совершилось. Не говоря уже о свидетелях. И об атмосфере, которая – это уже определенно – создается всеми. Очень часто вина жертвы состоит в том, что ей не хватает достоинства. Множество случаев известно, когда именно недостаток достоинства, именно патологический, далеко не всегда соизмеримый с опасностью страх провоцировал на преступление… Ни в коем случае не оправдываю преступников – с ними вопрос ясен и так. Не говорю и о тех, кто бороться просто не в состоянии.
Чем руководствовались «положительные» герои дела Клименкина, какое качество обусловливало меру их «положительности» в деле восстановления справедливости? Только достоинство. Потому Каспаров поехал сначала в Ашхабад, а потом в Москву искать правды, что его естественное чувство человеческого достоинства не могло мириться с тем, чему невольным свидетелем он стал. Потому Румер трижды посылал корреспондентов в Мары, а потом звонил Баринову, да и после, когда Клименкина уже освободили, посчитал необходимым, чтобы кто-то написал об этой истории и чтобы газета опубликовала. Потому Касиев не мог не написать своего особого мнения. Потому и Сорокин составлял «простыню», ибо его достоинство мастера своего дела, квалифицированного юриста, не могло мириться с неясностью, с неопределенностью его позиции по отношению к туркменским событиям. Потому и Светлана Гриценко не в состоянии была отвернуться от человека, который попал в беду, хотя ей – как и всем перечисленным – было невыгодно поступать именно так. Невыгодно из корыстных, материальных соображений. Но абсолютно необходимо с точки зрения других соображений, нематериальных. С точки зрения человеческого достоинства. С точки зрения не «хлеба», а «песни».
У нас принято считать: не до красоты сейчас, не до «высших материй», сначала накормить людей досыта надо. Мол, «будет хлеб, будет и песня». Уверен: наоборот! В убогой, удручающей погоне за сытостью мы утрачиваем самое главное – систему истинных ценностей. Мы поклоняемся не красоте человеческих отношений, а желудку. Но этот господин, как известно, ненасытен. И тем более алчен он, когда его ставят на пьедестал. Однако всякий орган предназначен природой для определенной роли, и искусственная, надуманная перемена ролей ни к чему хорошему, естественно, привести не может. Сколько мы знаем случаев, когда именно «песня» спасала людей! Да ведь «песня» как символ духовного здоровья, чести, достоинства, солидарности человеческой – лучший помощник в труде по добыванию хлеба. Мы собираем немало хлеба со своих полей (хотя с тех же самых полей могли бы собирать гораздо больше, если работали бы с любовью, с песней), но одна четверть – подчеркиваю, одна четверть, а по анализу наиболее трезвых экономистов, даже больше: одна треть собранного хлеба гибнет при перевозках, неправильном хранении и нерациональном использовании! И это естественно. Потому что нет песни. Потому что скучно это – служить желудку в первую очередь, а порой – только ему. Потому что искажена система ценностей.
Увы, не то проповедовали нам долгие, долгие годы. Не потому ли и «отрицательные» герои дела Клименкина просто не в состоянии были понять «положительных», искренне не могли взять в толк, чего же добивается Каспаров, Беднорц, корреспонденты газеты, Верховный суд СССР? Ведь «хлебной» выгоды положительные герои как будто бы не имели…
Не понимали. Искали в действиях «положительных» мотивы, понятные, доступные им, «отрицательным». Не находили. И действовали. Понятие же человеческого достоинства – основополагающее понятие человеческой нравственности – было им, очевидно, неведомо. Не внушили. Не воспитали.
Увы, достоинство роскошью стало. Не каждый, далеко не каждый может позволить себе его иметь. Дорого расплачиваться за него, вот в чем дело.
Мы говорим теперь: «перестройка». Да перестроится ли от одних уговоров Жора Парфенов? Перестроится ли Джапаров? Бойченко? Ахатов? Никогда. Разве что на словах. Нужны не разговоры о перестройке, не уговоры. Нужна атмосфера. В которой «презумпцию» получают не бойченки, а беднорцы. И не потому, что нужна беднорцам какая-то привилегия. Им привилегии не нужны, потому что они и так работают лучше. Нужно, чтобы не было привилегий у бойченко и милосердовых, какими бы «высокими» словами эти привилегии ни подкреплялись. Нужно, чтобы вообще привилегий не было. Тогда и получит презумпцию главное – человеческое достоинство. Которое заложено в самой человеческой природе.
Проходят «героические» периоды истории, утихает шум, вызванный каким-то трудовым или ратным подвигом. И на поверку оказывается, что не производство какой-то невиданной груды вещей, не постройка какого-то необычайно высокого здания, не изобретение сногсшибательного оружия, не даже количество убитых людей, животных или срубленных деревьев имело значение для людей. А достоинство. Человеческий нравственный потенциал, пронесенный сквозь бури и штормы «героического» периода. Вечный огонек человечности.
Вещи и здания создаются и разрушаются. Человеческое начало остается. Только оно и имеет настоящую цену – человеческое достоинство. Истинные герои времени те, в ком оно сохранилось. Им и перестраиваться не надо.
Радость
«Есть только одна великая сила, и эта сила – радость», – сказано древними мудрецами. Как понял я эту истину!
Ошибка думать, что, несмотря на все свои мытарства, часть из которых я описываю здесь (часть, конечно, только часть!), я только и делал, что ныл, подсчитывал свои обиды, наливался злостью и так далее. Ничего подобного! Радостей было не меньше. На первый взгляд может показаться, что это не относится к делу Клименкина и моей повести. Относится!
Забегая вперед скажу: рукопись «о букашках» наконец была издана – через восемь лет после написания…
Да, долго, долго приходилось ждать, но ведь были и другие радости. Ну вот, например… Я не только фотографировал, но внимательно наблюдал природу, и вот что интересно: это успокаивало. А вернее, так: заставляло и на нашу жизнь взглянуть философски. Ведь в природе постоянно идет так называемая «борьба не на жизнь, а на смерть» между хищниками и жертвами. Казалось бы, мир давно должен погибнуть от жестокой этой борьбы. Но нет! Он не только не гибнет, а наоборот – процветает! Количество видов животных и растений планеты, при всем гигантском многообразии, не только не уменьшалось до вмешательства человека, но постоянно росло!
Частенько принято считать природу «аморальной», чуть ли не «безнравственной». Но почему? «Безнравственность» ее разве в том, что нет надуманных и противоестественных привилегий ни для кого – побеждает наиболее сильный, то есть жизнеспособный. Побеждает жизнь, а не смерть, идет постоянное совершенствование организмов. Что ж тут плохого, что безнравственного? Разве объективность оценки – честную борьбу, свободную соревновательность – можно назвать безнравственной?
И что можем противопоставить природной «безнравственности» мы, люди? Уж не изобретение ли всевозможных «теорий», провозглашающих превосходство одних людей над другими, которое нужно к тому же утверждать силой?
История человечества переполнена борьбой одних против других именно в защиту этих теорий – то «крестовые походы», то претензия на «мировое господство», то «во имя чистой расы»…
Интересно, что в природе животные никогда не объединяются против себе подобных, им не свойственна «идейная» ненависть. Хотя в последнее время стали замечать: собаки, брошенные людьми, объединяются в стаи – и это самые страшные и весьма коварные хищники, и возникают как будто бы серьезные распри уже между стаями… Распри между стаями.
Да, только вмешательство человека – «венца вселенной», «разумного существа»! – привело все живое – и хищников, и их жертвы – на грань исчезновения. Наша социальная дисгармония, ворвавшись в этот сложившийся за миллионы лет ансамбль, ведет его, как видим сейчас, к полному краху. И без атомного пожара, кстати, мы прекрасно справляемся с задачей уничтожения природы, отравляем реки, моря, атмосферу, истребляем животных и зеленый покров Земли – все, все готовы мы стереть с лица планеты, всякую жизнь – и себя в том числе! – а во имя чего? Не ради ли бессмысленного, противоестественного возвышения своего ничтожного естества (случайного скопления клеток!), не ради ли торжества бредовых идей, родившихся в очередном мозгу, претендующем на обязательное господство, на истину в конечной инстанции? И – самому погибнуть! Только бы ни за что не уступить, только бы настоять на своем, только бы не признаваться в ошибке…
И это – высший разум? Это – венец творения? Это – высшая нравственность?
Да, разум, отравленный гордыней, дает нам возможность уничтожить всех и все, но вот ведь что удивительно! Тот же самый разум, как только ему удается освободиться от ослепляющей, оглушающей гордыни, подсказывает: смотрите! Смотрите вокруг себя! Обратите же внимание на окружающий мир, мир живого на планете Земля! Он прекрасен. Он здравствует и процветает, несмотря на бесконечную борьбу внутри него, несмотря на непрекращающуюся битву «клыков и когтей»! А может быть, благодаря ей? Борьба-то, оказывается, не на смерть, а на жизнь.
И чем больше я наблюдал и изучал жизнь природы, тем яснее видел любопытные параллели. У нас ведь тоже – хищники и жертвы, паразиты и хозяева, травоядные и плотоядные, мухи и пауки, бабочки и паразиты-наездники и так далее, и так далее… Стоит задуматься!
Но больше всего радости приносила, конечно же, красота. Таинственная, всегда таинственная красота цветка, крыла бабочки, паутины в каплях росы, обыкновенного листа растения, дерева, морозных узоров, облаков, моря! Отзвуки, отзвуки таинственной вселенской гармонии… А кажущиеся подчас прямо-таки фантастическими способности живых существ? Особенно маленьких, как правило, не замечаемых нами по привычке к невнимательности: насекомых, пауков… Самец бабочки сатурнии, к примеру, находит самку на расстоянии в полтора десятка километров при помощи своих усиков-антенн – беспроволочный телеграф любви. Самка наездника-мегариссы, также при помощи усиков, «видит» хитросплетение ходов личинок рогохвоста сквозь толщу березового ствола – рентгеновский аппарат, локатор, телепатирующее устройство? Самка травяной тли обладает феноменальной способностью к размножению: в течение одного только года потомство одной только крошечной особи – если бы оно все сохранялось и хватало пищи – покрыло бы земной шар сплошным слоем толщиной в полметра; не менее фантастична и способность размножения термитов, самка которых живет до восьмидесяти лет, откладывая каждый день сотни яиц! Паукам, этим крошечным восьминогим созданиям, присуща, оказывается, индивидуальность – в укор некоторым из двуногих! – и есть такие, вполне серьезные зоопсихологи, которые считают, что маленьким этим монстрам присущи зачатки разумной деятельности… В микроскопическое семя эвкалипта, как известно, «втиснуто» огромное дерево, которое, в свою очередь, может дать жизнь миллионам новых деревьев. Семена лотоса, найденные археологами после того, как они пролежали в недрах земли тысячелетия, сохранили огонек жизни и дали всходы… А взаимоотношения некоторых жуков, например, которые могут быть образцом самопожертвования и бескорыстной родительской любви? Это ли не наталкивает на размышления? А факт, что среди муравьев, этих «общественных» насекомых, есть как «положительные» герои – скотоводы и земледельцы, так и «отрицательные» – авантюристы, обманщики и даже… наркоманы… А сложнейшие превращения-метаморфозы в течение жизни, например, у бабочек, пчеложуков, жуков-маек? Да ведь несмотря на то, что ученые изучают этот мир давно и упорно, загадок там все еще не счесть!
Ну, так и что от того, что долго не печатали мои книги обо всех этих чудесах, не публиковали цветные слайды? Я-то видел это, беспрепятственно путешествовал в джунглях трав, рассказывал и показывал другим… Окно в чистый мир, без редакторов, начальников, свободное путешествие! Разве это не радость?
Не только радость. Спасательный круг.
А у нас тем временем…
Депутат
Весной 1979 года позвонили из секретариата Союза писателей и сказали, что выдвигают мою кандидатуру в депутаты районного Совета. Вот уж чего никак не ожидал.
«Вся власть Советам!» – святой лозунг, мы помним его из нашей истории. Одно из условий социалистической демократии. Ну, что ж, подумал я, если выберут, буду честно исполнять гражданский долг. Загадкой, правда, было для меня мое выдвижение. Ничего не печатают, хотя и продолжают пока хвалить за давнее прошлое. А теперь вот и в депутаты. Ведь после выступления на пленуме прошло два года, после публикаций в «Правде» и того больше, книга вышла пять лет назад, а маленькие журнальные рассказы остались без внимания критики, так что и они не в счет.
И стал я депутатом. Предварительно – на встрече с избирателями, бойцами военизированной охраны Министерства финансов, – говорил, что наша с ними работа похожа. И та и другая связана с разъездами: у них охрана перевозимых сумм, у меня – командировки. И та и другая работа представляет опасность для тех, кто ею занимается. Так что мы в какой-то степени даже коллеги.
Прием избирателей заменили для меня периодическими – раз в месяц – выступлениями перед бойцами, которым я рассказывал о своих творческих планах и показывал слайды.
Вообще депутатство – тема особая, она требует отдельного разговора. И все же это соотносится с темой повести. Коротко можно сказать так: сессии, проводимые раз в два-три месяца, были чистейшей формальностью, мы слушали заранее заготовленные речи и единогласно голосовали за резолюции, также написанные заранее. Исполнение «наказов избирателей» сводилось, например, к открытию лишнего киоска на одной из улиц или к реставрации старого памятника. Иногда с огромным трудом удавалось «выбить квартиру» для человека, которому квартира и так полагалась по нашему, советскому закону. Постепенно мне открылась удивительная картина: даже у председателя исполкома райсовета не так уж и много прав, к тому же район весьма ограничен в средствах, а затрата их тоже требует множества согласований и специальных решений вышестоящих властей.
Так не хотелось, чтобы и мое депутатство осталось простой формальностью! И я задался целью организовать клуб. Клуб интересных встреч, к примеру, то есть клуб общения, чтобы людям района было где послушать других, поговорить самим, найти, может быть, новых друзей. О полезности открытия таких клубов говорили еще в период после XX и XXII съездов партии, потом эта инициатива заглохла, но периодически возрождалась опять. В райисполкоме эту идею поначалу горячо поддержали, нам удалось даже провести три встречи, и название новому клубу дали: «Добрый вечер». Мои избиратели также с энтузиазмом восприняли идею клуба – ведь бойцами были главным образом молодые ребята! Однако… Получилось так, что, поставив, очевидно, жирную галочку об организации нового клуба, отдел культуры исполкома потерял желание возиться с нами – мы ведь требовали внимания к себе, помещения! – перестал нас поддерживать, а мою кандидатуру на следующие выборы не выставили. Клуб, разумеется, тихо скончался, у меня же остался материал для очередной повести – сатирически-юмористической, – которую так и назвать можно: «Клуб». В кавычках.
Еще только одна деталь. В нашей депутатской постоянной комиссии по культуре был один человек, который ни разу не сказал ни слова ни на заседаниях, ни на сессиях, хотя приходил аккуратно. Большой, добродушный, молчаливый мужчина. Оказалось, что его выбирали депутатом уже… восьмой раз подряд. Двадцать лет, значит, просиживал он молча, исполняя тем самым, значит, свой гражданский долг. И мне доподлинно известно, что его выдвинули тогда опять – на следующий, девятый срок… Возможно, он и сейчас в депутатах.
Не выдвигали же из нашей комиссии на новый срок только двоих: меня и председательницу, директора школы, которая вместе со мной активнее других поддерживала идею клуба. И название-то, кстати, как раз она придумала и даже предоставила актовый зал своей школы для первой клубной встречи. Слишком активно, видимо, проявили мы свои депутатские полномочия, слишком выбились, очевидно, в непонятную сторону из аккуратного общего строя.
Ну, в общем, бог с ним, с депутатством и клубом, нет так нет, это, в конце концов, не мое прямое дело. А вот совсем грустно-то было, что «Высшая мера» так и лежала в рукописи. К тому времени уже… шесть лет. Она побывала почти во всех толстых журналах. Хвалили. Но не печатали.
Да, годы шли. И по-прежнему звучали у нас в разных залах «аплодисменты, переходящие в овацию», когда «все встают», по-прежнему каждый шаг, каждое малейшее действие ничем не примечательного человека, не знаю уж по каким причинам, вознесенного на вершину общественной остроконечной пирамиды, преподносилось как откровение, как истина в самой последней инстанции, вызывающая едва ли не слезы умиления. Миллионы, миллиарды печатных страниц, бесконечная череда волн эфира заполнялись словами, почти не имеющими смысла, забытыми тотчас же, как только человек покинул вершину. Да им и тогда, когда они звучали, собственно, не придавалось значения… Но тысячи и тысячи писателей, журналистов, редакторов, подвизающихся на ниве слово‑ и звукотворчества, сотни тысяч фотографов, художников, музыкантов, печатников, техников множества областей работали не на то, чтобы действительно собрать большой урожай зерна, которого нам так не хватало (отчего и вынуждены были все в больших количествах ввозить из-за рубежа), не на то, чтобы умножать стада скота и решить наконец затянувшуюся продовольственную проблему, не на то также, чтобы построить дома, в которых было еще столько остро нуждающихся, нет. Они работали на атмосферу. Атмосферу искаженных ценностей, замалчивания правды, создания искусственных фетишей, которые вопреки фактам поддерживали бы существующий порядок вещей. Они работали как раз на то, чтобы государство наше не в состоянии было исправлять ошибки.
Типична история с «Высшей мерой», все больше и больше я убеждался в этом. Типична.
Собрание в редакции газеты
Но вот вновь вмешались законы природы, и власть сменилась.
Начались новые веяния, и однажды некоторых писателей-публицистов Москвы собрали в редакции «Литературной газеты». Пригласили на это собрание и меня.
«Высшая мера» все еще «стучала в мое сердце», да и не только она, а и другое, о чем частично удалось здесь сказать. И когда в начале собрания произошла заминка – никто не решался выступить первым… – я поднял руку и попросил слова. Извинившись за то, что выскочил первым, я заявил, что очень уважаю и люблю эту газету, но именно потому и вынужден констатировать с грустью, что счет у нас с «Литературной газетой» 2:4. Не в нашу общую пользу. То есть из шести материалов, написанных специально для нее, напечатано только два, а четыре возвращено, причем среди этих четырех – повесть, над которой я работал в общей сложности около года, причем половину срока – по конкретным заданиям редакторов. И дело не в том, что я не получил за свою работу ни рубля – хотя можно ли представить себе рабочего, которому не платили бы зарплаты за полугодовую работу? – дело в том, что зло осталось безнаказанным, добро не поддержано, и по меньшей мере один честный человек в результате уже очень серьезно пострадал. И почему это все происходит? Разве есть что-нибудь вредное в этой повести, разве есть в ней неправда? И ведь почти все сотрудники газеты отзывались о ней положительно. В трех других ненапечатанных очерках нет такой остроты, как в повести. Допускаю – в них форма не совсем соответствует той, что принята в газете; но разве так уж необходимо стремиться к тому, чтобы все очерки по форме были единообразны?
Некоторые из выступавших потом меня поддержали, но главный редактор в заключительном слове говорил жесткие слова явно в мой адрес, хотя и не называя меня конкретно. Окутываясь дымом сигары, он с нажимом говорил о том, что нельзя лить воду на чужую мельницу и порочить наш строй. Это помогает нашим врагам…
Мне же хотелось возразить, что правду враги и так знают, а замалчивание ее перед своими помогает нашим врагам самым страшным – внутренним, то есть всем тем, кто злоупотребляет властью и положением ради корыстных целей, – эксплуататорам, циникам, ренегатам, хищникам. Ведь эти внутренние враги, словно раковые клетки в организме, безудержно разрастаются именно в атмосфере замалчивания, а внешние наши враги это хорошо знают и радостно ждут, когда наступит летальный исход. И еще хотелось добавить: где это видано, чтобы вместо диагноза и лечения врач надевал больному розовые очки и уверял его, что он абсолютно здоров?! Ведь ясно же, что есть только один способ улучшить жизнь – посмотреть ей в лицо…
Правда, иногда такое все же говорилось теперь. Иногда даже об этом писали в прессе. Но ничего, в сущности, не менялось.
Письмо
В мае 1982 года вернули сразу две рукописи, из двух издательств. Обе представляли собой сборники повестей и рассказов. Один из них включал и «Высшую меру». Вернули, естественно, с отрицательными рецензиями.
Год я переживал, приходил, как говорится, в себя, но потом интересная мысль пришла в голову. В новый сборник, отданный опять в уважаемое издательство, включил я повесть и два больших рассказа, которые уже были опубликованы и стяжали кое-какие лавры. Причем авторитетные.
Ни рецензент, ни редактор, конечно же, откликов не читали, а если и читали, не помнили. Да ведь и то правда: давно книжка первая вышла.
И как же любопытно было теперь читать их полный разнос того, что когда-то так лестно для меня оценивалось в центральной прессе! Любопытно, но и грустно, конечно. «Как же тем-то приходится, у кого нет моих козырей? Как же молодым-то нашим? С такими рецензентами, с такими редакторами…» – думал я.
И решил писать письмо. Можно бы, конечно, просто сходить к какому-нибудь начальнику, пожаловаться, рассказать. Но у нас документы любят. Которые можно к «делу» подшить.
Значит, надо составить умный, доходчивый документ. Этакую, увы, жалобу. С ней и идти.
Главный замысел: сопоставить. Во-первых, что говорится с трибун о «работе с молодыми», с одной стороны, и что на самом деле происходит – с другой.
Во-вторых: что пишет центральная наша пресса по поводу некоторых произведений, и что – «внутренние» рецензенты и редакторы.
Как хочется и письмо здесь привести полностью! Два месяца с лишним я его сочинял – как раз повесть написать можно бы. Переделывал несколько раз. Двадцать с лишним страниц получилось.
Да, нельзя не процитировать его, хотя бы совсем немного. Ведь это – тоже документ…
«Мне нравится этот рассказ… В нем ярко и точно написана заводская среда – не только шум и грохот моторов, скрежет конвейера, запах подгоревшего масла, теплые и упругие волны нагретого работой воздуха, но и те короткие общения между мастеровыми за конвейером или в курилке… Все это написано умело, рукой уверенной и, главное, правдиво до последней степени… Эта, казалось бы, непонятная радость, это чувство бескорыстной симпатии к мотору-«подкидышу» и есть та рабочая совесть, которая движет поступками истинно мастерового человека…»
Но что это? – думаете, наверное, вы, прочитав. Где же тут разнос? Да ведь не из внутренней рецензии это и не из редакторского заключения – из прессы. Опубликованный сначала в журнале, а потом вошедший даже в книгу критических статей, отзыв одного из самых уважаемых наших писателей.
«…В его повествовании и особенно именно в «Подкидыше» много прямой теплоты, человечности, задушевности; груда железа – старый мотор – воспринимается сквозь призму мягкого человеческого сердца. Рассказ трогает…»
И это из центральной прессы тоже. И о том же рассказе.
А теперь из заключения старшего редактора самого престижного издательства нашей страны:
«Рабочий Фрол из «Подкидыша», взявшийся за доделку брошенного двигателя, наделен отрицательными чертами: бывший фронтовик, он «соображает на двоих», напропалую курит, «забивает козла», ссорится с женой. Его совершенно не интересует митинг, видимо, антивоенный…»



