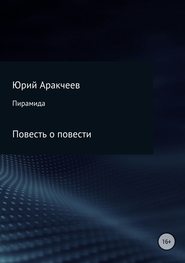 Полная версия
Полная версияПирамида
Да, какая-то странная получается у меня похвала Румеру – неопределенная, неконкретная. А все ж похвала. Гимн человеку, который в трудное время сумел хоть и не слишком многое, а все-таки сделать. Впрочем, нам ли судить о весомости поступков своих и чужих? Да и не относительна ли она, весомость поступков? Ведь кому много дано… Тысяча рублей, пожертвованная государству каким-нибудь современным доброхотом, наживающим десятки тысяч на обмане того же государства, перетянет ли она двугривенный девочки-школьницы, потраченный не на мороженое, а на колбасу для бездомной собаки?
И сколько же вокруг нас людей, истинно праведных, которых мы по странной какой-то своей слепоте не видим.
Думаю, что бесконечные поиски «положительных» героев в нашей литературе потому и не увенчаны особым успехом, что ищем не там. Не тех. Мы думаем, что герой – тот, кто большие проценты плана выдает и что-то очень зримое делает. А это ведь уже и не всегда в наше время геройство. Иной раз герой – как раз наоборот – тот, что против плана возражает и не делает того, что ему приказывают. Ибо и планы иной раз оказываются «несбалансированными», и тот, кто приказывает, как выясняется потом, приказывал вовсе не то. Вот и думается, что истинное геройство проявляется в другом. В том, что человек вопреки обстоятельствам человеческое в себе сохраняет. А если и подчиняется, то не бездумно.
Румер не только вмешался в дело Клименкина, благодаря чему, может быть, парня и освободили. При нем отдел писем газеты помог многим людям, несправедливо осужденным (это особенно, это было у Румера личное), обманутым, уволенным, морально растоптанным… Да одно только дело Клименкина разве малого стоит?
Однако… Что стало постепенно происходить с ним, одним из главных положительных героев дела Клименкина? Умным, порядочным, честным человеком, столь заинтересованным, казалось бы, и в судьбе участников дела, и в судьбе повести о нем…
Первый вариант он прочитал очень быстро, хоть первый был в полтора раза длиннее второго. Со вторым торопил меня… Но теперь никак не мог прочитать, просил позвонить завтра, потом послезавтра, еще через два-три дня… В результате читал ровно половину того срока, за который я сделал второй вариант, – две недели.
Потом я понял: прочитал он, вероятно, гораздо раньше, но не говорил – думал. И сомневался…
Может быть, и тот мой друг – «газетчик», – который близко был связан с газетой и Румером, сказал ему нечто, что вызвало сомнения у обоих. Да, мой друг газетчик не говорил об остроте, «непроходимости» и т. д. Он говорил о газетной специфике, но ведь не имеет значения, как назвать.
– Будем думать, как поступать дальше, – сказал Румер при встрече, которая наконец у нас состоялась. – Будем думать и пробивать. А пока поезжай от «Правды». Это поможет нам. Обязательно поезжай!
Уходил я от него не слишком-то радостным. Озадачил меня новый, не свойственный ему раньше тон.
Жора Парфенов
Да, никак нельзя отделить историю с «Высшей мерой» от того, что происходило вокруг. Нельзя отделить ее и от того, что происходило со мной.
Вот хотя бы квартира… Восемь комнат, семь семей, общий коридор, кухня без окон, тонкие стены между комнатами… Имеет ли значение быт? Есть ли дело читателю до того, в каких условиях написано то, что он читает? Читателю, конечно, дела нет. Но пишущему есть дело. И даже очень.
Таксист, раньше живший за тонкой стенкой в соседней комнате, переехал в другую комнату, в дальнем конце коридора, рядом с кухней, теперь музыка в стиле рок неслась оттуда из постоянно открытой двери их комнаты, ибо им было удобно так: готовить или стирать на кухне, одновременно слушая любимую музыку (работал таксист через день, а через день был дома, и единственной его отрадой в жизни, по его словам, была эта самая музыка, причем громкая – тихую он не воспринимал). Таксист переехал, но в его комнату въехала женщина с ребенком, ребенок бегал по коридору, громко топая: это было его любимое развлечение – «паровоз». Во дворе под окнами регулярно работал компрессор, дружно и бойко стучали отбойные молотки, громыхало сгружаемое железо: организация, въехавшая в соседний дом, что-то строила в нашем дворе… Я, конечно, пытался преодолевать все это, вставал как можно раньше, занимался гимнастикой, затыкал уши ватой.
Поначалу со стороны новой соседки не было особых помех («паровоз» в конце концов можно было пережить, он начинал движение все же не с самого раннего утра). Мы даже дважды объединялись с соседкой во время еженедельной уборки квартиры – мыли вместе пол сначала за нее, потом за меня. Но как раз в период работы над «Высшей мерой» у соседки стал появляться мужчина лет тридцати с небольшим. Крупный, мощный, с черными густыми бровями и довольно-таки странным взглядом серовато-голубых, широко открытых глаз. Странным потому, что выражение его глаз очень менялось – от какого-то даже заискивания, приторной «уважительности» до совершенно откровенной, немигающей наглости. Почему-то его особенное внимание привлекали моя принадлежность к племени писателей и регулярный стук пишущей машинки, который, конечно же, доносился до них через тонкую стенку. А еще телефон. Телефон, как я уже говорил, висел в коридоре; с редакцией «Правды» я вел переговоры по этому аппарату, и с Бариновым, и с Сорокиным договаривался, и со всеми другими героями дела, и с друзьями.
Я признавался уже, что подозреваю о существовании сил, которые порой с непредвиденной стороны ополчаются как раз на того, кто тем или иным способом пытается бороться с ними, поднимает, так сказать, на них руку. Сочиняя повесть о деле Клименкина, я столкнулся с самонадеянностью и гордыней отдельных товарищей, не желающих признавать свои ошибки, считающих, что для других правда одна, а для них другая… С ложью, хамством, цинизмом, попыткой манипулировать чужими судьбами, неуважением человеческого достоинства и жизни, нравственной ленью, слепотой хотел я бороться повестью своей…
И весь этот «джентльменский набор» как раз воплотился, как мне казалось, в образе крупного молодого мужчины с лицом довольно красивым, если бы не это выражение наглости и постоянной агрессивности, которое, в сущности, оставалось и тогда, когда он демонстрировал свою «вежливость», «воспитанность». Особенно выразительны были даже не глаза, а ноздри его вздернутого носа. Они постоянно раздувались, но не принюхивались, а как бы прицеливались, выдавая настрой своего хозяина.
Да, писатель – прежде всего адвокат. Ну а если он оказывается и потерпевшим?
Мужчина, посещавший мою соседку, – назовем его так: Жора Парфенов – был ее бывший муж. Бывший – официально, потому что, как выяснилось потом, они развелись формально – для того чтобы улучшить свои жилищные условия. После развода использовали какие-то связи, и жене с ребенком дали вот эту комнату в коммунальной квартире, а Жора остался в своей однокомнатной. Теперь жене как будто бы обещали тоже дать квартиру от организации, в которой она работала, и, таким образом, у них оказалось бы вместо одной две.
Все это имеет значение лишь отчасти, это их дела, их отношения с нашим в каком-то смысле даже слишком добрым государством. Для меня же – и для всех жильцов квартиры – главное заключалось в том, что Жора Парфенов был патологический алкоголик. В трезвом состоянии он был вполне терпим, и хотя агрессивность постоянно ощущалась, как я сказал, в выражении его глаз, в шевелении крупных ноздрей и в уже упомянутой неестественной приторности его обращения, но наружу, как правило, не вырывалась, разве что только угадывалась и подсознательно вызывала тревогу.
Ко всему прочему, в недавнем прошлом Жора, по его словам, был чемпионом Москвы по самбо то ли в полутяжелом, то ли в среднем весе и мастером спорта. Был ли он чемпионом – неважно, а важно то, что был он на самом деле здоров, мускулист и тяжел.
В состоянии же опьянения становился почти невменяемым.
И еще, ко всему перечисленному, он не очень-то мне симпатизировал, ибо узнал, что мы с его женой дважды мыли вместе полы. И еще, как потом выяснилось, она однажды неосторожно похвалила меня как писателя.
Думаю, дальше все ясно. Каждый может сам нарисовать последующие события, и они почти наверняка будут соответствовать тому, что было на самом деле.
И все же коротко о них расскажу.
Дверь была не заперта, Жора без стука толкнул ее и вошел. Очевидно, он только что опохмелился. Глаза его странно играли (как и ноздри), выражение лица было, честно говоря, жутковатое. Чтобы правильно понять мое состояние, нужно учесть, что я был погружен в «эмпиреи» работы. Не задерживаясь на пороге, Жора уверенно, с таинственно-жутковатой улыбкой двинулся ко мне, быстро прошел расстояние от двери до стула, на котором я сидел, и тотчас схватил меня за затылок. Совершенная неожиданность происходящего, странный взгляд его наглых глаз, расхлябанные движения, «аромат» алкоголя… Была во всем этом какая-то дьявольщина, тем более ощутимая, что я как раз осмысливал фатальные повороты туркменского дела.
Я попытался стряхнуть цепкую руку, тотчас понимая уже, что самое опасное сейчас – на его агрессивность ответить своей. Сейчас, по прошествии времени, я думаю, что был, возможно, не прав. Возможно, самым разумным было бы тогда ответить, наоборот, самым быстрым, решительным, недвусмысленным образом: тотчас вскочить и, пока он сам не опомнился, вышвырнуть его, пьяного, а потому не совсем все же уверенно держащегося на ногах, из комнаты.
«Так трусами нас делает раздумье»… Великие слова! Но в том-то и дело, что жизнь наша – сплошные раздумья, не потому ли так близок нам образ жившего в давние времена принца датского…
Стряхнуть руку сравнительно мягко мне все-таки удалось. Удалось не разжечь агрессию его и даже как-то перевести все на миролюбивый тон. С одной стороны, не озлобить, с другой – не потерять все же достоинства, что в той ситуации было вдвойне важно: не только для меня, но и для него. Ничто не распаляет агрессора в такой мере, как страх жертвы.
Да, тут очень трудно было удержаться на грани, на лезвии бритвы, тут, в первой этой сцене и явно же не последней, вырисовывалось все дальнейшее, и думаю, честно все же будет признать, что положение-то у нас было далеко не равное.
Ему – в радость. Ему – развлечение и игра. Мне – серьезная помеха.
Ну, в общем, сначала мы немножко поговорили: я попытался хоть как-то объяснить ему, что работаю, что работа у меня срочная, что я вообще не пью, а потому на приглашение его выпить немедленно – он даже сходил в свою комнату и принес начатую бутылку коньяка – ответить согласием не могу. Потом он принялся демонстрировать мне свои мускульные возможности на боксерской груше, которая висела в углу моей комнаты на канате, закрепленном на потолке. Медленно, не отводя от меня глаз, слегка улыбаясь и прицеливаясь в меня ноздрями, он надел перчатки, которые лежали тут же, и принялся бить по груше, время от времени многозначительно поглядывая на меня… Потом снял перчатки и взял гантели, что лежали на полу у стены.
– А ты сможешь так? – спросил он, поднимая гантели из-за головы таким образом, чтобы локти оставались устремленными вверх.
Тут я подумал, что есть смысл показать на всякий случай, что смогу. И показал.
Опять открылась дверь без стука. Вошел приятель Жоры.
– Вот мой друг Володя, – сказал Жора и добавил со значением: – Тоже мастер спорта по самбо.
Приятель важно кивнул.
Отношения с Жорой стали у нас в тот момент внешне почти дружеские, он захотел помериться со мной силой в другой игре: ноги соперников расставлены на одной линии, правые упираются носок в носок, правые руки сцеплены, и – кто кого столкнет с места. Смешно и грустно, конечно, сейчас это вспоминать. А тогда что было делать?
Приблизительно через полчаса после начала «встреча на высшем уровне» закончилась. Приятели ушли. Я же, сев за стол, принялся собирать свои порядком расползшиеся мысли. И чувства. И нервы.
А на следующее утро Жора пожаловал снова…
И вот теперь, вспоминая и переживая вновь задним числом эту трагикомическую ситуацию, я вижу: да ведь помощь была мне явлена в лице Жоры! Намек! Чтобы хоть отчасти почувствовал я себя в шкуре своих персонажей. Ну, вот Клименкина, например. Когда взяли его ни с того ни с сего ночью в постели – и тоже вмешалась в его жизнь как бы дьявольская посторонняя сила… Но это теперь. А тогда всеми, как говорится, фибрами души своей смятенной увидел я возможную перспективу. Жора – алкоголик «с приветом», терять ему особенно нечего, жить он, очевидно, будет теперь у меня под боком всегда (а работа у него такая: сутки дежурит, трое – дома), и вот, ко всему прочему, у него появились и цель, и смысл жизни, а я из-за своей напряженной и постоянной работы перед ним как бы и беззащитен.
Ну, в общем, ясно стало, что кончилась моя более или менее благополучная жизнь и работа. Дьявольщина эта ведь не сгинет, даже если я Жору, допустим, крестным знамением осеню. Так уж мне просто не повезло.
Коммунальная квартира
Принято считать квартирные происшествия дрязгами. Милиция, как правило, даже и не реагирует на них. И то правда – поди разберись, особенно если ссорятся, к примеру, муж с женой. Сегодня поссорились – завтра помирились. То же и соседи. Сам «коммунальный» быт предполагает и провоцирует склоки и дрязги – никакая милиция не разберется. Муж-то с женой, видя друг друга изо дня в день, подчас начинают воспринимать это как пытку, что же говорить о соседях – людях чужих и разных, как правило, и по склонностям, и по интересам в жизни. Быт, особенно если он не устроен, сплошь да рядом, как кислота, разъедает основу человеческой нравственности – достоинство. А где страдает достоинство, там чего ж хорошего ждать?
Конечно, бывает так далеко не всегда. Наша квартира, например, при всей многочисленности ее обитателей, была одно время почти что образцово-показательной – и как раз тогда, когда было в ней наибольшее количество жильцов – двадцать четыре. Может быть, это объяснялось послевоенными общими трудностями – горе частенько сближает, может быть, давно сложившимися отношениями терпимости, солидарности еще со времен войны. Но потом семьи одна за другой стали получать квартиры, на их место вселялись новые… И все разрушилось.
Ну прямо срез общества можно стало изучать по одной нашей квартире! Были у нас представители рабочего класса, и служащие, и интеллигенция, и пенсионеры, и дети. И даже писатель нашелся, вот оно как.
Ясно же, что судьба повести моей самым непосредственным образом зависела от меня, ее автора… А моя жизнь теперь, в конце мая – июне, начала обретать все более неприятные особенности. Наши отношения с Жорой Парфеновым все обострялись. Слышал я и угрозы «зарезать» и, честно говоря, долю реальности в них видел. С одной стороны, он, конечно, просто красовался передо мной. Но с другой… Выпив, он моментально становился почти невменяемым.
И все бы ладно, но как работать? Как сосредоточиться, как искать все эти «интонации», «звуки», единственно верные слова, образы и так далее? Атмосфера, прямо скажем, сгущалась. Одно маленькое происшествие было особенно показательным.
Проясняя кое-какие детали повести, я, по совету Беднорца, звонил Александру Федоровичу Горкину – тому самому Горкину, который был секретарем Президиума Верховного Совета СССР еще при Сталине.
Звонил я теперь в основном из уличного автомата, а тут решил – из квартиры. Думал, что Жоры нет дома. И, как назло, дозвонился, и говорил с Горкиным, а в это время сосед мой услышал мой голос, заколотил в стену и закричал, что все равно меня скоро зарежет. Мог ли представить себе эту ситуацию человек, с которым я спокойно беседовал по телефону?
Наконец дошло у нас и до прямого рукоприкладства.
В коридоре я встретил Жору. Небритый, совсем опустившийся, он стал угрожать мне опять, из комнаты выглядывал его приятель – не Володя, другой, довольно хлипкий парнишка. Игнорируя его, я прошел в свою комнату и принялся бриться у зеркала. После бассейна я чувствовал себя уверенно, в форме и не запер дверь комнаты.
Дверь открылась, и на пороге возникло грузное пьяное существо. Сопя, он стал надвигаться на меня.
– Жора, уйди, – сказал я спокойно, но решительно, не прекращая бриться. – Уйди, мне некогда с тобой заниматься. Сейчас ко мне гости придут.
Сопя, он продолжал надвигаться на меня и наконец ударил. Несильно, пьяно, однако зеркальце выпало у меня из рук. Реакция моя была вполне естественной. Свободной – правой – рукой я не столько ударил, сколько толкнул его в скулу. Он отлетел к шкафу и неуклюже принял «боксерскую» стойку. В пьяных глазах его я увидел страх! Он, очевидно, вспомнил про мою боксерскую грушу, которая, кстати, висела тут же, потому и принял дурацкую «стойку». В один миг я почувствовал, что могу сделать с ним все, что хочу, что он пьян и беззащитен и что, может быть, есть смысл как следует проучить его… И вдруг его стало жаль. Он боялся меня – и это все решило. Не мог я бить испуганного пьяного человека, пусть и потерявшего человеческий облик! Лежачего не бьют, а он был лежачий, лежачий по существу…
Итак, что было делать? Почти все мои друзья и родственники знали о трагикомических, но все же чрезвычайных обстоятельствах, в которых я оказался. Многим такое было очень знакомо… Некоторые советовали на время уехать – например, на дачу к кому-нибудь, чтобы хоть закончить третий вариант и сдать Румеру, а потом уж решать, что делать дальше. Но такой выход казался мне все же отступлением, уступкой хамству и тупости, поражением в каком-то смысле.
Все виды и способы благородных переговоров «на высшем уровне» были к тому времени уже испробованы, но безрезультатно. И с женой его я говорил по-доброму, и с ним, когда он был трезв или сравнительно вменяем. Однажды в трезвом виде он даже извинился, играя, правда, ноздрями, и пообещал, что такого больше не повторится. Я стал тешить себя иллюзией, что, может быть, наконец-то наступит мир («облобызаемся, братие!») и даже подарил детскую книжечку их мальчишке. Увы, «высокой договоренности» хватило ровно до первого возлияния.
Командировка и очерк
Как бы то ни было, но третий вариант повести я закончил. И отнес Румеру. Можно было ехать в командировку от «Правды».
– Поезжай, поезжай, – сказал Румер опять с настойчивостью. – Если твой очерк выйдет в «Правде», это очень облегчит наши дела. Я говорил с замом, он считает, что пробить повесть будет очень трудно, главный вряд ли пойдет сейчас на публикацию. Конечно, мы будем пытаться, со своей стороны, я сделаю все. Будем ждать подходящего момента. Но ты обязательно поезжай! А я пока буду читать твой последний вариант и давать, кому надо.
В тот же день я позвонил Виталию Андреевичу, приехал к нему в редакцию, и мы тотчас наметили место командировки. Виталий Андреевич представил меня редактору сельхозотдела. Это был сравнительно молодой, серьезный, но и приветливый мужчина.
– Самое главное: попробуйте отразить чувство хозяина на своей родной земле, – приблизительно так растолковал он тему будущего моего очерка. – И постарайтесь найти личность. Такие есть у нас среди механизаторов. Истинные передовики – это всегда личности.
Я уехал в первых числах июля, командировка (десять дней) прошла удачно, я познакомился даже не с одним, а с двумя действительно интересными людьми, механизаторами-комбайнерами, материал, как говорится, просился на страницы газеты. Очерк написал быстро, и – о радость! – он понравился Виталию Андреевичу. Настолько прошла для меня успешно первая командировка от «Правды», что тогда же я начал на ее материале писать еще и повесть.
И вот – о исторические минуты жизни! – в конце августа мой очерк под символическим названием «Своя песня» был напечатан в «Правде». Почти полностью! С некоторыми изменениями и купюрами, но не столь уж большими…
Да, опять похвала. Еще одному хорошему человеку. И не в том, конечно же, дело, что благодаря Виталию Андреевичу и только ему был напечатан мой первый очерк на страницах центральнейшей нашей газеты. А в том, что, редактируя, Виталий Андреевич заботился прежде всего о деле. Конечно, редактор отдела меня, как говорится, «нацеливал», но обычно-то как бывает? Нацеливать-то нас нацеливают, однако потом все получается как раз наоборот. Покажите героя нашего времени, но смягчите то, с чем герою приходится во имя своих идеалов бороться. Покажите личность, но только так, чтобы личность эта не слишком-то выделялась. Покажите чувство хозяина, но так, чтобы «хозяин» знал меру и не заносился перед вышестоящим начальством. Показывайте, показывайте наши недостатки, будьте принципиальными, но… поймите же… это льет воду на мельницу… не очерняйте слишком-то… Дайте героизм, но… без страданий!
И редактор – первый, кто уверенно, спокойно начинает постепенное и привычное убиение живого. Какая там «интонация», «звук», «дыхание правды», «соответствие написанного задуманному» и прочие эмпиреи! Есть правила, есть железные установки. Есть, конечно же, мнение. И – катись ты со своими «дыханиями-звуками».
Виталий Андреевич Степанов, работавший в самой главной газете, сохранил уважение к живой личности, вот в чем фокус. Ему-то, сотруднику отдела, единственному, насколько знаю, по связи с писателями, так легко было бы напялить личину удобную – и по отношению к вышестоящим («чего изволите, гражданин начальник?»), и к «исполнителям заказа», писателям и журналистам («придется вам согласиться, товарищ – это ведь главная газета ЦК!»). Но нет, он оставался живым, чувствующим, эмоционально раскованным человеком. Уважающим живое, уважающим правду. Уважающим мнение «исполнителя».
И не в том дело, будто считаю свой первый правдинский очерк шедевром, а в том, что Виталий Андреевич как первая – и самая ответственная инстанция – на пути между писателем и читателем – помогал автору выйти на страницы газеты живым…
Легко себе представить, чем был для меня очерк в «Правде». Увидеть свою фамилию на страницах самой главной газеты, да еще под довольно большим материалом, да еще если этот материал не изуродован – это, я вам скажу, событие. Очерк понравился в редакции и секретариате, редактор отдела не скрывал своей расположенности ко мне, он предложил опять ехать от них куда угодно, в любую точку Советского Союза.
Вот такая образная фраза пришла мне тогда на ум: «Внезапно подкатил подрагивающий бронетранспортер Судьбы…» Прямо, можно сказать, к дверям комнаты в моей коммуналке.
Позвонила старая приятельница, с которой мы лет восемь назад работали на телевидении, с тех пор встречались очень редко, но она была в курсе моих литературных мытарств:
– Я вас от всей души поздравляю! Я так рада за вас. Уверена, что теперь все ваши вещи пойдут. Одна строчка в «Правде» – это событие, великий успех, а у вас целый очерк! Вы не представляете, как я рада, я даже расплакалась, когда увидела…
Я тоже чуть не расплакался, когда услышал ее. Я ведь то же самое думал. В порыве откровенности, благодарности я сказал редактору отдела про «Высшую меру», объяснил этим свою задержку с командировкой, добавил и то, что у меня много написано, а не печатают вот – в ответ на его вопрос о том, как вообще складывается моя судьба. Редактор серьезно и внимательно посмотрел на меня, улыбнулся и сказал:
– Ну, что ж, теперь, наверное, легче будет?
– Дай-то бог, – с чувством ответил я.
Увы, я не знал тогда, что легче не будет. Что подкатил именно бронетранспортер, а не дилижанс с занавесками. Не раз потом вспоминал я слова Юрия Трифонова, которые сказал он при нашей встрече после выхода моего первого сборника с его предисловием:
– Запомните: легче не будет. Будет труднее, если вы останетесь верным себе. Легче не будет!
Почему?
Ну почему все же так слабо добро? – частенько думаем мы в горечи и печали. Почему именно то, что, казалось бы, нужно всем – добросовестность, взаимная поддержка, солидарность людей в хорошем общем деле, – почему это бывает так редко? Тогда как обратное – сплошь да рядом? Как дошли мы до того, что о естественных, казалось бы, человеческих свойствах, о порядочности говорим как о героизме?
Мы боимся иметь свое мнение… Как в анекдоте: «У вас есть свое мнение?» – спрашивает сурово руководящий товарищ. «Да, есть… – нерешительно отвечает подчиненный, но тут же спохватывается: – Но я с ним решительно не согласен!»
В деле Клименкина ведь что особенно характерно? То же самое! С чего началось? С того, что Ахатов, недолго думая, принял первую же, удобную для него версию, арестовал Клименкина – и это как раз можно понять. Но дальше-то, дальше…
Приятели предали, сослуживцы на своем «собрании» тотчас общественного обвинителя выдвинули – на поводу у следователя пошли, следователь Джумаев давил и на них, и на обвиняемого, и на свидетелей. Тут же и классические лжесвидетели отыскались.
Да, конечно, заявил о себе и Каспаров – решительно согласился он со своим мнением, – за ним и другие не поддались, потому только и начался «обратный ход». Но сколько же было затрачено сил, сколько чуть ли не героизма понадобилось хорошим – а в общем-то, просто нормальным! – людям, чтобы добиться такой вот победы…



