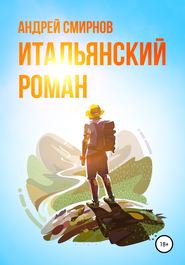 Полная версия
Полная версияИтальянский роман
***
Туринец Анджело Мориондо был человеком будущего. Рыцарем индустрии в сверкающих доспехах с медными заклёпками. Апологетом паровозов, пароходов, паромобилей, паролётов и бог ведает каких ещё парочудес, которые нёс с собой стремительно приближавшийся XX век. Дело его жизни – шоколадная фабрика – работала как отлаженный часовой механизм. Как наисовременнейший конвейер какого-нибудь детройтского завода. Когда же он приобрёл гостиницу с прилагавшимся к ней баром, то и там устроил всё по прогрессивному американскому образцу. Вот только кофе… На процесс его приготовления Мориондо без слёз взглянуть не мог. Воду налить, огонь развести, дождаться пока закипит… Время идёт, клиент нервничает. Нет, выдающиеся американские промышленники нас за это не похвалят. Пар! Могучий пар, толкающий многотонный поршни и вращающий гигантские турбины, должен прийти на помощь. Синьор Мориондо сел за чертежи.
На Туринской промышленной выставке 1884 года мир увидел поразительную машину. Пшшш!.. – двадцать пять секунд – кофе готов. Пшшш!… – двадцать пять секунд – кофе готов. Стремительный паровой эспрессо прибывает на первый путь!
Увы, но при жизни изобретателя неспешные патриархальные итальянцы не сумели по достоинству оценить американизированный экспресс-стиль потребления эспрессо. Зато уж потом, когда наконец-то распробовали вкус, их от него за уши стало не оттянуть.
Полвека спустя в Италии впервые высадился массовый десант настоящих американцев. Десант в буквальном смысле. Приехали они воевать с Гитлером и Муссолини. Занятие это было нервным и утомительным. Понятное дело, что вечером после боя солдаты желали отдохнуть за чашечкой кофе. Итальянцы с радостью и гордостью подносили освободителям свой любимый эспрессо. Американцы с удивлением рассматривали крошечный глоток чёрной жидкости на дне чашки. И пытались объяснить хозяевам, что их, по-видимому, не так поняли. Штука в том, что они-то тоже знали толк в хорошем кофе. Готовили его в Америке действительно быстро, в этом синьор Мориондо был прав. Однако совсем другим способом. Кофе специального, отличного от эспрессо помола пропускали через бумажный фильтр, в результате чего получался вкусный и ароматный напиток. Вот только итальянцы-то обо всём этом представления не имели.
– Слушай, чего они от нас хотят? – спрашивали они учёного соседа, с грехом пополам понимавшего английский язык.
– Толком не разберу, но вроде бы просят добавить в кофе бумаги. И воды побольше.
– Бумагу? В кофе? Ну и дикари!.. Вот что: сделаю-ка я им обычный эспрессо да плесну сверху половник кипятка. Всё равно разницы не заметят.
Разницу солдатики очень даже замечали. Но поскольку напитка иного, приготовленного по нужной рецептуре, здесь получить всё равно было невозможно, а итальянцы выглядели в своей правоте твёрдо убеждёнными, постепенно американцы и сами поверили, что это действительно и есть настоящий сaffè americano. И даже, к ужасу итальянцев, начали получать от него удовольствие.
Однако у подлинного американского метода кофеварения имелось одно неоспоримое преимущество. Его можно было легко воспроизвести в домашних условиях. Хотя благосостояние итальянцев после войны существенно выросло, но позволить себе обладание личной эспрессо-машиной они не могли никак. Уж проще и дешевле было телевизор купить. И тут на экранах свежекупленных телевизоров появился смешной мультипликационный человечек с большими усами.
– Да-да-да! – сказал он. – Очень просто сделать дома эспрессо лучше, чем в баре!
Звали его Ренато Биалетти. Не мультяшного героя, конечно же, а того, у кого он позаимствовал столь роскошные усы. Строго говоря, новый революционный тип кофеварки, «Моку», изобрёл не Ренато, а его отец, Альфонсо. Говоря ещё более строго, авторство принадлежит итальянским прачкам. Ещё в 30-х годах Биалетти-папа подсмотрел у них конструкцию самодельной стиральной машины. Дырявое корыто с бельём помещалось в другое корыто, в которое бросали золу и мыло. При реакции смеси с водой образовывался щёлок и поднималась пена, заполнявшая верхний резервуар. Этот принцип Альфонсо и перенёс в «Моку».
Особого коммерческого успеха, впрочем, она не имела. До тех пор, пока Биалетти-сын одним из первых в Италии не осознал, какие чудеса способна творить телевизионная реклама.
Реклама и немного смелости. Однажды Биалетти встречался с потенциальными заказчиками из Франции. Те на его товар смотрели скептически. Тут Ренато заприметил пробегавшего мимо Аристотеля Онассиса, самого богатого человека в мире. Он настиг греческого миллиардера в туалете, прижал к стенке и взмолился:
– Я бедный и несчастный начинающий предприниматель. Такой же, каким были когда-то и вы. Умоляю, помогите мне! Скажите им, что пользуйтесь моей кофеваркой!
Онассис не ответил ничего. Расстроенный Биалетти вернулся к французам. Тут кто-то дружески хлопнул его по спине.
– Ренато, ты ли это?!.. Твой кофе – лучший, что я пил в жизни!
Супротив рекомендации Онассиса мир устоять был не в силах. «Мока» разошлась тиражом в сто миллионов экземпляров. Третий ключевой элемент всепобеждающего учения был найден. Сдержать стремительное распространение его в умах и сердцах стало уже невозможно.
И с Апеннинского полуострова вылетели атакующим клином неисчислимые итальянские рестораны. С оглушительным успехом вонзились в боевые порядки иностранных заведений общественного питания. Ибо правда на их стороне. Никто и ничто не смеет покушаться на безраздельное господство итальянской кухни. Недорого заплатят посетители за желание отведать пасты, разделить с друзьями пиццу и насладиться чашечкой эспрессо. Не бывать им голодными. Вперёд, накрывай!.. Корми их, корми!..
Вот потому и случилось так, что уже нынешнее поколение людей планеты Земля живёт в эпоху развитого пищевого итальянизма.
Семьдесят лет спустя
Il boungiorno si vede dal mattino – «Хороший день с утра виден». Если эта поговорка верна, то день мне предстоит так себе. Остаток текущего этапа какой-то уж совсем унылый и неинтересный. Вдобавок где-то рядом проходит напряжённая автострада, грохот которой заглушает все звуки и действует на нервы. В начале этапа нового, вопреки надеждам, – никаких следов жилья или присутствия людей.
Сижу, раздражённо размышляю о том, что сейчас опять надо переться куда-то вниз, искать воду и еду. Перспектива эта мне ну вот совсем не нравится. Слышу шум приближающейся машины. Вспоминаю опыт первых дней пути, прыгаю под колёса… И в этот момент поговорка начинает стремительно опровергаться.
Франко – так зовут водителя – лет пятьдесят-шестьдесят. Он выясняет кто я, что тут делаю и в чём нуждаюсь. После чего берёт инициативу в свои руки и действует с решительностью, точностью и непреклонностью хорошего боевого офицера.
Для начала он усаживает меня в машину. Вяло сопротивляюсь. Едем к источнику воды. Судя по всему, сюда он ещё до встречи со мной и направлялся, поскольку извлекает из багажника целую батарею пластиковых бутылок и наполняет их из родника. Затем везёт меня в близлежащий городок. Сопротивляюсь значительно активнее. В городок ему самому уже явно не надо. Идём в бар. На всякий случай требуется пояснить, что их «бар», в нашем понимании, – лишь обычное кафе, и во фразе «сводить ребёнка в бар» итальянцы не увидят ничего предосудительного. Там я завтракаю, а Франко пьёт кофе. Коварно улучив момент, когда я отвлекаюсь на поедание круассана, он успевает за мой завтрак заплатить. Взвиваюсь на дыбы, но натыкаюсь на столь вежливо-недоуменный и исполненный решимости до конца отстаивать свою позицию взгляд, что теряю всяческую волю к сопротивлению.
Далее он конвоирует меня в продуктовую лавку, где громко объявляет о причинах и цели нашего визита, после чего вступает с женщиной за прилавком в оживлённую дискуссию, посвящённую вопросам количества и качества продуктов, необходимых и достаточных для поддержания мной здоровой и сбалансированной диеты. Мало-помалу к прениям подключаются все присутствующие в лавке покупатели. Наконец они приходят к консенсусу и торжественно вручают мне сформированный совместными усилиями продуктовый набор. Слава богу, по крайней мере, позволяют за него заплатить.
Вспоминаю, что мне нужны сигареты, но признаваться в этом Франко уже совсем неудобно. Однако он сам догадывается, что меня что-то беспокоит, и после короткого интенсивного допроса мы отправляемся искать табакерию. Франко не курит, поэтому процесс поиска занимает довольно продолжительное время. Мне неудобно перед ним уже с какой-то нечеловеческой силой.
Убедившись в завершённости моей экипировки, он объявляет, что собирается доставить меня на то же место, где нашёл. Пока едем, судорожно пытаюсь отыскать подобающие слова благодарности. Слова упорно не желают находиться ни на одном из известных мне языков. О чём ему честно и сообщаю. Смотрит с удивлением: за что, дескать, я вознамерился его благодарить? То, что он делает, – он делает не в качестве одолжения, а исключительно потому, что сам, по собственной инициативе, делать это полагает нужным и правильным.
Вновь оказываюсь на исходной точке. Здесь успела объявиться пара ребят с кинокамерой. Нет, они не туристы, хотя Роберто – серьёзный спортсмен, популяризатор беговых дисциплин и даже летал в Санкт-Петербург с единственной целью пробежать марафон. Они снимают про Альта Вию документальный фильм. В котором я сразу же получаю роль.
Роль такая: Роберто изображает, что идёт по Альта Вие, а я изображаю, что иду по ней в противоположную сторону. Сойдясь центра кадра, мы изображаем радость внезапной встречи, и он берёт у меня интервью, в котором я жалуюсь на отдельные недостатки маршрутной разметки и выражаю восхищение Италией и итальянцами. Сейчас мне поверил бы сам Станиславский. И не потому, что я такой уж хороший актёр.
Прощаясь, спрашиваю у Роберто: зачем, собственно, они это снимают? Отвечает, что собираются продать фильм на телевидение. Выходит, я теперь без пяти минут итальянская телезвезда.
В несколько ошалевшем от столь бурного утра состоянии преодолеваю пару километров. Как вдруг на маленьком придорожном указателе краем глаза выцепляю слово russo – «русский».
Посреди скрытой деревьями и кустами полянки покоится большой валун. Ровная и плоская вертикальная поверхность его испещрена выбоинами. Надпись на позеленевшей от времени табличке гласит:
«На этом месте в апреле 1945 года немецкими военными был расстрелян русский солдат, их пленник. Имя его осталось неизвестным».
Долго стою перед памятником. Смотрю, курю, думаю.
Кладу к подножию ломоть хлеба и сигарету, наливаю воды. Всегда крайне скептически относился к подобным ритуалам. Но сейчас это вдруг кажется… уместным и нужным, что ли… Не знаю, правильно ли сделал. Ну да ладно.
И ухожу. А он остаётся. Такие дела.
И снова вокруг безлюдье, горы, полоса моря на горизонте, сосновые перелески, холмы, камни и посёлки в долинах. Обнаруживаю неприятное: начинают опухать лодыжки и ступни. Нет, не болят – во всяком случае не более того, как и должны, с учётом проделанного пути и многочисленных ударов о камни, – а просто увеличиваются в размерах.
Маленькая придорожная парковка. Сегодня выходной день, из подъезжающих автомобилей выбираются нарядно одетые семьи и ведут выгуливать собачек и престарелых родителей вокруг каких-то живописных озёр. Об их живописности, во всяком случае, сообщает информационный стенд.
Лежу на скамейке, сняв обувь и вытянув ноги. Итальянцы косятся на меня не то чтобы неодобрительно, но с подозрением. Видать, им не очень уютно оставлять машины под присмотром босого, оборванного и небритого типа. Из вредности улыбаюсь и машу ручкой всем проходящим мимо. Не, ну а чего они?.. Бомж – тоже человек, тоже звучит гордо!
Мне с ними не по пути. Альта Виа опять уводит в гору. Ногам становится хуже, идти тяжело. С грустью понимаю, что этот этап, скорее всего, окажется последним. Хотя до обратного самолёта у меня ещё как минимум два полных дня, придётся с маршрута сходить.
Но сегодня мне этого сделать не суждено, поскольку натыкаюсь на отличное убежище. Собственно, это метеорологическая станция Итальянского Альпийского Клуба, организации, которая ныне в основном и поддерживает жизнь на Альта Вие. Здесь есть маленький ботанический сад, сарай с инструментами, баки для сбора дождевой воды, солнечные часы, указатель направлений до соседних гор и прочие интересные штуковины. Внутри закрытой на простую щеколду деревянной пристройки-укрытия обнаруживается даже бинокль для общественного пользования. Электричества вот, правда, нет. Зато свечи в изобилии. Листаю журнал посещений. Судя по нему, люди забредают сюда в среднем раз в неделю. Почти всё на итальянском, отметилась лишь парочка немцев и французов. И почему-то ещё несколько неожиданных чилийцев. Ну а теперь и я.
Сон пятый. На дне
Давным-давно, когда Бонапарт ещё не успел стать просто Наполеоном, в Далмации, у самого синего Адриатического моря, жил да был один народ. Точнее, народов было как минимум два. Но в те времена политики им об этом ещё не сообщили, а сами они на такие мелочи внимание обращали не сильно. Знали только, что те из них, кто ближе к побережью селится, говорят в основном на исковерканном латинском языке, а в гости к родственникам ездят всё больше на запад. Те же, кто от моря подальше, – говорят на языке южнославянском, а родственники у них чаще встречаются на востоке. В общем, хорошо жили, дружно. Благо, ни Венецианская республика, ни Австро-Венгерская империя, которые этими землями по очереди формально владели, им особо не докучали.
В середине 40-х годов XIX века, однако, прибрежные далматинцы получили от родственников письмо:
«…Намедни заезжал к нам синьор Гарибальди. Привёз новости. Мы теперь, оказывается, итальянцами не только по месту проживания называемся, но и по национальности. Выходит, вы там у себя хоть и не в Италии, но тоже итальянцы».
Австрийским императорам Гарибальди со своими новомодными смутьянскими идеями был как шило в троне. Потому они сразу же сообщили второй части далматинцев: вы, мол, если что, никакие не итальянцы, а вовсе наоборот – хорваты. А некоторые даже словенцы и черногорцы.
Получив столь удивительные известия, национально самоопределившиеся итальянцы и национально самоопределившиеся хорваты прислушались к внутренним ощущениям и установили, что нравятся друг другу на порядок меньше, чем ещё минуту назад.
– Оккупанты! – сказали хорваты.
– От оккупантов и слышим! – сказали итальянцы. Но поскольку среди далматинцев их было всего двадцать процентов, хорватские доводы оказались убедительнее. Делать нечего: итальянцы собрали чемоданы, пошли на вокзал и уехали в свежепровозглашённое Итальянское королевство. За последующие полвека число их в Далмации сократилось в десять раз.
Сходным образом ситуация развивалась и на иных спорных пограничных территориях. В Триесте, Больцано, Истрии австрийцы поощряли процессы германизации и славянизации. В Италии же в ответ на это возникло националистическое движение за возвращение terre irredente – «неискуплённых» исконно итальянских – по версии итальянцев – земель. Идея эта увлекла всех настолько, что когда страны Антанты посулили в случае победы отдать Италии вожделенную часть австрийских владений, итальянцы заразились обычно несвойственным им милитаризмом, вступили в Первую мировую войну и всё, что хотели, себе отвоевали. Включая Далмацию. Превратившись в уже настоящих оккупантов по отношению к тамошним славянам. Те в свою очередь быстренько объединились в Королевство сербов, хорватов и словенцев, заявили, что никаких земель отдавать не собираются и частично вытолкали итальянцев взашей. Мировое сообщество предпочло забыть о данных ранее обещаниях, высказавшись в том смысле, что сами теперь там в своих пограничных спорах разбирайтесь.
– И за что же мы три года воевали? – расстроились итальянцы.
– Искалеченная победа! – поэтически охарактеризовал сложившуюся ситуацию Габриэле Д’Аннунцио.
Собственно, поэтом он и был. Восхождение своё к вершинам литературного Олимпа Д’Аннунцио начал с того, что умер. В 1879 году добрая половина синьор и синьорин Италии рыдала над чрезвычайно талантливым дебютно-посмертным сборником безвременно попавшего под лошадь шестнадцатилетнего юноши бледного со взором горящим.
– Слухи о моей смерти, – сказал Габриэле, дождавшись кратковременного затишья в ливне слёз, – сильно преувеличены. Я сам их в рекламных целях и распустил.
Синьоры и синьорины обрадовались чудесному воскрешению настолько, что Д’Аннунцио сразу же занял вакантное место текущего солнца итальянской поэзии. И всю оставшуюся жизнь пользовался таким неослабевающим женским вниманием, что в начале нового века вынужден был ретироваться за границу, поскольку бесконечные романы влекли за собой бесконечные долги.
Вступление Италии в войну – которая, как известно, списывает всё – убеждённый ирредентист Д’Аннунцио принял с восторгом. Не медля ни секунды, пятидесятидвухлетний поэт добровольцем записался в армию. И обнаружил в себе талант воздушного аса, ничуть не уступавший литературному дарованию. Он носился над линией фронта, воодушевляя итальянские войска пламенными речами и обрушивая на головы австрийцев град бомб, торпед и пропагандистских листовок со стихами собственного сочинения. Даже когда пулемётом ему выбило глаз, Д’Аннунцио не умерил пыла. Хотя пулемёт – не говоря уж об австрийцах – был не виноват, об него поэт сам неудачно стукнулся головой при жёсткой посадке, Д’Аннунцио разозлился настолько, что полетел бомбить Вену. Учитывая, что располагалась она в пятистах километрах за линией фронта, а уровень развития авиации в 1918 году оставлял желать лучшего, воздушный рейд тот стал событием беспримерным и в полном смысле слова героическим. Хотя ни малейшего ущерба противнику – за исключением морального – и не нанёс. В первую очередь потому, что в жителей австрийской столицы Д’Аннунцио кидался не бомбами, а листовками с призывом «Сдавайтесь и давайте жить дружно!»
Короче говоря, Габриэле Д’Аннунцио не относился к людям, которых можно искалечить без последствий. И не важно, шла ли речь о нём самом или же об одержанной его страной победе.
Сентябрьским днём 1919 года в городке Фиуме, что на севере Далмации, начался переполох.
– Вставайте!.. Вставайте!.. Нас завоёвывать идут!..
– А кто?.. Кто идёт?.. – неслось со всех сторон. Праздным вопрос не был. С одной стороны, изначально, ещё до войны, конкретно Фиуме отдавать итальянцам никто не обещал. Более того, по всем планам и договорам он должен был отойти хорватам. С другой же, население города, в отличие от остальной территории Далмации, было в основном италоязычным и по собственной инициативе порывалось войти в состав исторической родины.
– Да пока непонятно кто. Говорят, это вообще какие-то дезертиры. А ещё говорят, они на марше хором стихи декламируют.
– А, ну тогда это итальянцы, понятное дело, – сразу же догадались фиуменчане.
Убедившись, что римское правительство было не способно – да и не сильно стремилось – правильным, с поэтической точки зрения, образом разрешить фиумеанский вопрос, Д’Аннунцио принялся тайно – через воззвания в газетах – подговаривать итальянских солдат дезертировать и отправиться с ним в Далмацию. Финансировалась экспедиция за счёт народных пожертвований. Ответственным за сбор денег назначили ещё одного видного ирредентиста, Бенито Муссолини. Вышло не очень хорошо: значительную часть собранной суммы Муссолини прикарманил и пустил на создание собственного воинства чернорубашечников. Дабы финансовые разборки не бросали тень на правое дело ирредентизма, Д’Аннунцио пришлось сделать вид, что так и было задумано.
Прибыв на место во главе двух с половиной тысяч солдат, мятежный поэт объявил Фиуме вольным городом, а себя – военным диктатором. Диктатура у него тоже была поэтическая. Она предусматривала закреплённую в конституции свободу мысли, совести, высказывания, вероисповедания и сексуальной ориентации, полное равноправие полов, право на личную неприкосновенность и судебную защиту, не говоря уж о праве избирать и быть избранным. Разрешалось даже ходить голым и употреблять наркотики.
Итальянское правительство, не желавшее лишний раз ссориться с сербо-хорватами и всем остальным миром, столь прогрессивные диктаторские замашки не одобрило и попыталось выковырнуть Д’Аннунцио из Фиуме силой. Получилось плохо. Посланные на усмирение мятежа войска массово переходили на сторону поэта.
Начались переговоры. Д’Аннунцио требовал незамедлительного присоединения Фиуме к Италии, против чего последняя не возражала, но с оговоркой, что не сейчас, а когда-нибудь потом. Жителей города такое развитие событий тоже в принципе устраивало. Им главное было не оказаться вдруг хорватами. Фиумечане вынесли вопрос на общегородской референдум и постановили в Италию не спешить. Д’Аннунцио это не понравилось, итоги референдума он не признал, зато первым в мире признал образование новорождённой РСФСР. Советское правительство во главе с Лениным не осталось в долгу и единственным в мире признало независимую республику Фиуме. Вдохновившись этой внезапной поддержкой, Д’Аннунцио решил, что раз Италия аннексировать Фиуме не хочет, придётся Фиуме аннексировать Италию. И начал готовиться к вторжению.
– Вот ведь незадача: диктатор-то наш и взаправду диктатором оказался, – жаловались друг другу горожане.
Итальянским военным идея воевать с Италией тоже пришлась как-то не по душе. А тут ещё Рим и Белград подписали договор о том, что обе стороны согласны Фиуме оставить в покое и не оккупировать. Что устраивало почти всех, даже Муссолини. Д’Аннунцио оказался палкой в колесе истории. А потому в декабре 1920 года итальянские правительственные войска провели успешную операцию по удалению поэта из Фиуме и отправили его на почётную пенсию, сочинять мемуары.
Четыре года спустя жители вольного города Фиуме обнаружили, что их опять идут завоёвывать. Капитал, помещённый Муссолини в чернорубашечников, принёс ему дивиденды в виде должности премьер-министра Италии. Ошибок Д’Аннунцио Муссолини повторять не стал: диктатура его была вовсе не поэтической, а вполне нормальной, фашистской. Контролируемые Италией районы Далмации, ещё не успевшие толком оправиться от насильственной австрийской славянизации, подверглись насильственной италянизации. С переписыванием фамилий в паспортах, переименованием населённых пунктов, закрытием хорватских и словенских школ и прочими нерадостными для славян радостями. Это вполне предсказуемо привело к возникновению теперь уже славянского ирредентизма и появлению первых очагов вооружённой национально-освободительной борьбы. Фашисты сочли это подтверждением своей изначальной гипотезы – нельзя, мол, этим славянам доверять – и усилили репрессии.
Тем временем Королевство сербов, хорватов и словенцев, дабы неотражённым в названии боснийцам, черногорцам и македонцам было не так обидно, переименовалось в Югославию. Помогло это не сильно. Все, кто не сербы, были недовольны явной сербской гегемонией в общем государстве. Великие же державы сознательно играли на внутриюгославских национальных противоречиях, стремясь обрести контроль над стратегически важным регионом в преддверии возможной следующей войны. К 1939 году, когда Вторая мировая война всё же разразилась, белградское правительство так и не смогло определиться, к какому же из противоборствующих блоков примкнуть. Но Гитлер им казался симпатичнее. Или же с ним просто страшнее было ссориться.
Пока югославы раздумывали, Муссолини вторгся в Грецию. Закончилось это так же, как и большинство его военных авантюр: плохо. Теперь Гитлеру нужно было думать, как спасать незадачливо союзника – а заодно и репутацию стран Оси – от греческого вторжения в Италию. Проблема была в том, что между немецкими войсками и Грецией располагалась Югославия.
– Так, мне вас завоёвывать некогда, у меня план «Барбаросса» на носу, – сказал Гитлер врио югославского короля князю Павлу. – Предлагаю следующее: вы вступаете в наше буржуинство, а я вам за это греческий порт Салоники подарю.
Павел помялся для приличия, но Гитлеру перечить не решился. Это, однако, крайне не понравилось большей части сербов. Они постановили, что в условиях военного времени семнадцатилетний король Пётр Второй, регентом при котором князь состоял, может считаться совершеннолетним, и произвели королевскую рокировку путём государственного переворота.
Гитлер счёл дальнейшие переговоры бесперспективными и приказал своим танковым корпусам ехать в Грецию без задержек и напрямик. Те ослушаться не посмели и через неделю прибыли в пункт назначения, практически не обратив внимания на всякие мелочи, типа пытавшейся их остановить югославской армии. Точнее, сербской половины армии. Хорватская её часть встретила немцев как освободителей от сербского ига. Воспользовавшись оказией и под формальным предлогом «по просьбам трудящихся», Гитлер Югославию распилил на куски.



