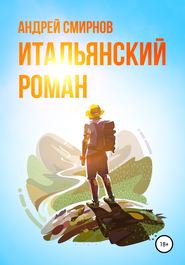 Полная версия
Полная версияИтальянский роман
Это последнее было не прихотью, а производственной необходимостью. Семь сестёр не собирались сложа руки наблюдать, как у них из-под носа уводят нефтяные месторождения. Горели буровые вышки, не по своей воле сменялись правительства, при загадочных обстоятельствах умирали люди. Праворадикальная вооружённая группировка OAS, боровшаяся за сохранение французского господства в Алжире, та, что позднее прославится покушением на генерала Де Голля и попыткой государственного переворота во Франции, приговорила Маттеи к смерти. В ответ на это он окружил себя маленькой личной армией, ядро которой составляли члены его старого партизанского отряда.
Не всё обстояло благополучно и внутри Италии. Политика и политики её в те времена находились под сильнейшим англо-американским давлением. Да и без того критиковать Маттеи было кому и за что. Методы его и близко не укладывались в рамки законов и правил. За счёт чего финансировалась и как жила скрытая часть айсберга ENI, в полной мере понимал разве что сам его создатель. Однако на беду его противников, благородство целей Маттеи не могли не признать даже самые беспощадные критики.
ENI строила автострады. Ведь чем больше машин – тем выше спрос на бензин.
ENI строила заводы и фабрики. ENI спасала предприятия от банкротства и прямо или косвенно обеспечивала работой сотни тысяч – если не миллионы – итальянцев. Ведь чем больше у них будет денег, тем больше машин и бензина они купят.
ENI возводила крупнейшую в тогдашней Европе атомную электростанцию. Ведь нефть всё равно чужая, а газ когда-нибудь кончится. Даже в этом случае страна должна сохранить энергетическую независимость.
И итальянцы платили ENI взаимностью. Окружённый народной любовью, Маттеи был неуязвим. Но и этого ему было мало.
В 1959 году, в самом разгаре холодной войны, Итальянская республика, одна из стран-основательниц блока НАТО, на крайне выгодных для себя условиях подписала соглашение о поставках нефти из Советского Союза. Инженер Маттеи стал первым в мире человеком, сумевшим прорубить окно в железном занавесе.
– …Я обещаю: все, кто был вынужден эмигрировать, все, кто покинул дом, – смогут вернуться. Потому что в Гальяно будет работа для всех!
Толпа перед трибуной взорвалась криками восторга. Маттеи смотрел вниз, на бедно одетых людей с мозолистыми руками и счастливыми лицами. Для них он протащил через парламент закон, распространяющий монополию ENI на Сицилию. Для них искал и нашёл здесь залежи метана. И он сдержит данное им обещание. Потому что они – и есть Италия. Страна, директором которой он сам себя назначил. И за которую теперь в ответе.
Тем же вечером, 27 октября 1962 года, его личный самолёт разобьётся незадолго до посадки в аэропорту Милана. Причины катастрофы будут окончательно установлены лишь сорок лет спустя, в 2005 году. Заложенное на борту взрывное устройство. Кому и зачем понадобилась смерть Энрико Маттеи, достоверно неизвестно и по сей день.
***
За двадцать послевоенных лет Италия трудами своих граждан изменилась до неузнаваемости. Из патриархальной аграрной страны превратилась в одну из ведущих мировых индустриальных держав. Разделённую на южан и северян, бедных и богатых, левых и правых. Страдающую от неразрешённых и неразрешимых социальных и политических проблем. Итальянское экономическое чудо стало реальностью в промышленности и секторах, связанных с личным или семейным потреблением. Оставив за бортом сельское хозяйство и потребности общественные: здравоохранение, образование и государственное управление.
Над горизонтом вставало новое солнце. Кроваво-красное солнце семидесятых годов. Свинцовых лет студенческих волнений, рабочих забастовок, манифестаций, уличных сражений с полицией, попыток государственных переворотов и разноцветного политического терроризма.
Не болтай!
С утра выползать из уютной церкви в туман и морось страшно не хочется. Долго копаюсь в рюкзаке, перекладываю вещи… Признаюсь себе, что просто тяну время. Собираюсь с духом и переступаю порог.
Идти скучно. Невысокие горы, перелески, вырубки, тропинки, грунтовки, асфальтовые дороги… Да, красиво, но красота тоже, как оказалось, имеет свойство приедаться. Определённые надежды в плане достопримечательностей возлагаю на отмеченный в путеводителях исторический форт под названием Il Baraccone, которое на русский можно перевести как «большой сарай», «сараище», «сараюга». Увы, выясняется, что название этого выдающегося памятника архитектуры XVII века в полной мере отражает его суть.
Пока обедаю в кафе попутного городка Альтаре, наблюдаю итальянскую семью в процессе обсуждения меню:
– Позавчера мы ели пасту… Вчера мы ели пасту… Сегодня мы ели пасту… Хватит с меня пасты!.. Мяса!.. Давайте закажем мяса!..
Помимо пастопроблем, Альтаре примечателен тем, что в нём есть специальный камень со специальным флагом. И вся эта конструкция официально отделяет Альпы от Апеннин.
Апеннинские горы встречают меня видом грузовой канатной дороги. Над головой с периодичностью раз в несколько секунд снуют десятки вагонеток. Что таким образом транспортируют, мне достоверно установить не удаётся. Возможно, ту самую пасту, которую обречены есть несчастные итальянцы.
Может потому, что день скучный, может потому, что нежаркий, а большая часть пути пролегает по асфальту, – темп держу бодрый и к шести часам вечера успеваю прошагать километров тридцать. Дохожу до конца очередного этапа и плюхаюсь на землю с таким, должно быть, несчастным видом, что из припаркованной неподалёку машины вылезает дедушка – интересно, почему мне попадаются сплошные пенсионеры? – и спрашивает, не надо ли мне чем помочь или там куда-нибудь подвезти.
Влекомый ложнопонимаемым чувством собственного достоинства, вежливо отказываюсь и в ответной речи заверяю его, что я ещё ого-го, а что валяюсь на обочине, – так это у меня просто шнурок развязался. Но вообще сейчас встану и пойду дальше. Вот прям щас!.. Испытываю подозрение, что дедушка смотрит на меня скептически. Поэтому действительно встаю и иду на следующий этап. Кончается этот приступ героизма, как и всегда: плохо. Удаляюсь в лес и туман и понимаю, что впервые по-настоящему и наглухо заблудился.
Нет, ни малейшей опасности мне не грозит. В лесу есть дороги. В лесу есть ветрогенераторы, исправно издающие своё «ву-у-ух, ву-у-ух!..» В лесу есть даже трактор, с помощью которого можно поднять здешнюю целину и вырастить урожай. Короче говоря, всё не так уж плохо. Синьор Робинзон Крузо начинал в гораздо худших стартовых условиях. Проблема лишь в том, что идея провести двадцать восемь лет в необитаемом лесу мне нравится как-то не очень. К счастью, удачно проваливаюсь в какой-то овраг. От испуга вылетаю оттуда пробкой, в панике ломлюсь сквозь непролазный кустарник и внезапно вновь оказываюсь на Альта Вие. Ещё через час относительно благополучно дохожу до следующего посёлка, где обнаруживается отель с рестораном.
Пока жую неизбежную пасту, умудряюсь очаровать девяностолетнюю маму отелевладельца. Очаровываю я её главным образом моей национальностью. Я первый живой русский, которого она видит за свою долгую жизнь. Добрая старушка гладит меня по головке – в буквальном смысле – и выносит вердикт, что я очень милый мальчик. Что заставляет милого мальчика с залысинами и седеющей бородой от неожиданности подавиться пастой.
Доедаю, расплачиваюсь и уверенно направляюсь к выходу. Меня спрашивают, не нужна ли мне комната. Уверенно отвечаю, что не нужна. Меня спрашивают, а где я, собственно, собираюсь ночевать. Уверенно отвечаю, что в лесу, разумеется. Меня больше ни о чём не спрашивают. Лишь скорбно качают головами. На часах половина двенадцатого ночи. Уверенно покидаю отель. Уверенно дохожу до околицы, где кончаются фонари. Чуть менее уверенно вглядываюсь в кромешную тьму прямо по курсу. Уверенно разворачиваюсь и отправляюсь обратно в отель, каяться в идиотизме. Теперь я и сам не в состоянии понять, какая сила гнала меня в лес и зачем она это делала? Чем, собственно, перспектива принять душ и спать на нормальной кровати меня так уж не устраивала изначально?
Утром торжественно вступаю на территорию визитной карточки и жемчужины Лигурии, а равно ключевого и, по мнению всех путеводителей, самого красиво этапа Альта Вии: природного заповедника Бейгуа. И едва-едва не ломаю ноги об устилающий эту визитную карточку бурелом.
Sun zeneize, risu reu, strinsu i denti e parlu ceu – «Я генуэзец, смеюсь редко, сжимаю зубы и говорю чётко». Так обитатели Генуи характеризуют себя в собственной поговорке. Среди остальных итальянцев они имеют репутацию людей закрытых, малообщительных и – как бы это помягче?.. – патологически экономных. Скажем честно, – репутация оправдана. Но только до тех пор, пока не узнаешь их получше, не станешь для них хоть чуточку, – но своим. Вот так и их главный заповедник: красотами он начинает делиться скупо, постепенно, как бы присматриваясь к новому человеку.
Казалось бы, вроде уже и красиво… Но нет. Пока загородим панораму здоровенными антеннами и радиопередатчиками. За которыми, впрочем, можно разглядеть кусочек моря. Рядом со смотровой площадкой на вершине горы Бейгуа, давшей имя всему заповеднику, обнаруживаю бар и захожу в него выпить кофе. И здесь теория о необщительном характере генуэзцев разваливается прямо на глазах. Здесь я встречаю самого стереотипного итальянца, какого только можно представить. Собственно, его можно смело вставлять в учебник в качестве иллюстрации к главе «Стереотипы об итальянцах».
Начинает он с того, что настойчиво пытается общаться со мной на ужасающем английском. И успокаивается, лишь когда я прямым текстом прошу перейти на итальянский. Это роковая ошибка с моей стороны. Почувствовав под ногами твёрдую почву родного языка, он принимается говорить. И говорит он, не затыкаясь ни на секунду. Он бомбардирует меня бесчисленными вопросами, ответы на которые не интересуют его ни в малейшей степени. Он даже не пытается эти ответы слушать, незамедлительно переходя к следующей теме. Он размахивает руками как ветряная мельница и высказывает своё мнение по любым вопросам жизни, вселенной и всего остального, всем вместе и каждому в отдельности. Он говорит об украинских женщинах (красивые, но странные) и албанских мужчинах (негодяи, все как один). Он говорит о погоде (в Петербурге тепло, потому что он рядом с Латвией, а Латвия – тёплая страна, он знает, он там был позапрошлым летом). Он говорит о своей маме (прекрасная, святая женщина, погоди, я тебе сейчас запишу номер её мобильного телефона).
Я уже трижды проклял этот проклятый кофе (о кофе он тоже успевает поговорить). Он замечает мой фотоаппарат, ещё более оживляется и за руку тащит меня на улицу к своей машине (по пути успев поговорить о машинах), извлекает из неё собственную камеру и минут десять увлечённо говорит об искусстве фотографии. Он говорит о том, что по выходным они готовят пиццу и я всенепременно должен её попробовать. Робкое возражение, что в следующие выходные я уже буду в другой стране, его нимало не смущает. Но как ты не понимаешь?!.. Это же пицца!.. Представляешь, настоящая пицца!.. Где же ты тут, посреди Италии, сможешь ощутить её несравненный божественный вкус, если не придёшь к нам?!..
Удираю короткими перебежками, прячась в складках местности и поминутно оглядываясь через плечо. Опасаюсь, что он вспомнит о необходимости донести до меня ещё какую-нибудь важную информацию и пустится в погоню.
Когда удаётся отдышаться и оглядеться по сторонам, Бейгуа наконец-то решает развернуться передо мной во всей красе. Что ж. Впечатляет. Здесь даже как-то избыточно, рекламно-глянцево красиво.
Рекламное море (хорошо подойдёт для мужского парфюма), рекламные холмы (идеально для заставки Windows), рекламные луга (добавить коровок и на упаковку молока), рекламные горы (универсальное фоновое изображение под широкоформатную печать), рекламные прибрежные городки (буклет туристического агентства). И всё это – во все стороны, во всех направлениях, насколько хватает глаз. А в конце пути, завершающим мазком картины – она. Раскинувшаяся на стыке неба и моря красавица Генуя с высоты птичьего полёта.
Зачем-то беспрерывно щёлкаю затвором камеры. Хотя уже сейчас знаю, что никогда не буду эти фотографии пересматривать. Способны ли они передать, как ветер сдувает с кожи солнечные лучи? Как вплетаются в его свист крики птиц? Как гнётся к земле жёлто-выгоревшая трава меж валунов? Нет. Отсюда я унесу одну-единственную стереофотоаудиографию. Намертво впечатанную в мозг.
Здесь туристы попадаются навстречу уже толпами. Аж целых человек десять-пятнадцать. Фактически столько же, сколько я встретил за весь предыдущий путь. В конце этапа Альта Вии, вполне ожидаемо для столь людного места, располагается гостиница. Раздумываю, остаться ли в ней на ночь. Делюсь с синьором за стойкой своими сомнениями. Тот утверждает, что следующий этап очень простой, всё время строго под гору и дорога отличная. И на этом теряет клиента. Решаю идти дальше.
Следует отдать итальянцам должное: никто не стремится на мне заработать. Наоборот, при любой возможности продавцы товаров и услуг стараются помочь сэкономить деньги, указав лучший, более удобный или бесплатный вариант. В этот раз гостиничный синьор даже перестарался. Уж лучше б я остался у него. Поскольку сам-то он по Альта Вие явно никогда не ходил. Да, тут действительно есть удобная автомобильная дорога. Но не такова моя Альта Виа, чтобы искать лёгких путей. Она решает поиграть в морской шторм и швыряет меня вверх и вниз по тропе между невысокими, но крутыми вершинами.
Темнеет, с гор задувает пронзительно-холодный ветер. Вдалеке вижу что-то типа старого военного форта. Планирую дойти до него и, если не найдётся ничего лучшего, спать хотя бы под стеной.
Лучшее находится ещё на половине дороги. Не знаю, что это раньше было за сооружение. Приподняв большой люк в полу, обнаруживаю огромный резервуар с водой. Загадочно. Главное, впрочем, что вокруг сохранились остатки стен. Под защитой которых и засыпаю, уже не обращая внимания на рёв ветра снаружи.
Сон четвёртый. Три источника и три составных части
Вслед за тучей арбалетных болтов из предрассветного сумрака вылетели атакующим клином шестьдесят три генуэзские галеры. Подгоняемые течением и попутным ветром, на полном ходу с оглушительным треском ломая вёсла, вспарывая обшивку и круша такелаж, вонзились в боевое построение венецианцев. Ламба Дориа рисковал: хотя эскадра его и так была в меньшинстве – Венеция выставила девяносто пять судов – полтора десятка галер он приберёг в резерве. Ничего, хватит и этого. Даже здесь, на чужой территории, в водах Адриатики у острова Курцола, под самым венецианским носом, они способны разить врага малыми силами. Ибо правда на их стороне. Никто и ничто не смеет покушаться на безраздельное господство Превосходной Владычицы морей Республики Генуя. Дорого заплатят венецианцы за желание плавать по генуэзскому Чёрному морю. Не бывать их колониям в генуэзском Крыму. Вперёд, на абордаж!.. Руби их, руби!..
…Лавируя меж устилающими палубу мёртвыми телами, адмирал Дориа добрался до кучки связанных пленников. Окинул презрительным взглядом. Всмотрелся пристальнее. Наморщил лоб, припоминая… Но ведь это же…
– Ах вот ты где! Попался, негодяй!.. Ну всё, теперь не отвертишься!..
…Осенью того же 1298 года трепещущий узник стоял перед высоким генуэзским судом.
– Подсудимый Марко Поло, вы обвиняетесь в ужасающем преступлении: распускании гнусных и клеветнических слухов о том, что Италия не является исторической родиной пасты. Поступил сигнал: видели вас похваляющимся, будто именно вы привезли сюда пасту из Китая. Признаёте ли вы себя виновным?
– Нет-нет! Конечно же нет, что вы!.. Меня подставили!.. Сейчас я вам всё-всё как на духу и без утайки расскажу. Дело, значит, так было: приходят ко мне однажды папа мой и дядя. Говорят: «Мы тут опять в Китай ненадолго, лет на десять, собираемся. Поедешь с нами?» Ну а мне чего не прогуляться? Поехал, конечно. Ехали мы, стало быть, ехали и наконец приехали. А там, в Китае, никаких китайцев-то и нет. Вместо них в Пекине хан Хубилай сидит. Синьор во всех отношениях приятный, но монгол. Он как раз Китай завоевал. Я к нему захожу, здороваюсь, представляюсь… А он мне такой: «Посол ты, о незваный гость из дальних стран!» Ну я у него двадцать лет послом и отработал.
– Подсудимый, не отклоняйтесь от темы. Нас интересует паста.
– Так а я про что? Говорю ж: там монголы сплошные были. А они кочевники, зерно не выращивают. Откуда ж у них пасте взяться? Да и потом, ну ерунда ж это полная. Вот вы хоть кого спросите: хоть древних греков с Сицилии, хоть арабов оттуда же, хоть чуть менее древних римлян… Да этрусков тех же, этрусков!.. Все враз подтвердят, что пасту они придумали…
– Что?!..
– Ой, простите, хотел сказать: мы придумали. Те, кто в Италии живёт. А ежели лет двести пятьдесят потерпите, так сможете Екатерину Медичи допросить. Её из Флоренции в качестве королевы Франции экспортируют. А вместе с ней заодно и пасту. И вилку ещё. А то уж больно смешно ей будет смотреть, как французские аристократы спагетти руками есть пытаются. Ну а дальше уж по всему миру придумка наша разойдётся.
– Ладно, допустим. Но как вы объясните причину появления касающихся вас слухов?
– Так это, как всегда и во всём, американские империалисты-капиталисты виноваты. В конце 30-х годов XX века захотят они на рынке Соединённых Штатов побольше пасты продавать. Экзотичности и романтизму своему товару добавить. Вот в рекламных целях порочащие мою репутацию слухи и распустят. Зацепятся за мой рассказ о саговой пальме, из которой индийцы лапшу делают, да и примутся на всех углах кричать: Марко Поло, дескать, такой глупый был, что пасту никогда не видел и потому пальмы от растущих прямо из земли спагетти не смог отличить. И даже кино про это снимут. Меня в нём Гэри Купер играть будет. Но вы ему не верьте. За исключением того, что я такой же, как и он, красавец, всё остальное там – наглое враньё!
– Что ж, заслушав доводы защиты, высокий генуэзский суд постановляет: признать подсудимого невиновным и приговорить к двухлетнему тюремному заключению.
– Но… Как?!.. За что?..
– Пфф!.. А как ты хотел? Быть венецианцем в Генуе – уже само по себе тяжкое преступление. Да не переживай ты так. Сидеть с комфортом будешь. Товарища тебе дадим, Рустикелло звать. Он тоже закоренелый преступник: посмел в Генуе пизанцем быть. Но безобидный, всё книжки сочиняет. Ты ему про свои путешествия расскажешь, а он и запишет. Мы, видишь ли, в скором времени, лет через двести, планируем паренька одного нашего местного отправить морской путь в Индию искать. Так ему опыт твой шибко полезно изучить будет… Ладно, хватит разговоров. Стража, увести!.. Высокий генуэзский суд объявляет экстренный перерыв на обед! Ещё не хватало, чтоб из-за всякой ерунды паста остыла.
***
– Колумб приехал, Колумб приехал!..
Генуэзцы со всех ног спешили в порт. Всем была охота послушать байки о дальних странах да поглазеть на заморские диковины.
– Ну?!.. Рассказывай! Как там Индия? Что видал, кого встречал?
– Индия – хорошо. Видел много инд… кхм-кхм!.. цев, – сказал великий мореплаватель, слегка покраснев.
– А привёз-то, привёз нам чего?..
– Привёз я вам, генуэзцы, чудо чудное, диво дивное. Зверя вкусного и питательного, porcellino d’India – «индийским поросёнком» прозывающегося.
– Сдаётся нам, Колумб, ты слишком долго плавал, – сказали генуэзцы, осмотрев зверя. – Успел позабыть, как поросята выглядят. Ты всерьёз полагаешь, что из этого хомяка-переростка можно делать прошутто? Давай-ка забирай свою свинку и увози откуда взял. В море. Там ей самое место. А нам такое больше не подкладывай. Ещё есть что?
– Вот. Трава целебная, все хвори врачующая. Табак. Его курят.
– Колумб, ты издеваешься? – спросили генуэзцы, едва справившись со всеобщим приступом кашля. – Ладно, памятник мы тебе, так уж и быть, поставим. Как выдающемуся одногорожанину. Но больше так не делай. Хоть что-то нормальное у тебя есть?
– Помидор. Вкусный. Нет, правда. Честное слово!
– Так, понятно всё. Отравить нас удумал. Слушайте, а давайте эту красную пакость неаполитанцам отдадим, а? Посмеёмся хоть.
Неаполитанцы о колумбовских шутках наслышаны не были, потому помидоры безбоязненно попробовали. Поскольку же людьми они были бедными и вместо тарелок для сервировки еды использовали хлебные лепёшки, то неожиданно для самих себя изобрели пиццу. Точнее, неаполитанскую пиццу. Хотя остальным жителям Италии слово это было вполне известно, но называли они им сладкий торт. В Неаполе же пицца превратилась в основной продукт питания. Ели её все. От бедных рыбаков – бедных настолько, что в рецепт их фирменной пиццы «Маринара» не входила рыба – до неаполитанского короля Фердинанда Бурбонского, которого можно было частенько увидеть в очереди перед пиццерией в ожидании свободного столика. Поначалу бегать туда ему приходилось инкогнито, ибо супруга его, Мария Каролина, была австрийской принцессой и плебейского, по её мнению, пристрастия мужа к заведениям общественного питания не одобряла. Но потом и она пиццу распробовала. Да так, что открыла собственную пиццерию прямо во дворце. И там за ломтём пиццы днями напролёт обсуждала со своей лучшей подругой леди Гамильтон сложные и запутанные отношения последней с британским адмиралом Нельсоном.
На беду Бурбонов, о пристрастии неаполитанцев к пицце прознал председатель совета министров Сардинского королевства граф Кавур.
– Возмутительно! – сказал он своему шефу, королю Витторио Эмануэле Второму. – Они там целыми днями сладкие торты едят, а у нас на войну с австрийцами не хватает.
– Торты, говоришь?.. Может, у них просто хлеба нету? – задумчиво пожал усами Витторио Эмануэле.
Кавур монарху возражать не стал, но втихомолку послал в Неаполь Джузеппе Гарибальди, наказав Бурбонов прогнать, а торты у них реквизировать в пользу новой, объединённой под его, Кавура, управлением, Италии. Гарибальди задачу выполнил с блеском и Неаполь у Бурбонов отобрал. Временную ставку своего верховного оккупационно-освободительно главнокомандования он расположил в пиццерии, ибо помещение иного назначения в Неаполе сыскать было затруднительно. Тут Гарибальди тоже пиццу распробовал и – вместе с подъехавшими на огонёк Кавуром и Витторио Эмануэле – принялся поглощать её в столь неумеренных количествах, что во всех бывших бурбонских владениях начался голод. Голодать неаполитанцы не любили, потому сели на пароходы и уплыли в Америку, где со спокойной душой вновь занялись привычным делом: начали открывать пиццерии. Так что о существовании пиццы в нынешнем смысле этого слова граждане Соединённых Штатов узнали практически одновременно с жителями северных регионов Италии.
В то время как неаполитанцы знакомили мир со своим изобретением, в королевской семье произошла замена. Вместо почившего Витторио Эмануэле Второго, на поле вышел его наследник, Умберто Первый. Вышел он весь в папеньку: вырастил не менее роскошные усы, родил сына, будущего короля Витторио Эмануэле Третьего, и принялся строить Италию. Супруга его, королева Маргарита, была альпинисткой, туристкой и просто красавицей. В перерывах между покорениями горных вершин она вслед за мужем неустанно колесила по всей стране, видом своим возбуждая в народе любовь к монархии. Характером же обладала столь добрым и мягкосердечным, что когда голодающий народ начинал слишком уж бунтовать, упрашивала царственного супруга поскорее послать войска и несчастных этих, чтоб не мучились, пристрелить.
– Надо же, какая симпатичная у нас королева! – сказал неаполитанский пиццайоло Раффаэле Эспозито. – Сделаю-ка я в честь неё пиццу. Добавлю туда зелёный базилик, белую моцареллу и красные томаты. Это будет символизировать наш итальянский национальный триколор. А назову – «Маргарита»!
– Так и в чём разница-то? – удивилась его жена. – Ты же именно по такому рецепту всю жизнь пиццу и делаешь.
– Это ты знаешь. Я знаю. А королеве-то откуда об этом знать? Мне ничего не стоит, а ей приятно.
Маргарите «Маргарита» действительно пришлась по душе, и она широко её разрекламировала. А заодно и пиццерию хитроумного Эспозито.
Увы, патриотической пиццей единой народ было не накормить. Король Умберто Первый умер не по своей инициативе, а от руки – точнее, револьвера – одного из подданных, полагавшего, что королевское семейство слишком много кушает. Голодающим гражданам, мол, после них ничего не остаётся. Двадцать лет спустя Маргарита, превратившаяся в королеву-бабушку, итальянцам это припомнила, убедительно порекомендовав Витторио Эмануэле Третьему принять на работу нового молодого и энергичного премьер-министра Бенито Муссолини. Он, дескать, научит этих неблагодарных монархию любить. Муссолини не подвёл и провернул аграрную реформу, в результате которой пшеничной муки стало много, а вот иных продуктов поубавилось. Итальянцам ничего не оставалось, как перейти на рацион, состоящий из пасты и пиццы чуть менее, чем полностью. Так второй ключевой элемент итальянский кухни окончательно занял по праву принадлежащее ему место.



