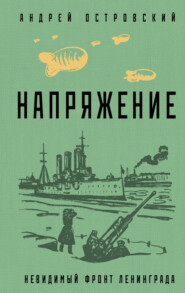
Полная версия:
Напряжение
– Я был уверен, что он сразу вернется домой, а потом не решился упустить его, – попытался оправдаться Бенедиктов, понимая, насколько слабо звучит это оправдание.
Дранишников дважды замечания не повторял, оправдания не слушал. Он выколотил трубку и отложил ее.
– Пока несомненно одно: убийца Лукинского, предположим инвалид, – орудие, исполнитель, – сказал он. – Важно выяснить, кто мог знать о расчетах Лукинского. Это должен быть человек, связанный с ним по работе, бывавший у него дома и сведущий в такого рода технике. Вы расшифровали инициалы в дневниковых записях?
– Все. Нас, разумеется, не будут интересовать умершие Сыромятниковы и Чеборчук, эвакуированный в Свердловск в августе. Сейчас в Ленинграде находятся: Богачев Борис Владимирович, военинженер третьего ранга в контрольно-приемном аппарате, – тот, с которым Лукинский дружил в молодости и потом разошелся, и Турков Юрий Федорович, инженер, – «стеснительный до болезненности молчун». Упоминающиеся в дневнике «Д.» – Дембо Яков Владимирович и «Елс.» – Елсуков Феликс Леонидович не могут входить в число близких Лукинскому людей. Однако на Елсукове я хотел бы остановиться особо. В тридцать девятом году он находился под следствием по подозрению в шпионаже в пользу Германии. Подозрение не подтвердилось, и он был выпущен на свободу. В своих показаниях он неискренен: у меня есть данные, что Елсуков неоднократно посещал Лукинского на дому, хотя мне сказал, что был только однажды. Интерес представляет и его родственник, брат жены, Сергей Степанович Шулейкин – инвалид второй группы, на костылях. Имя его и отчество совпадают с записанными в дневнике.
– Вряд ли инвалид назвал свое подлинное имя, – покривился Дранишников. – Это элементарно. К тому же Лукинский как следует и не запомнил его.
– Да, конечно, но дело не в этом. Шулейкин не такой уж примерный мальчик, каким нарисовал его Елсуков. Это человек алчный и беспринципный. Перед призывом в армию в том же тридцать девятом году он был замешан в весьма солидной спекулятивной сделке, но сумел избежать ареста…
Бенедиктов заметил, что Дранишников не двигается; уперев локоть о стол и поддерживая голову, он смотрел остановившимися глазами в пространство: какая-то мысль донимала его.
– Что же вы замолчали? Это была группа?
– Из шести человек. Правда, Шулейкин играл второстепенную роль, тем не менее на него был собран достаточный материал. И еще: кроме спорта он занимался в фотографическом кружке при Доме культуры Первой пятилетки, о чем Елсуков не счел нужным сказать.
– А что, Шулейкин выходит на улицу?
– Выходит, выходит… Тут Елсуков тоже сгустил краски: контузия серьезная, но не такая уж безнадежная – врачи довольно оптимистично смотрят на его выздоровление.
– Любопытно, – подумав, проговорил Дранишников. – Не исключено, что эта версия может дать результат. – И вдруг, безо всякого перехода, сказал: – Оставьте у меня дневник Лукинского и затребуйте, пожалуйста, из суда следственное дело Нащекина. Я хочу с ним познакомиться.
– Я уже пытался, Олег Сергеевич. – Бенедиктов кашлянул в кулак. – К сожалению, самого дела в Ленинграде нет, оно в архиве. Суд прислал лишь выписку из картотеки. Но полагаю, что смогу выяснить о Нащекине все интересующее нас, – следствие вел Калинов, которого я хорошо знаю.
Дранишников что-то пробурчал, недовольный таким вариантом, но из-за безвыходности положения вынужден был дать санкцию на разговор с Калиновым. Затем они перешли к обсуждению действий Гертруды Нефедовой.
8. В госпитале
Бенедиктов добрел до госпиталя на канале Грибоедова к двум часам дня. Как раз незадолго перед тем смолкли тяжелые немецкие дальнобои. К пятиэтажному дому с белым флагом и красным крестом тянулись санки, тележки; кого-то дружинницы несли на руках…
В приемном отделении колыхалась, гудела толпа. Со стиснутыми зубами и стараясь не глядеть на раздробленные кости, лохмотьями свисающие обескровленные куски мяса, Бенедиктов прошел сквозь рыдания, стоны и проклятия. Женщина в стеганой телогрейке вцепилась в него костлявыми пальцами: «Товарищ военный, товарищ военный, да что же это, о господи?! Когда же вы уймете этих иродов проклятых?.. Детоубийцы, мерзавцы!.. Девочка моя, красавица моя, лапонька моя!.. За что-о-о!.. Лучше от голода…» Глаза безумны, волосы всклокочены. Бенедиктов уронил взгляд на носилки, содрогнулся: на них лежала девочка, вместо лица – кровавая каша…
Суетились санитарки, сестры: «В операционную… Скорей… Дорогу!..» Женщина отпустила Бенедиктова, повалилась к носилкам, забилась в истерике…
С гнетущим чувством от увиденного Бенедиктов поднялся на третий этаж. Уполномоченного особого отдела, высокого, рыжеватого старшего лейтенанта Кочемазова он нашел в его каморке под лестницей, служившей, должно быть, в свое время складом школьного имущества (в доме до войны размещалась школа). У Кочемазова болели зубы; слушая Бенедиктова, он поминутно хватался за щеку и вздрагивал.
– Неприятная история, но вполне допустимая, – сказал он; большие зеленые глаза поднялись на Бенедиктова. – Сам понимаешь, какой сейчас учет. Не знаешь, за что хвататься…
– Мне важно установить, когда пропал «ТТ» – до того, как вы приняли Вахрамеева в госпиталь, у вас или уже там, на пересыльном…
– Может быть, и удастся… Я думаю, лучше тебе самому это сделать, а я тебя познакомлю с начальником ОВС. Учти: он будет божиться, что у него все в ажуре, так ты…
– Ладно, не вчера родился, – с улыбкой произнес Бенедиктов и спросил из сострадания к мучившемуся старшему лейтенанту: – Неужели тебе в госпитале зубного врача не найти?
Тот безнадежно махнул рукой:
– Рвать надо, да все времени нет. Пошли…
Бенедиктов накинул халат с болтающимися сзади лямками и последовал за Кочемазовым.
Они поднялись еще на этаж, пропустив на лестнице санитарку с ведром, полным нечистот, прошли насквозь огромную душную палату – остатки шведской стенки показывали, что раньше здесь был физкультурный зал: мужчины в бинтах лежали, сидели на разномастных, собранных у населения кроватях; ходячие стучали в углу костяшками домино; кто-то крутил патефон… На другой лестнице откуда-то потянуло кислым запахом тушеной капусты – у Бенедиктова тоскливо засосало под ложечкой.
– Вон он, – сказал Кочемазов, глазами показывая наверх, откуда слышался зычный, хорошо поставленный командирский голос. – Драит кого-то…
Ведающий обозно-вещевым снабжением (ОВС) капитан оказался маленьким, щуплым, подвижным человеком, любившим, по-видимому, порядок и пытавшимся его навести силой своего голоса. («Откуда только он берется в таком теле?» – подумал с усмешкой Бенедиктов.) Заметив Кочемазова, капитан тотчас отпустил сестру-хозяйку с пылающими от нагоняя щеками; лицо его из свирепого мгновенно превратилось в добродушное. Кочемазов представил Бенедиктова, объяснил, кто он, что хотел бы посмотреть, и оставил их.
Капитан тактично не задавал вопросов. Он растянул рот в улыбке, словно проверка доставляла ему удовольствие, и без промедления начал действовать: приказал принести книгу учета, накладные, разыскать кладовщицу склада боепитания. Пока они двигались к складу, он успел рассказать о системе – по его словам, хорошо продуманной – регистрации и хранения оружия от приемного отделения до сдачи по мере накопления на пересыльный пункт.
– Наша хранительница огня, – кивнул капитан на подошедшую робкую, испуганную срочным вызовом женщину.
– Покажите-ка ваш арсенал, – приветливо сказал Бенедиктов, от которого не ускользнули ее сжатые в напряжении кулачки и подрагивающие губы, – не утаивайте.
– Она у нас прекрасно справляется… Бывают дни, когда десятками приходится таскать это оружие с этажа на этаж… Представляете, какая тяжесть!.. С нынешними-то силами! Она и таскает, и чистит, и смазывает не хуже заправского бойца. Правда? – Капитан подмигнул кладовщице. – И все, как говорится, у нее в полном ажуре. (Бенедиктов улыбнулся, вспомнив слова Кочемазова.) Да вы сами сейчас убедитесь…
Кладовщица сняла железную скобу с обитой стальными листами двери и, впустив обоих, встала в сторонке, наблюдая за действиями Бенедиктова. Склад пропах оружейным маслом. «Хорошо, отлично», – повторял Бенедиктов, довольно поверхностно осматривая пистолеты, «наганы», гранаты, разложенные на стеллажах, стоящие в козлах винтовки и автоматы. Всем своим поведением он старался показать, что проверка – лишь формальность, правда, необходимая.
Он перебрал накладные, полистал регистрационную книгу учета. В ней торопливо, разными почерками, часто карандашом были внесены фамилии, звания, воинские части, номера оружия, даты… Делая вид, что он без особого внимания проглядывает записи, Бенедиктов успел выхватить то, что искал, и захлопнул книгу. Повторил бодренькое «хорошо», сделал замечание по поводу какого-то пустякового недосмотра и спросил, переводя взгляд с капитана на кладовщицу:
– Значит, если бы появилась необходимость срочно найти личное оружие, ну, скажем… – он провел пальцем под первой попавшейся фамилией, назвал ее, дату поступления, – я мог бы это сделать благодаря записям?
– Несомненно, – воскликнул капитан громовым голосом и скомандовал, как фокусник в цирке своему ассистенту: – Найдите, быстро!..
Кладовщица молча сняла со стеллажа «наган» и протянула его Бенедиктову.
– У меня вопросов больше нет, – весело сказал он, сверив номер. – Если бы везде так хранили… – Пожал руку сияющему капитану, потом слабо улыбнувшейся кладовщице. – Так и запишем: с вами все в порядке. Теперь пойду в другой госпиталь… Служба!
Вернувшись к Кочемазову, он прикрыл за собой дверь и сказал тихо:
– А пистолетик-то исчез у вас. В книге имеется запись, на пересыльный пункт не сдан. Лейтенант Вахрамеев умер. Выходит, где-то здесь…
– Придется искать, – невнятно проговорил Кочемазов, не отнимая ладони от подбородка.
– Поинтересуйся, пожалуйста, в чьи руки он мог попасть. Это очень важно. И позвони мне.
Кочемазов покивал, страдальчески глядя на Бенедиктова. Бенедиктов оставил свои номера телефонов, записал номер пропавшего «ТТ», время, когда приблизительно он мог быть похищен, и, пожелав старшему лейтенанту скорее вытащить зуб, покинул госпиталь.
9. «Старшина команды трюмных машинистов»
Она стояла на углу переулка Подбельского, сжимая под мышкой сумочку, маленькая, нахохлившаяся в своей заячьей шубейке, и, видимо, ждала его со стороны бульвара Профсоюзов.
– Тася, – окликнул ее негромко Бенедиктов.
– О, я думала, ты опять не придешь, – сказала она, обернувшись, и взяла его под руку. – Какое это мучение – ждать.
Иной возможности поддерживать относительно регулярную связь, кроме таких вот встреч здесь, в заранее обусловленном месте, у них не было. Они договорились встречаться каждый день в пять часов и ждать друг друга в течение десяти минут. Если Бенедиктов оказывался к этому времени поблизости, он провожал жену домой, узнавал по пути не слишком обильные житейские новости, иногда успевал даже кое-чем помочь в доме. Очень редко удавалось остаться на ночь. Тася работала на почтамте, случалось, что и она не успевала к назначенному сроку, поэтому виделись они не так уж часто.
– Прости, никак не мог выбраться эти дни. – Бенедиктов прижал ее руку к себе. – Как ты себя чувствуешь?
– Не очень… Слабость. И есть хочу. Не проходит минуты, чтобы я не хотела есть. Наваждение какое-то. Кажется, съела бы гадюку, крысу, помои, падаль, что угодно… Ты принес мне что-нибудь?
Бенедиктов достал кусочек хлеба, сбереженного для нее. Она проглотила его, почти не жуя.
– И все?
– К сожалению, все… Мне один знакомый обещал достать немного овса.
– Это хорошо. Я сварю кисель… А у нас опять потеря: тетя Маша умерла… Когда он обещал тебе овес? Только ты сразу его принеси, как только он даст, не забудь…
Бенедиктова удивила смерть любимой Тасиной тетки, бывшей до последних дней на ногах, но еще больше – та скороговорка, которой Тася сообщила ему о смерти.
Тетя Маша была для Таси не столько теткой, сколько матерью. После смерти Варвары Константиновны, Тасиной матери, от сыпняка, когда девочке было три с половиной года, ее взяли к себе Маша и Вера, сестры отца. Отец вернулся позднее с колчаковского фронта калекой и протянул недолго. Воспитание Таси скромные женщины посчитали назначением своей жизни. Они обшивали ее сами, без претензий, но со вкусом, чтобы их «звездочка» не испытывала неудобств среди сверстниц и не считала себя обойденной, самоотверженно учили ее языкам и музыке у частных преподавателей (школ еще не было)… Жизнь их протекала в напряженном сведении концов с концами (Маша работала экскурсоводом в Петропавловской крепости, Вера – бухгалтером в банке), размеренно, в полном согласии и со стороны, может быть, скучновато. Но женщины сжились и не считали возможным менять ее. Даже когда к Вере стал наведываться веселый, шумный железнодорожник-ревизор, насквозь пропахший пивом и табаком. Железнодорожник вскорости предложил ей выйти за него замуж. Вера, посоветовавшись с сестрой, решила, что мужчина внесет сумятицу в их устоявшийся быт, и отказала ему. Но, может быть, тому были и другие причины. Во всяком случае, до Бенедиктова мужчины в их доме больше не появлялись… Тася любила обеих теток, но ближе все-таки была ей тетя Маша, неунывающая веселушка и фантазерка… Тетя Вера умерла в ноябре, накануне праздника, пролежав неделю и медленно угасая. И вот теперь тетя Маша…
– Когда это случилось? – спросил Бенедиктов после долгого молчания.
– В ночь на позавчера. Легла спать и не проснулась.
– Как же ты теперь будешь одна?.. Знаешь что: я поговорю с Мельниковым, он возьмет тебя на завод, перейдешь на казарменное…
– Ты считаешь, так будет лучше? Надо подумать.
– А чего думать-то?.. Все-таки среди людей… Карточка рабочая. И ко мне поближе. А сейчас… Видишь, какой я у тебя непутевый, толку от меня…
– Да, пожалуй!.. Ты можешь идти помедленнее? (Бенедиктов сдержал шаг, заметив, что Тася тяжело дышит.) Но не торопись с Мельниковым, я должна решить сама. А я что-то разучилась быстро принимать решения – так же, как и ходить.
Завыли сирены, вздымая до бесконечности свой ноющий стон. «Воздушная тревога! Воздушная тревога!..» – послышался голос из репродуктора.
– Господи, когда же это кончится!.. – устало проговорила Тася, не отпуская от себя Бенедиктова.
Ускорили шаг прохожие, появились женщины с противогазами на боку, улицы опустели. Вслед за Тасей Бенедиктов спустился в бомбоубежище. Там уже было несколько человек. Разговаривали вполголоса, как в вагоне остановившегося поезда. Тася прислонилась к стене, ткнулась в грудь Бенедиктову. Он провел пальцами по ее осунувшемуся лицу, погладил волосы, тоненькую шею.
– Сева, ты больше меня знаешь. Скажи, что будет… Я так беспокоюсь за тебя, и вообще…
– Все будет хорошо, выстоим, считай, что самое тяжелое позади, – успокоил он ее, беспредельно веря в то, что говорит, и вселяя в нее эту уверенность.
Она вздохнула и облегченно прошептала:
– Если бы ты был все время со мной рядом!.. Какая простенькая, но недоступная мечта!
– Все-таки звони мне, если нам не удастся встретиться. Я должен знать о твоем самочувствии. Мне передадут…
– Это почти невозможно. У нас неприятная начальница, ее всю передергивает, когда звонят по личным делам. А телефон один и все время занят.
– Тогда буду звонить я, – решительно сказал Бенедиктов. – Пусть попробует отказать.
– Не надо, это неудобно…
Они вышли на улицу после отбоя, когда начало темнеть. Из других подворотен тоже стали выходить люди. Вдруг глаз Бенедиктова нащупал согнутую фигуру человека, опирающегося на костыли… Очень знакомая фигура…
– Тасенька, я вынужден тебя покинуть, – сказал он поспешно.
– Но ты ведь хотел…
– Не могу, дорогая моя, не могу, извини, до завтра… Ты иди потихоньку, целую тебя. – И, круто повернув, зашагал в противоположную сторону.
Он не ошибся. Это был тот самый инвалид. Медленно переставляя костыли, он разговаривал с какой-то женщиной. Когда они разошлись, Бенедиктов настиг его.
– Предъявите ваши документы, пожалуйста.
– Зачем? – Инвалид поднял голову, узнал Бенедиктова: – А, капитан-лейтенант?.. Мы вроде недавно с вами встречались, еще табачком меня угощали, помните? На Васильевском…
– Документы, – властно повторил Бенедиктов и, не желая вступать в пререкания, показал свое удостоверение.
Инвалид достал потертый паспорт, стянутый поперек резинкой. «Грызин Александр Степанович, год рождения 1902, русский, место рождения…» – читал Бенедиктов при свете своего фонарика, присматривая в то же время за инвалидом. Тот проявлял признаки беспокойства, нетерпения, поминутно сплевывал и демонстративно тяжело вздыхал.
– Почему вы здесь ходите?
– А где мне еще ходить? – Грызин потянулся за паспортом, но Бенедиктов его не отдал.
– Вы же прописаны на Пороховых. Что вы здесь делаете?
– Прописан… Мало ли что… Там прописан, а живу здесь.
– Это нарушение паспортного режима. Где вы живете?
– На Васильевском… На Семнадцатой линии… У друга своего.
– Придется вам пройти со мной, – сказал как бы с сожалением Бенедиктов, пряча паспорт и фонарь.
– Да вы что?.. Не пойду я никуда. – Грызин поднял костыль и затряс им в воздухе: – Я инвалид второй группы, меня никто не имеет права трогать. Документы есть? Есть. В порядке? В порядке. Я за Родину пострадал, а вы…
– Тихо, не шуметь, – приказал Бенедиктов. – Прошу…
Грызин ругался всю дорогу, но у Бенедиктова было ощущение, что он сильно встревожен и ругань – лишь прикрытие его состояния.
В райотделе НКВД, оставив инвалида на попечение дежурного, Бенедиктов зашел к начальнику, немолодому, с массивным подбородком майору, кратко обрисовал ситуацию и обратился с просьбой допросить задержанного в какой-нибудь свободной комнате. Тот охотно разрешил.
Открыв ключом чей-то давно не топленный кабинет, Бенедиктов зажег свечу на пустом, с одним лишь телефоном, столе, покрытом пыльным стеклом, под которым лежали календарь и какие-то выцветшие бумажки.
– Присаживайтесь, Александр Степанович.
Грызин снял шапку, расстегнул пальто; за сбившимся шарфом проглядывала тельняшка.
Теперь Бенедиктов мог без спешки рассмотреть инвалида. При первой встрече, в подворотне, он показался значительно старше, дряхлее. На самом деле это был довольно крепкий мужчина с сильными руками и развитой грудью. Бинтов на пальцах не было, и следов ранения или экземы не ощущалось. Драповое пальто не новое, но вполне приличное. Бенедиктов обратил внимание, что под мышками оно не протерлось. Покалеченная нога, обернутая тряпками и с подвязанной к ступне галошей, сгибалась – по-видимому, ранение относилось к нижней части.
Наводили на размышления пометки в паспорте, и Бенедиктову предстояло разобраться в многочисленных штампах и штампиках с нечеткими литерами и расплывшимися чернилами. По ним выходило, что в армии Грызин никогда не служил, и одно это обстоятельство уже представляло интерес для Бенедиктова.
– Вы когда-нибудь теряли свой паспорт? – помахал он засаленной книжкой и наблюдая за выражением лица Грызина. – Предупреждаю сразу: за дачу ложных показаний вы будете привлекаться по законам военного времени.
– Понял. Расстреляете, что ли?.. – Грызин освоился, осмелел, в голосе прозвучала насмешка.
– Расстрелять не расстреляем, а неприятности будут. Отвечайте.
– Не терял я паспорт. Зачем терять? Как выдали в милиции, так и таскаю с собой, даже сплю с ним в обнимку, как с милой. Вон уже и листы поразвалились.
Бенедиктов улыбнулся:
– Как с милой – это хорошо… Милую беречь надо. Военный билет при себе?
– А на кой он мне сдался? Я инвалид. В паспорте записано: невоеннообязанный. Все! Лишний груз… Закурить можно? Теперь я угощаю.
– Курите, я не хочу… Тогда расскажите, когда, где и при каких обстоятельствах вы были ранены.
Грызин прикурил от свечи, после этого ответил:
– В порту, двенадцатого ноября. Поднимали на талях ящик, будь он проклят, полтора центнера, звено в цепи лопнуло, ящик сорвался – и на ногу…
– То есть у вас не ранение, а производственная травма, – уточнил Бенедиктов, все более и более удивляясь. – В каком же госпитале вы лечились и когда были выписаны?
Грызин назвал госпиталь и, матерясь, понес хирургов, которые больше месяца держали его и не смогли правильно срастить кости, и теперь неизвестно, будет ли он нормально ходить. Бенедиктов мат пресек, но выговориться дал.
– Где вы служили до травмы? – как бы между прочим спросил он. – В каких частях?
– Я не служил. У меня белый билет был.
– Вот тебе и раз… А как же с «Кировым» и «Октябрьской революцией»?
– С каким «Кировым»? – уткнул глаза в пол Грызин. – Я не говорил…
– Хм, забыли? Странно. Меня узнали, а что говорили, не помните? Почему?
– Не помню…
– Ну, раз не помните, идите вспоминайте, – сказал Бенедиктов и проводил его в камеру.
Пока Грызин думал, капитан-лейтенант еще раз удостоверился, что паспорт не фальшивый, и сел за телефон проверять показания.
По мере накопления сведений создалась довольно ясная картина: Грызин приехал в Ленинград в тридцать шестом году, не имея специальности. Был чернорабочим, такелажником в торговом порту, матросом на землечерпалке; женился, разошелся, пьянствовал, вследствие этого на одной работе долго не держался. В армию его не призывали из-за весьма редко встречающейся скрытой глаукомы, так что старшиной команды трюмных машинистов на линкоре Грызин быть никак не мог. Следовательно, он лгал тогда. («А почему, собственно, он должен раскрываться первому встречному?» – подумал Бенедиктов. Только сейчас ему пришло в голову, что не придал значения торопливости Грызина, когда зашла речь о службе на линкоре и он спросил о капитане третьего ранга Чухнине, известнейшей среди моряков на корабле личности. Конечно же, Грызин быстро смекнул, что капитан-лейтенант гораздо лучше знает флот и легко может уличить его во вранье.)
Полученные сведения подтвердили все, что говорил Грызин. Они были важны, но самое существенное заключалось в одном: Грызина выписали из госпиталя тринадцатого декабря, когда Лукинский уже был убит. Остальное Бенедиктова мало интересовало. Разработанная им в уме конструкция развалилась. Расставаться с ней было жаль (столько труда – и никакого результата!), но приходилось. Бенедиктов тут же позвонил Дранишникову и кратко доложил о событиях.
Лунка под фитилем оборвалась, потек стеарин; казенная, с голыми стенами комната озарилась светом. Бенедиктов посидел несколько минут, расслабившись и прикрыв глаза рукой, потом вызвал Грызина, уже дважды просившего через дежурного принять его.
Он втащился тихий, виноватый и, встав посреди комнаты, сказал сипло:
– Хвастанул я тогда, товарищ капитан-лейтенант, – положил растопыренные пальцы на грудь, – прости Христа ради, хвастанул…
– Зачем? – полюбопытствовал Бенедиктов.
– Хрен его знает… Зачем хвастают… Курить очень хотел… А вы так сразу… душевно… Махрой угостили… Свой, братишка… – Слов не хватало, Грызин начал помогать руками, зажав костыли под мышками. – Чтоб не подумали – забулдыга какой…
Бенедиктов не удержался, чтобы не произнести назидательные слова о пагубности лжи, и, дав подписать протокол допроса, отпустил его.
10. О чем рассказал Калинов
– Чем ты так топишь? – спросил Бенедиктов, входя вслед за Калиновым в его жарко натопленный кабинет. – У тебя что, угольная шахта во дворе? Или милиция сломала где-нибудь деревянный небоскреб?
Калинов – он ходил уже без клюки, но чуть прихрамывая – встал посреди комнаты, скрестив руки на груди, и самодовольно улыбнулся:
– Не дровами и не углем. А чем – никогда не догадаешься. Раздевайся.
– И все-таки? – Бенедиктов повесил шинель на колышек, пригладил волосы, гораздо гуще растущие по бокам, нежели на макушке. – Нефтью, что ли? Соломой? Кизяком?
– Не-а, – захохотал Калинов, вертя головой, и в восторге захлопал в ладоши. – Сказал – не догадаешься! Калинов же хитер! Ох и хитер Калинов… Фашисты меня отапливают. Сам фюрер! – И, сделав многозначительную паузу, покосился на Бенедиктова. Остался доволен произведенным впечатлением. Произнес, четко разделяя слова: – Бомбами топлю, немецкими бомбами…
Теперь рассмеялся Бенедиктов мелким смешком, отмахнулся:
– Иди ты… Удивляюсь, как такого трепача держат начальником…
– Напрасно ругаешься. Я вполне серьезно. «Зажигалки» – во топливо! Термит. Надо голову иметь…
– Как бы голова-то как раз и не отлетела. Взорвешься.
– Никак нет. Кафельная печь позволяет, старинная. Я вывинчиваю капсюли, кладу штук десять-двенадцать. Из одной бомбы выкрашиваю термит, поджигаю палочками – и пошла писать губерния! Дня три-четыре держится тепло. А невзорвавшихся «зажигалок» до черта, иногда целыми кассетами… Вот я и дал команду собирать.

