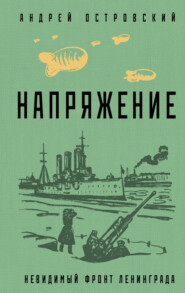
Полная версия:
Напряжение

Андрей Островский
Напряжение
Невидимый фронт Ленинграда
© ООО «Издательство «Яуза», 2022
© ООО «Издательство «Эксмо», 2022
* * *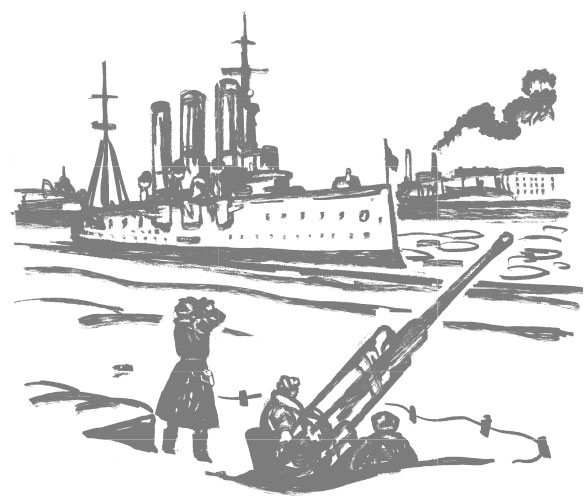
Напряжение
Военным контрразведчикам Балтики
1. В тот год…
Военная зима тысяча девятьсот сорок первого года отличалась необыкновенной суровостью: в середине октября круто подули ветры с Ледовитого океана, сырая стужа вошла через выбитые стекла в дома, заструилась тонкими ветвями поземка, потом снег густым слоем застелил изувеченные улицы; отвердела многоводная Нева, спаяв прозрачный лед с громадами военных кораблей. И – ни оттепели, ни намека на движение воздуха с юга.
Блистательная некогда столица, ставшая первой на земном шаре столицей нового мира, распласталась тенью у Невы, обложенная со всех сторон ненавистными чужаками. Стройные улицы, внимавшие стуку колес великосветских карет, гулкой дроби маршевого шага вооруженных революцией матросов и ликованию праздничных манифестаций, погрузились в неспокойную тишину. Вой самолетов, хлопанье зениток, оглушительные взрывы то и дело терзали ее, и сразу чистый, как над океаном, воздух пропитывался мерзкими запахами войны – пироксилина, крови, гари, кирпичной пыли. Но и тогда – со вспоротыми, выпотрошенными тут, там домами, фанерой вместо стекол, амбразурами в нижних этажах, без Клодтовых коней на Аничковом мосту, со зловещим черным куполом Исаакия, уродливыми грудами мешков с песком, укрывшими бесценные памятники, с плавающими в небе тушами аэростатов, – но и тогда Ленинград хранил черты гордого великолепия. Он напоминал израненный дом, где завешены зеркала и остановлены часы.
Исчезли веселые, взбалмошные воробьи. Замело ослепительно-белым снегом не дошедшие до парков трамваи – электростанции перестали подавать ток. В домах пересохли водопроводные краны. На топливо ушло все, что можно было сжечь в городе из камня, – топлива не было. Продуктовые склады были пусты, как и магазины. Из холодных кухонь не сочились запахи съестного. Кончился бензин в автомобильных баках. Санки стали самым надежным транспортом. Обессиленные, переставшие обращать на себя внимание женщины с ввалившимися щеками и пустыми глазами тащили их по протоптанным в сугробах тропинкам к прорубям на Неве, обледенелым колонкам, выросшим посреди мостовых, чтобы наполнить драгоценной водой кувшины, кастрюли, чайники… На санках везли близких, завернутых в простыни; на санках кончался их путь – путь в никуда. В госпиталях появились дети с недетской печалью в глазах и с культяпками вместо рук, дети на костылях…
Но город не плакал, не стенал. Слезы были выплаканы; ненависть заглушала скорбь. Надеждой было мщение. Оно взывало к сопротивлению, противоборству, оно ожесточало и поднимало в ослабевших телесно силу духа, силу, не поддающуюся измерениям и имеющую лишь один предел – физическую смерть.
Город жил особенной жизнью, какой никогда не жил до него ни один город мира. Подчиненный воле, строжайшей дисциплине, исходящей из единого партийного центра – мозга, сердца обороны, – он выдерживал день за днем, месяц за месяцем немыслимое напряжение, готовя в муках лишений и постоянно висящей угрозы смерти светлый день Освобождения. Не зная, когда придет этот день, он свято верил в него. Вера поднимала на ноги живущего возле станка рабочего, химика в стылой лаборатории, ломавшего голову за ретортами, как научить приготовлять из несъедобного съедобное; вера вела истощенных, полуживых людей в кинотеатры, где крутили хроникальные короткометражки и добрые, смешные довоенные комедии.
Понять дух жизни осажденного и по всем правилам обреченного города врагу было не дано.
Набожный мизантроп-фанатик, равнодушный к роскоши, вину, женщинам, самоуверенно, с немецкой педантичностью расчел по дням быстрое крушение большевистской России под мощью солдатских сапог и добротно смазанного оружия. Три-четыре месяца (до заморозков!) на разгром Советов и выход к Уралу. Вслед за Москвой смешать с землей Ленинград, землю перепахать! Капитуляции не принимать! В плен не брать!
Расчеты оказались дутыми, превосходство – сомнительным. Давно лютовали русские морозы, а до Урала было далеко, насмерть стояла Москва. Гитлер, страшный в своей ярости, не выбирая слов, поносил командующего группой войск «Норд» генерал-фельдмаршала фон Лееба, этого холеного, спесивого саксонца, которому не хватило ума и сорока трех отборных дивизий взять Ленинград. И все же его больше беспокоили другие фронты: Ленинград – отрезанный ломоть – должен был, не мог не пасть к ногам победителей сам и молить о пощаде – вопрос каких-нибудь дней, в крайнем случае недель.
Уже принимал поздравления назначенный комендантом Ленинграда желчный коротконогий генерал-майор Кнут (несколько бутылок французского шампанского в глубокой землянке для самых близких – банкет потом, в Петербурге!). Уже отпечатаны в походной типографии и лежат в штабе аккуратно связанные пачки путевых листов для проезда автомашин по городу – только лишь проставить номера моторов и шасси…
А пока, не считаясь с потерями, каждый день, для устрашения, в одни и те же часы ноющие, как бормашина, «Юнкерсы» сыпали на Ленинград бомбы.
Пока с тех же мест, откуда двадцать два года назад белогвардейский генерал высматривал в бинокль Исаакий, а денщики чистили белого коня, дабы генерал во всем величии мог въехать в Петроград и начать вешать на фонарных столбах большевиков, с тех же мест и с теми же помыслами францы, зигфриды, гейнцы, вольфганги в соломенных эрзац-валенках, подогретые шнапсом, глумясь и куражась, топтались у окуляров дальнобойных пушек и давили на спусковые механизмы.
Захваченные земли покрылись гнойниками – чем ближе к Ленинграду, тем гуще: в неприметных деревеньках, хуторах, скрытых от глаз домишках осели секретные отделы, зондеркоманды, абвергруппы, отряды полевой жандармерии, тайной полиции… Оттуда, из подвалов, доносились стоны и дикие крики от дьявольских истязаний. Туда, воровато озираясь, прошмыгивали в темноте невзрачные мужички. С натужными, заискивающими улыбочками они нашептывали фамилии коммунистов-подпольщиков, партизанских связных и уносили с собой зажатые в потных кулаках зеленые бумажки оккупационных марок. Оттуда выходили гуськом с автоматами на груди рослые детины жечь непокорные деревни, вешать и убивать всех без разбору.
Наскоро обнесенные высокими глухими оградами школы, где недавно еще беззаботно шумели доверчивые ребятишки и звенели звонки, пропахли казармой. За партами сидели сменившие веру, имена и фамилии злобные мордатые парни. Их спешно натаскивали под недреманным оком не знавших жалости абверовских офицеров прыгать с парашютом, отстукивать морзянку, закладывать адские машины, бесшумно убивать. А инструкторами и сподручниками были те же арийцы рангом пониже, дождавшиеся своего часа оуновцы, айзсарговцы, чистенькие седеющие господа в цивильном, говорившие по-русски, но с едва уловимым нерусским акцентом и старыми оборотами речи – из РФС, НТСНП, РОВС[1] и прочих союзов, бюро, комитетов и объединений «бывших».
Каждую ночь они тайно выводили группки из двух-трех человек, закончивших обучение и превращенных в манекены. Все было густой ложью в этих манекенах: имя, одежда, документы, жизнь. Их двигали на Ленинград. Они должны были взорвать город изнутри, помочь врагу открыть ворота. Они должны были выведать тайну сопротивления…
2. Ясности нет
Пройдя хоженным не раз путем от Литейного, капитан-лейтенант Бенедиктов, оперативный уполномоченный особого отдела Балтийского флота, вернулся в часть после доклада Дранишникову в четвертом часу утра.
Часть располагалась в центре города, на карликовом островке, опоясанном еще в XVIII веке высокими казенными, ничем не облицованными кирпичными зданиями и узкими, как рвы, каналами, что делало его похожим на мрачную старинную крепость; два деревянных мостика были перекинуты на другой, большой остров, казавшийся материком. Козырнув устало, Бенедиктов прошел было мимо бюро пропусков, но громоздкий и тяжелый в своем тулупе до пят дежурный краснофлотец открыл дверь и высунулся наружу. Не сдерживаясь от радости, он поспешил разделить ее:
– Товарищ капитан-лейтенант! Слышали «В последний час»? Наши фрицев под Москвой шарахнули! Только пух да перья… Полный разгром! Гитлер небось в штаны наклал… Вот это да!.. Теперь пойдет дело… Теперь и от Ленинграда погонят, как часы!..
Бенедиктов сам находился под впечатлением этой первой, с нетерпением ожидаемой большой победы, о которой услышал по радио у Дранишникова, и восторг дежурного был ему близок, понятен. Обсудили, что означает эта победа для нас и поражение для фашистов, припомнили цифры подбитых немецких танков, потерь живой силы и взятых трофеев… И вдруг дежурный, спохватившись, сообщил потускневшим голосом, что капитана-лейтенанта разыскивали еще с вечера и просили срочно позвонить по телефону. Сердце Бенедиктова сжалось: «Тася?!. С ней что-нибудь?..» Схватил обрывок газеты с нацарапанным карандашом номером – отошло: телефон был Приморского отдела милиции.
Бенедиктов валился с ног от усталости: последние три вечера, проведенные с группой краснофлотцев в настойчивых, но безуспешных поисках ракетчика на набережной Васильевского острова, вконец измотали его. Чувствуя, что выдыхается, Бенедиктов рассчитывал поспать хотя бы до восьми, но сообщение дежурного заставило изменить планы.
Короткий сон не освежил. Невыспавшийся, разбитый, с заплывшими глазами, он покинул свою клетушку в круглом, как барабан, здании еще до побудки и, наскоро выпив кружку горячего чая с ломтиком черного хлеба, вышел, поеживаясь, в темноту, на мороз.
Ниже среднего роста, широкий в кости, большеголовый, с крупными чертами лица и чуть косым разрезом глаз, выдававшим далеких татаро-монгольских предков, Бенедиктов все свои тридцать четыре года прожил в Ленинграде, великолепно ориентировался в городе и любил ездить по его улицам. Однако теперь, когда транспорт встал и единственным средством передвижения оказались ноги, отшагивать километры берегущему силы полуголодному человеку было физически трудно, к тому же на ходьбу тратилась уйма драгоценного времени. Чтобы использовать его, Бенедиктов обдумывал добытые накануне сведения и возникавшие в связи с ними вопросы, не забывая, впрочем, отсчитывать линии и стараясь не упускать из виду тропинку, петлявшую среди наметенного снега.
На Васильевском острове, казалось, было еще холоднее, нежели на материке. На брови, ресницы, мерлушку опущенной по самые глаза флотской ушанки налип иней. Пальцы одеревенели. Бенедиктов сжимал и разжимал их, но вместо тепла лишь испытывал боль у ногтей.
Начали попадаться редкие прохожие, возле зениток на набережной копошились расчеты, где-то вдали громыхали взрывы…
Когда показалось в глубине улицы за оградой облупленное здание районной милиции, солнце уже взошло, красное и размытое в своих очертаниях. Бенедиктов потянул на себя дверь – тугая пружина щелкнула и задребезжала, – потопал, чтобы сбить с валенок снег, и поднялся по грязной промерзшей лестнице.
Кабинет начальника отдела Калинова был открыт, но пуст. Бенедиктов нетерпеливо двинулся по коридору, заглядывая подряд во все комнаты, пока в одной не заметил его. Капитан захромал навстречу, опираясь всем телом на старинную клюку, и по пути приказал разыскать Жукова.
– А я только неделю, как из госпиталя, – объяснил он Бенедиктову, спросившему о хромоте. – Осколки клюнули, семь единиц. Шесть вытащили – четырнадцать грамм, седьмой оставили на память от ганса… Пустячок, но неприятно…
«Все та же ироничность, те же колючие глаза, – отметил Бенедиктов, знавший Ромку Калинова еще опером в управлении милиции, – и лицом не сдал… Держится».
Пропустив его в кабинет, Калинов прикрыл за собой дверь.
– Были времена, а теперь моменты… Угостил бы, да, сам понимаешь, нечем – ни горячего, ни холодного, прости, – сокрушенно вздохнул он, цепляя клюку за край стола; сел тяжело, вытянув одну ногу. – Садись.
Бенедиктов сразу учуял, что от огромной изразцовой печи в углу, протопленной, по-видимому, накануне, исходит тепло, и пододвинул к ней стул. Но садиться раздумал – побоялся разомлеть от постоянного недосыпания. Расстегнул шинель.
– Знаю, гостеприимный хозяин… Так чем порадуешь? – спросил он, прикладывая растопыренные пятерни к охладившемуся до температуры человеческого тела зеленому кафелю.
– Самоубийство, – сказал Калинов и поморщился от боли, крякнул. – Вот зараза, не унимается… Плохо раны заживают, витаминов не хватает… Да, самоубийство. Ваш тут гусь один лапчатый порешил себя.
– Почему же «гусь», да еще и «лапчатый»? – повернулся к нему Бенедиктов и стал растирать покрасневшие руки.
– Ракетчика держали у себя под носом. Разве не гусь?
– Вот как? – сдерживаясь, чтобы не выдать волнения, спросил Бенедиктов. – И кто же он?
– Сейчас… Жуков! – гаркнул Калинов почти одновременно с отворившейся дверью. – А, вот и он. Заходи, Иван Иванович, заходи.
На глаз Бенедиктов дал Жукову лет шестьдесят, не меньше. Невысокий и, должно быть, толстый в прошлом, он исхудал – кожа висела складками на его нездоровом и небритом лице. И старомодное драповое пальто с полами чуть не до земли тоже висело, словно чужое, хотя чувствовалось, что под ним накручено немало тряпья. «Из отставников», – подумал Бенедиктов, пожимая ему руку.
– Капитан-лейтенант из особого отдела, – представил Калинов Бенедиктова, – можешь говорить все.
Из рассказа Жукова Бенедиктов уяснил для себя следующее. Техник Пискунова, дважды посланная на квартиру старшего научного сотрудника военинженера третьего ранга Лукинского выяснить причину его трехдневного отсутствия в части, заявила в милицию, что на стук в дверь ей никто не ответил, а дверь заперта. Жуков, принявший заявление, вскрыл замок и обнаружил Лукинского мертвым, с простреленной головой; в руке его лежал пистолет «ТТ», а возле окна – немецкая ракетница и три стреляные гильзы. Врач констатировал самоубийство.
– Выходит, выпустил ракеты и застрелился. Так? – спросил Бенедиктов больше себя, нежели Жукова, и посмотрел на него. – В чем же причина, как по-вашему?
Жуков откашлялся, прикрывая маленькой ладонью рот, потом сказал:
– Запутался… Но могло быть и так, что кто-то заметил ракеты из его окна и стал ломиться в дверь.
– Логично. Но не совсем. Стал ломиться и недоломился?.. Вы опросили людей? Дворников?
– Нет… Мы сразу позвонили вам.
– По-нятно… – протянул Бенедиктов с еле заметным осуждением. – Но опросить нужно, сделайте это, пожалуйста. Капитан, я думаю, не будет возражать.
Калинов поморщился, на этот раз не от боли.
– Ах какой хваткий! У меня же людей нет, работать некому… Ну да ты ведь не отвяжешься, что с тобой поделаешь, по старой дружбе… А ты этого Лукинского знал?
– Нет, – покривил душой Бенедиктов, чтобы избежать лишних вопросов, и спросил Жукова: – Вы все оставили в неприкосновенности?
Жуков еле волок ноги, задыхался. Паспортистка жакта, приглашенная понятой, тоже немолодая и слабая, плелась позади него. Жалея их, Бенедиктов просил не торопиться и сам, насколько мог, сдерживал шаг, но все равно время от времени приходилось останавливаться и поджидать стариков. К несчастью, Лукинский жил на пятом этаже, лестница оказалась крутой, и на восхождение потратили без малого полчаса.
На узкой площадке Жуков сорвал пломбу с правой, обитой дерматином двери (всего их на площадке было две), поковырялся в замке.
– Заходите, – кивнул он, точно приглашая к себе в гости, и, пошаркав, исчез в темноте коридора.
Бенедиктов вынул фонарик «динамо» – желтое расплывчатое пятно то ярче, то слабее скользнуло по давно не менявшимся обоям с крупными цветами, пустой вешалке, деревянному ящику телефона и провалилось в пустоту дверного проема.
Комната была проходная. Лукинский жил в другой, служившей, видимо, спальней, в которую он перетащил остатки мебели из проходной.
Не переставая жужжать «динамкой», – лишь одно небольшое стекло в окне чудом уцелело вверху, остальные заменили обрезки фанеры, картона, кое-как приколоченные к оконным переплетам, – Бенедиктов увидел Лукинского, лежащего возле письменного стола, на боку, с поджатыми ногами в бурках. Был он в пальто, в перчатках, и, вероятнее всего, в шапке, отлетевшей после выстрела. Под ним растеклась большая лужа крови; она замерзла и напоминала застывшую старую краску. Запачканным кровью оказалось и ватное одеяло в грязном пододеяльнике, свисавшее со спинки стула.
Бенедиктов снял с ладони мертвеца «ТТ» – в магазине не хватало одного патрона; гильзу от него он нашел в пыли под книжным шкафом. Ракетница, совсем новая, валялась в углу, у подоконника, рядом с металлической, серого цвета, коробкой. Сидя на корточках, он откинул полукруглую крышку, вложил в гнезда ракетницу и гильзы.
Потом осмотрел окно. Одна створка была прикрыта неплотно – в щель за эти дни надуло снежный бугорок с мягкими неправильными обводами. Окна выходили на набережную – место весьма удобное для наведения на цель бомбардировщиков, – балкона не было, карниза тоже.
Между тем Жуков, показавший Бенедиктову все, на что, по его мнению, следовало обратить внимание (Бенедиктов сразу оценил опыт и высокую квалификацию милицейского оперуполномоченного), остался как бы не у дел. Он потоптался в нерешительности, потом остановился подле трупа, вглядываясь в перекошенное, с отвисшей челюстью лицо Лукинского. «Вражина, сволочь вонючая», – услышал Бенедиктов злой шепот, и ему показалось, что Жуков сейчас пхнет труп.
– Чья комната в коридоре слева? – спросил он.
– Соседей, – отозвался Жуков. – Муж, лейтенант РККА, на фронте, жена с девочкой тринадцати лет в эвакуации с сентября месяца.
– Ну, хорошо, посидите пока…
Набросав план квартиры, Бенедиктов осмотрел замок входной двери, коридор, кухню, удостоверился, что комната соседей прочно заперта, и принялся за вещи Лукинского.
Первый же выдвинутый наугад ящик письменного стола ломился от бумаг. Бенедиктов покачал головой и зажег стоявшую тут же коптилку, вытряхнул на стол бумаги. Книжечка МОПРа… Не надо, в сторону…
Пачка жироприказов… Туда же…
Диплом.
«Выдан Лукинскому Евгению Викторовичу в том…»
Нужно, обязательно…
Журнал «Вестник кораблестроения», 1935 год. Статья Лукинского… Может пригодиться…
Черновик статьи… К журналу…
Детский рисунок цветными карандашами – корабль со стреляющими пушками; на обороте кривые печатные буквы:
Невольно умилился: детей у Бенедиктова не было, а любил их… Не надо, в сторону…
Удостоверение Осоавиахима… «Ворошиловского стрелка»… Не надо.
Письмо:
«Милый мой чернобровенький… Когда становится тошно, вспоминаю твои…»
Еще письмо:
«Уважаемый Евгений Викторович! Статья Ваша представляет значительный интерес и содержит… доктору технических наук, профессору З. В. Токмаку… надеемся на…»
Еще:
«Женюрка! Бить тебя некому, злодея! Забыл нас совсем… Ирина Лукинична прихварывает… Фрукты на рынке еще дороги…»
Все письма собрать вместе. Надо…
Папка с фотографиями. Лукинский, видимо, с женой и сыном на фоне «американских гор»… Двое каких-то пожилых людей (мужчина и женщина) … Лукинский выступает с кафедры… Лукинский в седле, в красноармейской гимнастерке… Групповая фотография выпускников института… Лукинский с женой среди гостей за праздничным столом… Надо…
Справка о прививке Лукинскому оспы… Боже, сколькими бумагами обрастает человек за жизнь!.. Не надо…
Школьная тетрадь.
«Надя, Надюша, бесценное сокровище мое, не уберег тебя… Чувствую себя подлецом, убийцей, предателем… Имею ли я право жить с ним?..»
Любопытно. Очень важно!..
Квитанция на починку часов… Не надо.
В верхнем среднем ящике он сразу увидел сберегательную книжку, раскрыл – остаток тысяча сто тридцать девять рублей шесть копеек. Из глубины выгреб облигации займов вместе со смятыми, неряшливыми блокнотными листками, беспорядочно исписанными какими-то формулами. Деньги – двести восемьдесят шесть рублей, хлебные и продуктовые карточки (последний талон на хлеб – за девятое число) лежали тут же, на самом виду. Ограбление исключалось. Деньги, облигации, карточки и книжку Бенедиктов завернул отдельно.
От сосредоточенного внимания, тусклого света коптилки он быстро устал, почувствовал слабость, головокружение. Для передышки занялся железной печкой-буржуйкой, полной бумажного пепла. Вынув с предосторожностями хрупкие, скореженные огнем лепестки, увидел строчки типографского шрифта и сунул обратно.
Блокнотные странички с формулами внесли какое-то смутное беспокойство. Бенедиктов просмотрел их более внимательно: формулы перемежались с какими-то схемами и набросками необычных судов, напоминающих подводные лодки. На одном, вверху, небрежной скорописью было написано (Бенедиктов с трудом разобрал слова):
«Расчет необходимой мощности паровой турбины».
Хм… Повертел листки…
И вдруг мысль, пришедшая в голову, заставила его с поспешностью поставить коптилку на пол. Помогая фонарем, он разглядывал половицу за половицей затоптанного, в песке и пыли паркета, пока с удивлением не натолкнулся на след кружка с пятикопеечную монету, должно быть, от резинового наконечника костыля. Бенедиктов не припоминал, чтобы Лукинский был ранен или жаловался на ноги. Значит, кто-то его посещал? Костылей было два – следы вели в коридор и прихожую.
Проверил на всякий случай квартиру и, не найдя костылей, снова присел на корточки в комнате. Он уже потерял было надежду найти то, что искал, как возле кровати увидел серую спекшуюся крупинку, еще несколько было рассыпано поодаль… Боясь дышать, Бенедиктов собрал их на чистый листок бумаги. Потом поднялся, удовлетворенный, потряхивая кисть руки, которую до судороги свела «динамка».
Дубовый шкаф, общипанный топором сверху, с боков, без ящиков, с остатками резных дверец, в другое время навел бы на размышления о душевной болезни Лукинского, но Бенедиктов как бы не заметил этого. Его интересовало стекло. Мутные, захватанные стаканы сохранили множество отчетливых отпечатков пальцев…
Кроме стекла, грязной посуды, пустых консервных банок да каких-то тряпок, в буфете ничего существенного не оказалось, за исключением, пожалуй, нескольких рисовых зерен: они явно не были просыпаны, а аккуратно выложены на самой середине платочка фиолетового шелка с кружевной отделкой. Зачем?
Не найдя объяснения, Бенедиктов завернул их в платочек и положил к вещам, предназначенным для изъятия.
В этот момент в дверь забарабанили так, будто, спасаясь от преследования, кто-то искал в квартире убежища. Кроме врача, вызванного от Калинова, стучать было некому. И все же Бенедиктов на всякий случай снял предохранитель с пистолета и пошел открывать.
– Покойника разбудите, – недовольно пробурчал он, впуская крупную, мужеподобную Верочку Мелик-Еганову, врача военно-морского госпиталя, – и соседей напугаете. Как дошли?
– Не говорите, цела, – громко сказала она, по-солдатски топая по коридору. Увидела Жукова и паспортистку – поздоровалась. – Пока, тьфу, тьфу, Бог милует. Только подумайте, хотела сократить путь, перейти Неву по льду, уже спустилась, и – артобстрел. Чуть ли не первый снаряд как раз угодил в тропинку на самой середине. Сколько крови, сколько людей под лед пошло! Пришлось задержаться, помочь чем могла. А могла и там быть… Изуверы, изверги, слов нет!..
– Действительно милует, – сочувственно отозвался Бенедиктов, подумав, насколько свыкся он с бомбардировками и обстрелами, что даже не обратил внимания на пальбу. – Это в каком же месте?
– Напротив Медного всадника.
Он подвел Мелик-Еганову к трупу. Она приподняла Лукинского за плечи; Бенедиктов помогал ей, освещал одновременно коптилкой и фонарем голову – вся правая половина лица Лукинского посинела, хлынувшая из развороченного пулей виска кровь запеклась, сквозь черные корки проступала рваная кость.
Намеренно не высказывавший своих соображений, Бенедиктов молчал, с нетерпением ожидая, что скажет врач. Ему показалось, что слишком долго она осматривает рану. А она сильными пальцами расстегнула пальто на Лукинском, оголила его тощую шею, грудь…
– Самоубийство, – сказала она, выпрямляясь. Сняла резиновые перчатки, заправила под шапку выбившиеся рыжие волосы. – Я вижу здесь самоубийство.
– Значит, по-вашему, убийство начисто исключено?
– Я бы так не сказала. Вероятность убийства никогда не может быть полностью исключена. Но в данном случае я, честно говоря, не верю в него. – И после минутного молчания прибавила: – Если убийство, то весьма умелое и аккуратное. Так или иначе, мы отправим труп на экспертизу, и тогда уже никаких сомнений не будет.

