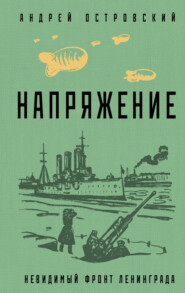
Полная версия:
Напряжение
«Что она сказала, мы не узнаем, – подумал Бенедиктов, закрыв тетрадку, встал. – Не узнаем…»
Когда Жуков впервые назвал фамилию Лукинского, Бенедиктов усомнился в самоубийстве, но, приученный к выдержке, даже не намекнул об этом Жукову и Калинову. И потом, несмотря на заключение врачей, сомнение не покидало его. Тетрадь, открывшая Лукинского с совершенно иной стороны, все-таки не прояснила то, что больше всего интересовало Бенедиктова: мог ли он, надломленный и растерявшийся, по собственной воле расстаться с жизнью?
И да, и нет…
Склонив крупную голову, Бенедиктов ходил по комнате от стены до стены – руки за спиной, брови насуплены. Что делал у него инвалид? О чем они говорили, кроме анекдотов? Не означает ли фраза «Разные мы люди, строй мыслей разный» попытки склонить Лукинского к чему-то? Если допустить, что ракетницу принес инвалид, то связана ли смерть Лукинского с сигналами из его окна? Разве не мог этот человек, узнав, что Лукинский мертв, проникнуть в квартиру и воспользоваться ее удобным расположением? Или они были сообщниками? Наконец, инвалид мог убрать Лукинского по каким-то соображениям. Каким?
Вдруг у Бенедиктова брови поползли к переносице; кинулся к столу, выхватил листки, исписанные аккуратным, с завитушками почерком Жукова. Вот:
«…кроме них я видела у парадной дома номер один инвалида Великой Отечественной войны. Больше добавить ничего не имею. Юрышева».
4. Мать и дочь
Свернув за угол, Бенедиктов прошел шагов полтораста утопающей в неубранном снегу улицей, отыскал парадную в старом, дореволюционной еще постройки доме, поднялся по скользкой лестнице на третий этаж. Постучал.
Долго никто не открывал. Дверь приоткрылась довольно неожиданно – Бенедиктов не слышал шагов. Перед ним стояла девочка лет восьми-девяти в зеленой шерстяной кофте, надетой поверх пальто, страшно худая, бледная, с голубыми удивленными глазами и грязными разводами на лице. Должно быть, незадолго до его прихода она плакала: на ресницах блестели капельки.
– Вам кого надо? – спросила она, отступив на шаг.
Бенедиктов, не ожидавший увидеть ребенка, спросил, живет ли здесь гражданка Юрышева, и шагнул в прихожую.
– Мама, к тебе пришли! – слабенько крикнула девочка, не двигаясь с места и с любопытством разглядывая его.
– Кто там? – послышался глухой голос из ближайшей слева комнаты.
– Какой-то дяденька, моряк…
Из комнаты донеслись шевеление, вздохи, заскрипели половицы – наверное, женщина лежала и теперь, готовясь выйти, одевалась.
– У вас хлебушка нет? – тихо спросила девочка, в глазах ее затеплилась надежда.
Бенедиктову стало не по себе. С нахлынувшим чувством жалости и одновременно нежности к этому голодному ребенку он нагнулся и погладил девочку по жиденьким, спутавшимся волосам.
– Нет, моя дорогая, у меня ничего нет, – проговорил он как только мог мягко, досадуя и стыдясь своей беспомощности.
Разочарованная, она увернулась от его ласки и, втянув мерзнувшие руки в длинные рукава кофты, встала возле двери.
Тяжело ступая, вошла мать. Лет тридцати, тоже голубоглазая, с нездорово полным лицом, она одной рукой оперлась на косяк, другой придерживала у шеи черный платок. Опухшие ноги были с трудом втиснуты в валенки с разрезанными вдоль голенищами.
– Что же вы тут стоите, проходите, – сказала она, кивком приглашая в комнату.
Бенедиктов вынул свое удостоверение, сказав, что хотел бы с ней поговорить. Она повертела его и, не рассматривая, вернула.
– Да ладно, чужие не придут.
Как всякую женщину, ее больше беспокоил беспорядок в комнате. Она освободила часть стола, заваленного мелочами, переставила на комод миску с коричневой вонючей жижей, сняла тряпки с жесткого кресла, предложила Бенедиктову сесть, сама села на диван.
– Вы давно здесь живете? – спросил он, чтобы завязать разговор.
– Да я здесь родилась, – подернула плечами Юрышева. – Раньше вся квартира была наша – три комнаты. Потом старики мои умерли, нас уплотнили, въехали соседи. А сейчас мы с Валюшей снова одни. Живем… Хотела сказать «хлеб жуем», но хлеба… – вздохнула, усмехнулась горько: – Да и жевать нечем. Но ничего, не сдаемся. Правда, Валюша? – Она обняла девочку, приклонившую голову ей на плечо. – Мы часто с ней думаем: вот разобьют наши фашистов, Гитлера проклятого повесят, папка с фронта вернется – и заживем, как бывало…
Бенедиктов представил ее молодой, в семье – проворная, домовитая, словоохотливая… Сколько таких гнезд поразрушала война!
– Это ваш муж? – показал он на фотографию над диваном: светловолосый парень в рубашке, вышитой крестом (наверняка работа жены!), смотрел открыто и уверенно, даже заносчиво, как бы наслаждаясь своей силой и уверенностью.
Она кивнула, и тут губы ее дрогнули, скривились.
– Два месяца ничего от него не получаю. Написал в октябре и – как в воду… Конечно, письмам сквозь блокаду трудно пройти…
Она искала у него сочувствия и подтверждения своим догадкам, Бенедиктов не стал разрушать их, наоборот, придумал тут же схожий случай, будто бы произошедший с одной его знакомой, – тоже долго не получала писем от мужа, а они где-то лежали, копились, потом ей вручили целую пачку.
Юрышева посветлела лицом, Бенедиктов, продолжая, незаметно подвел разговор к интересовавшим его событиям.
– Стрелял на днях изверг. – В голосе ее появилась жесткость. – Предатель. Совсем где-то возле наших домов запускал. Раньше я в дружине состояла, так мы – женщины да мальчишки – поймали одного в сентябре, чуть не растерзали подлеца. Но не дали нам!.. А теперь куда уж мне, сил нет и ноги, как бревна. Разве за ним угонишься по лестницам и чердакам! Только злобу в себе набираешь, думаешь: «Попадись мне в руки, стреляльщик, ждать никого не стану, сама задушу».
– На днях – это когда?
– Во вторник. Вечером, поздно уже было, часов семь. Вчера меня милиционер тоже спрашивал об этом.
– Значит, ищут… – Бенедиктов качнулся в кресле, сев поудобнее. – Как получилось, что вы заметили?
– Да ведь как… Случайно. Ходила к знакомому столяру, тут, у собора он живет, клею мне обещал немного столярного. Плетусь обратно, и – воздушная тревога. Пришлось пережидать в парадной. Вдруг вижу: бах, бах – ракеты… Совсем рядом, я даже подумала: не из нашего ли дома? И самолет уже воет. Все, думаю, сейчас разбомбит.
– Так все-таки из вашего дома стреляли?
– Не знаю, по-моему, вон из того, – махнула она рукой в сторону дома напротив, где жил Лукинский, – или из соседнего… Поди, Валюша, поиграй, – заметив, что дочь заскучала, сказала она и взяла с дивана старую, без платья, тряпочную куклу с болтающимися ногами. Девочка прижала ее к груди, что-то зашептала на ухо матери. – Ладно, потом, иди поиграй, дай нам поговорить. – И, отстранив ее от себя, повернулась к Бенедиктову: – Скучно ей, не знаю, чем и занять. Все есть, есть просит. Кабы играла с кем, легче было бы, про еду реже вспоминала бы.
Бенедиктов склонил голову в знак согласия, спросил:
– После отбоя вы сразу домой пошли?
– Куда же еще?.. Страху я там в парадной натерпелась: крохотуля-то моя в бомбоубежище. Не одна, люди там, но все равно без матери. Случись что, разделяться нам нельзя, только вместе…
– Видели кого-нибудь около того дома, когда шли?
– Мало… Женщину встретила с холщовой сумкой за спиной.
Пришлось выслушать про женщину, потом узнал, что с набережной свернула на улицу другая, расспросил и про нее.
– И больше никого?
– Да, раненый еще какой-то из парадной вышел.
– Раненый? – Голос Бенедиктова упал до безразличия. – Почему раненый?
– На костылях он был. И вроде бы пальцы на руке перевязаны.
– А-а… Без ноги, что ли?
Она прикоснулась ладонью ко лбу, закрыла глаза, припоминая.
– Нет, обе были… Волочил он больную ногу.
– На двух костылях или на одном?
– На двух, на двух…
Каждое слово прилипало к мозгу, и отодрать их уже было невозможно. Бенедиктов поднял глаза на собеседницу:
– Вы сказали, что он вышел из парадной. Я правильно понял? Или он уже стоял у парадной, когда вы шли?
– Вышел. Дверь на пружине, и он сначала выставил костыль, а потом пролез сам, дверь его подтолкнула в спину.
– И он сразу пошел? В какую сторону?
– Не сразу. Постоял, закурил. Еще искру высекал, – Юрышева невольно черкнула костяшками согнутых пальцев, – и пошел в сторону Большого.
– Ага, кресало… Лицо его заметили? Молодой, пожилой, с усами, без усов?..
– Нет, где там, в темноте-то. Да я и не смотрела, случайно мимо шла, все думы о Валюшке. Сердце исстрадалось.
– Ну конечно, конечно, – торопливо проговорил Бенедиктов. – Раньше он вам тут не встречался?
Она медленно покачала головой.
– А одет как был? На голове что?
– В пальто… обычное пальто. А что на голове – не посмотрела.
Он спросил еще, но вопросы уже мало что значили, тем более ответы. Потом он искусно свел разговор на пустяки и, извинившись за беспокойство, стал прощаться.
5. Где он живет?
То, что называлось хлебом, начинали выдавать в семь утра. Бенедиктов подошел к булочной на углу Большого проспекта, где мог брать хлеб Лукинский, незадолго до открытия.
Еще издали он увидел в темноте реденькую толпу, облепившую вход. Женщины в ватниках, в платках, туго затянутых на пояснице, противясь стуже и ветру, не стояли на месте – пританцовывали, постукивали ногой о ногу, но не удалялись далеко от дверей. Мужчин было немного, и никто не опирался на костыли.
Бенедиктов выбрал место под аркой в доме напротив – не самое удобное и на ветру, зато оно позволяло, не привлекая к себе внимания, видеть каждого, кто подходил к булочной.
Вскоре стукнула дверь, мелькнул слабый, колеблющийся огонек внутри, и толпа, быстро разредившись в цепочку, почти целиком исчезла.
Где-то далеко щелкал из динамика метроном, отсчитывая секунды, минуты, часы… Хвост у магазина то увеличивался, то сокращался, потом и вовсе никого не осталось на улице.
Холод проник сквозь шинель, мелкая дрожь начала дробить тело. Собираясь покинуть неуютное убежище, Бенедиктов осмотрел напоследок надоевшую ему улицу и тут совершенно неожиданно для себя услышал за спиной тихий размеренный стук. Стук костылей – ничего другого быть не могло. Бенедиктов напрягся, задержал дыхание, соображая, как поступить.
– Товарищ капитан-лейтенант, махорочкой не богаты? – Голос простуженный, немолодой.
Бенедиктов обернулся, словно выведенный из глубокой задумчивости. Мужчина в драповом пальто и матерчатой рваной ушанке с торчащей из дыр ватой висел на костылях – плечи вздернуты, голова опущена.
– Махорочкой?.. Гм-м… Найдется. – Бенедиктов охотно закинул полу шинели, полез в карман брюк; лицо его выражало приветливое простодушие. – Особо раненому братишке. Раз такое обращение – «капитан-лейтенант», стало быть, свой, флотский?
– Это точно… – Зажав под мышкой костыли, инвалид снял рукавицы, запустил грубые пальцы в кисет.
Бенедиктов не курил, но махорку держал при себе, и она не раз выручала его в самых непредвиденных обстоятельствах. Свернул самокрутку сам, похлопал по карманам.
– А, чч-черт побери, кажется, спички забыл…
– Не беда, у меня есть.
Он приладил к белому камешку сплетенный из ниток жгут, сильно ударил по камню железной пластинкой. Щурясь от едкого дыма горелой тряпки, Бенедиктов сумел разглядеть худое, с впалыми щеками лицо в морщинах, желвачок на лбу справа, над самой бровью, нос крупный, широкий.
– Где служил-то?
– На «Октябрьской революции», старшиной команды трюмных машинистов. – Послюнявив пальцы, инвалид придавил раскрасневшийся на ветру трут. – Там и накрылся.
– Ба, на «Октябрьской революции»! – оживился Бенедиктов. – У меня там друг закадычный, капитан третьего ранга Чухнин. Знал такого?
– Чего-то не припоминаю. Да я на линкоре недолго пробыл, перед самой… – вдруг закашлялся, по-лошадиному кивая, – перед самой войной перевели с «Кирова»… Ну, спасибо, капитан-лейтенант, а то со вчерашнего утра не куривши. Думал, подохну… Пойду за пайкой, пока не заперли.
Скрючившись, он осторожно переставил костыль на промерзлую, скользкую землю, едва прикоснулся больной ногой и, подпрыгнув, ступил здоровой. Бенедиктов выплюнул окурок.
Светало. Казалось, кто-то незаметно вливал в густую темень свет, перемешивал и разбавлял ее. Снег представлялся уже не черным, а синим, проявились кирпичи стен с квадратиками изразцов, дверь булочной оказалась коричневой, обрели объемность дома, сугробы. Поприутих ветер.
Бенедиктов быстро пересек улицу, скосив глаза на магазин, замер возле уцелевшей стены разбомбленного особнячка.
Вскоре появился инвалид. К удивлению Бенедиктова, он заковылял не к подворотне, где они только что повстречались, а к проспекту. «Куда же это ты пошел, а? Посмотрим, посмотрим», – думал Бенедиктов, двигаясь за ним по противоположной стороне Большого, к Гавани.
Проспект был широк, настолько широк, что Бенедиктов обострившимся зрением едва различал темное подрагивающее пятнышко – голову и плечи, – мучительно медленно плывущее за кучами снега.
А когда оно пропало, он все же не заметил. Бенедиктов ругнулся и, пригибаясь, увязая в снегу, перебрался к большому серому дому. Никого… Ворота наглухо заперты, завалены снегом… А вот и выдавленные кружочки. Они вели в парадное, оказавшееся проходным. Дверь со двора была распахнута настежь. Бенедиктов с облегчением вздохнул: в глубине узкого дворового садика хромал человек на костылях…
У заднего крыльца четырехэтажного флигеля он долго лающе кашлял, прижав руку к груди, потом осмотрелся и исчез внутри.
Выждав с минуту, Бенедиктов последовал за ним, прислушался. Наверху, на третьем или четвертом этаже, хлопнула дверь, и все стихло. Тогда он неслышно выбрался обратно во двор, скользнул глазами по крышам. Одно слуховое окно его особенно заинтересовало, и он поспешил к соседнему дому.
Чердак продувался насквозь, но чердачный запах так и не выветрился. После улицы здесь казалось темно – пришлось достать фонарь. Возле кирпичной трубы стояла ржавая бочка с песком. Из песка косо торчал стабилизатор «зажигалки». И рядом с брошенной лопатой валялись недогоревшие, как сигары, огрызки маленьких бомб..
Перелезая через пыльные стропила, Бенедиктов устремился к присмотренному им окну и чуть не споткнулся обо что-то. Бросил под ноги луч света, невольно отпрянул, увидев окоченевший труп женщины. Женщина лежала ничком, раскинув ноги и сжимая в белевшем кулачке длинные щипцы; развязавшийся платок на голове еле заметно колыхал ветер…
Бенедиктов обошел труп и, взобравшись под крышу, примостился у полукруглого окошка. Отсюда была видна часть кирпичного, без штукатурки, флигеля, крыльцо, где скрылся инвалид; не весь, но просматривался и двор. Почерневшие, с поломанными рамами окна, забитые где фанерой, где железом, заткнутые тряпьем, подушками или вовсе пустые, не позволяли видеть происходящее внутри и казались безжизненными. Бенедиктов попытался уловить хоть какой-нибудь шорох, но тщетно: тишина стояла устрашающая.
И вдруг густой, липкий гул вырвался откуда-то, заложил уши, нарастая, и отозвался громом в другой стороне. Качнулась земля, вздрогнули стены. Бенедиктов выругался про себя расхожим русским словом, прижимаясь бессознательно к стене. Гул не стихал, он как бы пульсировал; с ним слышался другой, такой же мощный и тяжелый, – ударили в ответ корабли с Невы. Теперь стены дрожали не переставая, один раз что-то рассыпалось по крыше. Бенедиктов посмотрел вверх и только сейчас заметил, что крыша вся в мелких дырах, как звездное небо, а в глубине чердака зияет огромная брешь. Невольно перевел взгляд на женщину и покачал головой.
Стрельба прекратилась неожиданно, как и началась. За время обстрела из дома никто не выходил. От неудобного положения у Бенедиктова затекли и стали мерзнуть руки и ноги. Ветер с колючей снежной пылью резал лицо. «Что он там делает так долго? – думал Бенедиктов, растирая перчаткой щеки и нос. – Или здесь его дом? Тогда откуда он шел спозаранок?»
Прошел еще томительный час и еще… Если бы Бенедиктов не осмотрел флигель, убедившись в отсутствии черного хода, можно было предположить, что инвалид ушел. Нет, он был тут. Терпение, только терпение. Бенедиктов заставлял себя думать о чем-нибудь приятном, хорошем, восстановить в памяти, например, какой-нибудь случай, когда ухаживал за Тасей… Не получалось – холод глушил все. И хотелось есть. Это давно уже ставшее обычным чувство обострилось, напоминая о былом времени обеда. Бенедиктов знал, что скоро оно пройдет, сменится слабостью и повлечет за собой сонливость. Заснуть же он боялся больше всего.
Было совсем темно, когда дверь приоткрылась и инвалид боком пролез в щель. Его никто не провожал. Промерзший до костей Бенедиктов скатился на засыпанный гарью пол и, разминая на ходу онемевшие руки, побежал к выходу.
Теперь незачем было переходить на другую сторону, – темнота укрывала его. Отпустив инвалида шагов на пятьдесят, насколько позволял глаз, Бенедиктов тащился за ним по знакомому пути, пока не дошел до той самой подворотни. Во втором дворе инвалид вошел в дом. Бенедиктов прикинул, что жить он мог либо в восемьдесят шестой, либо в семидесятой квартире, но на всякий случай запомнил все номера на лестнице.
В жакте, сыром и холодном подвале, пропахшем копотью, он застал дворничиху и девушку из МПВО. Облокотясь на старый канцелярский стол с грязной пустой чернильницей, девушка называла дворничихе какие-то квартиры и загибала пальцы перед самым ее носом, та согласно кивала.
– Как бы повидать вашу паспортистку? – спросил Бенедиктов. Девушка через плечо кинула на него взгляд и отвернулась.
– Паспортистку?.. А никак. – Дворничиха поерзала на крутящемся табурете. – Нет у нас паспортистки, убило нашу Галочку на прошлой неделе бонбой. Пошла домой, может, еще и спать не улеглася, и налет… Бонба аккурат в самый ихний дом угодила. Одни черепки… Ах ты господи, фашист проклятушший, душегуб…
– И кто же теперь?
Дворничиха пожала острыми плечами, закатила маленькие глазки.
– Поди знай кто… Сама Клава, наверно.
– Кто это – Клава? Управдом? Где ее найти?
– Дома, где же еще, час-то уже поздний. Она тут недалече живет, на Двадцатой линии, дом одиннадцать, квартира тоже одиннадцать.
Петракова – так дворничиха назвала фамилию управдома Клавы – за порог его не пустила. Она лишь приоткрыла дверь на цепочке и спросила настороженным шепотом: «Кто?» Бенедиктов едва устоял на ногах от потекшего на лестницу вместе с теплом сладкого, головокружительного запаха печеного теста. Это было так неожиданно и так невероятно, что он, глотнув слюну, отступил на шаг.
– Энкавэдэ, – ответил он, испытывая безотчетное чувство неприязни к женщине, и направил свет фонаря на свою красную книжечку. – Нужно посмотреть домовые книги, быстро.
Испуганно пробормотав: «Обождите минутку, я сейчас», она поспешно захлопнула дверь и заперла на крюк.
По дороге Петракова начинала что-то говорить, но Бенедиктов хмуро отмалчивался. Проклятый запах горячего печева не давал ему покоя, и он думал о том, как бы поскорее добраться до жакта.
– Вот, Егоровна, какого я мужчину привела, – сказала, входя, Петракова съежившейся в углу и, казалось, дремавшей дворничихе.
Та хихикнула:
– Ах, Клава, Клава… О хлебце бы думала…
Девушки из МПВО уже не было. Бенедиктов заметил, что Петракова недурна собой – это открытие безотчетно еще более усилило неприязнь к ней.
Она достала из сейфа четыре толстые потрепанные книги с загнутыми и засаленными углами. Бенедиктов сел за стол.
– Вот здесь отмечены выбывшие, – сказала она из-за спины, налегая на него грудью, – и проставлено число. Можете не сомневаться, у нас все в полном порядочке.
– Разберусь, разберусь, – Бенедиктов резким движением расправил спину; ему показалось, что он уловил запах вина, – не в первый раз… – И принялся выписывать ненужные ему фамилии, делая вид, будто внимательно просматривает все квартиры.
В семидесятой мужчин не оказалось, в восемьдесят шестой жил монтажник. И в других квартирах по той лестнице списанные с флота военнослужащие не значились. «Вот так компот! – обескураженно подумал Бенедиктов, перевертывая страницу. – Выходит, инвалид прописан в другом месте, если он вообще прописан. У кого же он живет?..»
6. Сослуживцы
На следующий день Яков Владимирович Дембо, командир части, высокий (под два метра), худой, с тонкой шеей контр-адмирал, зашел в клетушку Бенедиктова. Тот поднялся из-за стола, шагнул навстречу, тряхнул протянутую руку.
– Вы, кажется, заходили ко мне и изъявляли желание видеть, не так ли? К сожалению, я был занят… Что-нибудь срочное?
Бенедиктов сел рядом с контр-адмиралом, сказал про смерть Лукинского.
– Очень прискорбно, очень, – проговорил Дембо, вытаскивая платок и сморкаясь. – Это был превосходнейший инженер, как говорят в таких случаях, инженер Божьей милостью. И человек, кажется, хороший… Но сейчас столько смертей кругом…
– Вы знаете, что он покончил с собой?
– Да что вы говорите? Этого я не знал… Что же произошло?
– Застрелился… Что вы можете сказать по этому поводу?
Лицо контр-адмирала показалось обиженным.
– Дружок мой, я не гадалка. Предполагать может каждый, в том числе и вы, при небольшой доле воображения, но знать, я думаю, мог только он сам. И потом… – Дембо откинул узкие сухие ладони, – если бы это случилось до войны, тут был бы предмет… Я знаю, что он потерял семью. Одиночество, житейские невзгоды, неважное самочувствие… Не каждый выдерживает такие испытания.
– Мне кажется, вас все же удивило, что это самоубийство. Или я ошибся? – склонив голову набок, спросил Бенедиктов.
Дембо беззвучно засмеялся:
– Проницательность – ваша работа… Признаться откровенно, да, удивило. Попробую сказать почему. Наверное, потому, что я был не подготовлен…
– Иными словами, его образ действий в последние дни не давал повода к такому печальному концу?
– Пожалуй, именно так… Но, повторяю, человеческая психика – тайна, может быть, самая глубокая из всего, что нас окружает… Случается всякое. Тем более в нынешних условиях. Состояние депрессии, резкий переход от одного эмоционального состояния к другому… А Лукинский был эмоциональным человеком… Но я не психолог, вероятно, надо поговорить с ними.
– А неприятностей служебного порядка у него не было в последние дни? Скажем, приказа или какого-нибудь крупного разговора?
– Нет. О таковом мне неизвестно.
Дембо вынул из брючного кармана серебряные часы, посмотрел на отдалении и поднялся.
– Одну минуту, Яков Владимирович, – сказал Бенедиктов торопливо, – я вас долго не задержу. Скажите, чем занимался Лукинский?
– Евгений Викторович? Тем же, чем и все мы: ремонтом боевых кораблей.
– Но, может быть, у него было какое-нибудь особое, специальное задание?
– У Ленинграда сейчас одна-единственная цель – выстоять! – сухо сказал контр-адмирал, засовывая руки в карманы полушубка. – Все мобилизовано для ее достижения. Распылять силы нельзя – это было бы преступлением перед страной… А тем, что вы подразумеваете, занимаются тылы, и, надо думать, успешно.
– Тогда что это может означать? – Бенедиктов вынул из сейфа блокнотные листки с расчетами Лукинского.
Контр-адмирал повертел их, достал очки и, рассматривая, медленно опустился на стул.
– Хм, интересно… Весьма и весьма… – Посмотрел на выжидающего Бенедиктова серыми глазами: – Ну-с, это мне гораздо ближе, чем психология. Тут можно и поразмышлять… Простите за нескромный вопрос, вы сами по профессии не инженер?
Бенедиктов покачал головой отрицательно:
– Я окончил политическое училище, военно-морское.
– Понятно, понятно… По долгу службы вам, наверно, известно, что до сформирования нашей части Евгений Викторович работал в конструкторском бюро. Я знаю это кабэ, оно сейчас в эвакуации. Вам также должно быть известно и другое – что наука вплотную подошла к открытию. Величайшему, я сказал бы, эпохальному открытию. Его можно ожидать со дня на день. Я имею в виду расщепление атома, получение нового вида энергии. – Оживился, помахал листочками, предвкушая нечто приятное. – Представьте флот, движимый не каким-нибудь мазутом или соляром, а принципиально новым топливом. Фан-та-сти-ческим топливом! И все, что следует за этим, тоже для нас пока фантастика. Появляется заманчивая возможность на подводных лодках в качестве главных двигателей использовать паровые турбины. Мощность же такой турбины огромна, она многократно превышает ту, которую мы имеем сейчас. Нетрудно догадаться, что соответственно возрастают скорости, особенно важно – подводные скорости лодок. Но это еще не все выгоды. – Дембо зажмурился мечтательно, потом улыбнулся и стал загибать пальцы: – Расщепление атома абсолютно не требует кислорода, значит, нет выхлопа – дыма, гари, копоти. По той же причине лодка может обойтись вообще без атмосферы и ходить в дальние походы, не всплывая на поверхность. Наконец, исчезают громоздкие цистерны для хранения топлива на время плавания. Отсюда – совсем иные размеры лодок и более мощное вооружение… Вот что это такое! – Помолчал, покачивая ногой. – Скажу вам откровенно как инженер: дело, которым мы сейчас заняты, довольно простое, для талантливого человека, привыкшего творить, малоинтересное. Все равно если бы портной экстра-класса, модельер, диктовавший моду, вынужден был ставить заплатки на рваные брюки. Но весь фокус, дружок мой, в том, что творец всегда творец. Он будет думать, искать – больной, голодный, переживающий личную драму… Человеческую мысль, особенно творца, нельзя заставить биться с девяти до шести с перерывом на обед или замкнуть в сейф на ночь. Вы поняли меня? Евгений Викторович был именно таким… Как инженер-механик по турбинам он здесь выполнял свою работу, и, надо сказать, со всей ответственностью… Ну а в остальное время, по-видимому, мечтал с карандашом в руках. Будущее – всегда мечта, таинственная загадка… Я неточно выразился – мечтал. Он разрабатывал мечту, овеществлял ее. На этих листках я вижу расчеты расхода пара и мощностей турбин для атомной подводной лодки. Вдумайтесь: атомной!.. Призрачная фантастика придвинулась к человеку, он хочет уже поковыряться в ней, как в автомобиле… – Дембо встал, застегнул полушубок. – Сожалею, у меня нет возможности пересчитывать, но я вижу ход мысли. Блистательный ход… Блистательный!..

