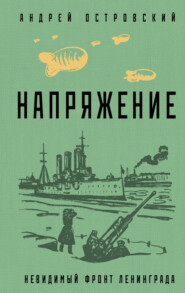
Полная версия:
Напряжение
Он сунул листки Бенедиктову и, пригибая голову под притолокой, хотя в этом не было надобности, вышел не простившись.
Капитан третьего ранга Елсуков оказался нелегким собеседником. Полтора часа говорил с ним Бенедиктов, но ни на один вопрос Елсуков, в сущности, не ответил. Говорил он быстро и много, помогая руками; в потоке слов фразы составлялись так ловко, что наиболее важное для Бенедиктова дробилось, расползалось и окончательный ответ можно было толковать двояко. «Ну и говорун», – раздраженно подумал Бенедиктов, глядя на не перестававшего улыбаться Елсукова и стараясь не замечать назойливо выставленные напоказ крупные желтые зубы.
– Вы бывали у Лукинского дома? – спросил он, не выдавая своего раздражения.
Елсуков поиграл пальцами, как бы пытаясь понять, какой ответ желает услышать оперуполномоченный. Лицо Бенедиктова было непроницаемо.
– Видите ли, у нас сложились такие отношения, при которых интеллигентные люди, если они действительно интеллигентны…
– Феликс Леонидович, я вас спрашиваю не об отношениях, а о том, бывали ли вы у него дома. Не уходите в сторону, отвечайте конкретно.
– По-моему, я говорю очень конкретно, – еще сильнее заулыбался Елсуков, наклоняясь к Бенедиктову. – При таких отношениях люди, как правило…
– Так да или нет?
– Мне известно, где он жил… Однажды мне пришлось зайти к нему за справочником, Лукинский простудился и не ходил в часть, но я задержался у него всего на несколько минут, даже не заходил в комнату, так что считайте как угодно – был или не был…
– Когда это произошло?
– Не помню, совершенно не помню… У меня пресквернейшая память, особенно на даты. Можете себе представить: я даже не помню дня рождения жены, которую очень люблю, хотя она аккуратно каждый год мне о нем напоминает. Курьезно, но теперь даже она поняла, что это бесполезно, и тем не менее я…
– Но приблизительно-то вы можете сказать, когда это было? Осенью? Зимой?
– Затрудняюсь вам ответить. Давно, давно, очень давно.
– Не до войны же, – усмехнулся Бенедиктов. – До или после того момента, когда вы приглашали Лукинского жить к себе?
Глаза Елсукова расширились от изумления. В первый раз он запнулся.
– Простите, не понял… О каком приглашении…
– Забыли? – мягко, не осуждающе проговорил Бенедиктов. – Вспомните-ка…
Елсуков засмеялся тихо, хлопнул себя по темени:
– Да, да, да, да, да… Ну конечно, вспомнил, был такой случай, был. Ах, какая память, просто не знаю, что делать. Вспомнил. Приглашал…
– Но почему Лукинского? Вы говорили, что у вас никогда не было с ним близких отношений, даже более того – они были холодными.
– Видите ли, когда жизнь хватает за горло, то есть, простите, я не так выразился, когда появились некоторые житейские трудности, многие собираются вместе для облегчения существования. Мы подумали с женой, что могли бы с кем-нибудь соединиться. У нас самих, по теперешним понятиям, большая семья – я, жена, шурин-инвалид, а Лукинский остался один, и мы проявили этот акт человеколюбия исключительно из сострадания к нему. Исключительно!..
– Итак, – напомнил Бенедиктов, – вы заходили к Лукинскому до или после приглашения?
– Это было раньше.
– Кто же вам передал справочник? Он сам, жена или сын?
– Лично сам Лукинский: жена его к тому времени уже умерла.
– Ага, понимаю… Кто-нибудь находился у него, когда вы пришли?
– Он был один. Совершенно один – жалкий, потерянный, в каком-то старом пальто без пуговиц…
– А что с вашим шурином?
Елсуков снова растянул рот, но в потускневших глазах появилось мученическое страдание.
– Тяжелейшая контузия… Врачи говорят – останется с костылями надолго, может быть, даже и на всю жизнь. Вы не представляете, какой это был юноша – спортсмен, веселый, остроумный… Я познакомился с ним, когда он был еще мальчиком, – я тогда ухаживал за его сестрой, теперешней моей женой. Помню, прибежит из школы, щеки – как яблоки, глаза горят, и – с порога: «Раечка! (Это сестру, мать у них почти не занималась ни хозяйством, ни воспитанием.) Раечка, «отлично» по алгебре, можно я пойду с ребятами в кино?» А она: «Нет, Сережа, сначала поешь куриный бульон с булочкой, сделай уроки, а уж потом можешь идти». И – ни упрека, ни капризов… Это такой удар для всех нас…
Бенедиктов сочувственно кивал, едва успевая вникнуть в смысл нагромождаемых слов, и, когда Елсуков набирал воздух, чтобы продолжить, спросил:
– Насколько я осведомлен, Феликс Леонидович, ваша специальность – паровые турбины и вы работали у Лукинского в отделе. Не делился ли он с вами или при вас своими мыслями относительно развития техники, не говорил ли, чем занимается дома?
– Нет, нет, нет, что вы! Никаких посторонних разговоров, – замахал руками Елсуков, – никаких, только о текущих делах… – Пригнулся и шепотом: – Если бы вы поработали у него, увидели бы, как с ним было трудно… Дотошный, требовал все время пересчитывать, переделывать, даже когда было не так уж важно…
«Наверно, с тобой действительно было трудно работать», – подумал Бенедиктов, потирая виски кончиками пальцев, и отпустил Елсукова, который перед дверью обернулся и еще раз осветил его улыбкой.
– Инженер Макарычев, с вашего позволения. – Голос прозвучал с порога излишне громко.
– Жду вас, заходите, – приветливо откликнулся Бенедиктов.
Макарычев энергично пододвинул стул, чтобы удобнее видеть капитан-лейтенанта, не сел – плюхнулся. Движения его были свободны, естественны – ни страха, ни угодливости, ни жеманства, появлявшихся в собеседниках, что не раз отмечал Бенедиктов, стоило им попасть в его восьмиметровый кабинет с решетчатым окошком. Инженер был коренаст, широколиц, седые волосы лежали хаотично, на макушке торчал хохолок.
– Вы давно и, должно быть, хорошо знали Лукинского, – начал Бенедиктов; Макарычев повернул голову, нацелив на него ухо с приложенной ладонью. – Какое у вас сложилось впечатление о последних днях его жизни? Не говорил ли он вам, что его беспокоит?
– Вы правы, знал я его давно, но утверждать, что знал хорошо, не берусь, одно с другим не всегда совпадает, вы со мной согласны? – посмотрел весело на Бенедиктова, требуя подтверждения. – Мы примерно с ним одного возраста – я на два-три года постарше, – но получилось так, что я уже имел солидный стаж, работая в кабэ, – я ведь был студентом еще до революции, – а Женя пришел к нам прямо со студенческой скамьи где-то в конце двадцатых годов. Вот тогда-то я с ним и познакомился и сразу обратил внимание на его незаурядные способности. Правда, вскоре я ушел из кабэ на преподавательскую работу. Ну, а началась война – оба мы оказались здесь как старые знакомые… Что сказать о его последних днях? Утрата жены и сына Женю надломила, хоть сейчас люди как-то иначе относятся к смерти вообще, да и к смерти близких. У него появилось, мне кажется, безразличие к жизни, он стал невнимателен к себе, рассеян…
– Какие-нибудь новые знакомства у него были в последнее время? Он не говорил?
– Ну какие сейчас могут быть новые знакомства! Не до этого… Сохранить бы те, которые есть… Во всяком случае, мне лично он не говорил.
– А не замечали ли вы чего-нибудь необычного, странного в его жизни, в поведении, в отношении к нему людей?
– Странного, необычного?.. Нет, нет… – тряхнул хохолком Макарычев. – Вообще Женя был человеком непростым. Он мог под горячую руку обругать, подковырнуть сослуживца, причем зло, обидно и, может быть, даже беспричинно. Но отходил быстро, чувствовал себя виноватым, извинялся… Это был человек дела. Дело, дело… Прежде всего дело. Терпеть не мог болтовни, трескотни, словоблудия. А такой подход к жизни не всем нравится. Так что не уверен, что все без исключения любили и восхищались им.
Переместившись на стуле, Бенедиктов сказал:
– Все это интересно… Скажите, а с кем Лукинский общался? Каких-нибудь подозрительных людей, с вашей точки зрения, вокруг него не обреталось?
Макарычев приложил кулак ко рту, призадумался, глядя на Бенедиктова.
– Что значит «подозрительные люди»? Нет… Впрочем… Впрочем, хотите я расскажу вам об одном эпизоде, но скорее, так сказать, анекдотического порядка. Так, мелочь, о которой, может быть, и вспоминать не стоит, но раз уж вы спросили… Произошло это года три назад, летом. Не помню, по какому поводу Женя пригласил меня и нескольких наших сотрудников кабэ в «Универсаль». То ли он отмечал день своего рождения, то ли получил какую-то награду, не помню, суть не в этом. В ресторане были и другие приглашенные. И вот среди них я увидел человека, поразительно похожего на ротмистра Нащекина, пристава Коломенской полицейской части (у Бенедиктова собралась кожа на лбу; Макарычев показал два ряда золотых зубов). Забавно, да? Не удивляйтесь, сейчас поясню…
Макарычев рассказал, что второкурсником – он учился в Технологическом в пятнадцатом-шестнадцатом годах – он был среди студентов, группировавшихся вокруг социал-демократов, просиживал вечера за спорами в марксистском кружке и выполнял мелкие разовые поручения подпольного большевистского комитета в районе.
Последнюю зиму перед революцией столица жила особенно неспокойно. Студенчество митинговало, размахивая кумачовыми флагами; устраивали сходки, выходили на демонстрации… Чувствовалось горячее дыхание революции. (Макарычев порозовел, возбудился от воспоминаний. «Спросите меня: а когда учились? Не отвечу. А ведь все-таки учились, черт возьми!»)
В декабре после митинга у Калинкина моста полиция переловила студентов и – в часть. Несколько дней держали в душных, забитых до отказа людьми камерах, вызывали на допросы по одному – искали зачинщиков и смутьянов.
– Меня допрашивал сам ротмистр. Забыть Нащекина я уже не смогу никогда, потому что в его части я потерял зубы, – Макарычев провел рукой перед растянутым ртом, – и сорок процентов слуха. Он и сейчас передо мной – холодный, расчетливый истязатель, с большими холеными руками, которые знали куда бить и как бить… И лицо у него характерное: тонкий-тонкий нос, прямо пластинка, близко сведенные к переносице черные пронзительные глаза…
– Так кто же был на банкете у Лукинского, неужели он? – с недоверием спросил Бенедиктов.
Макарычев хлопнул себя по колену:
– Никоим образом!.. Нащекин там быть не мог, ибо он расстрелян в тридцатом году.
– Откуда вы знаете?
– Из газет… Это был громкий процесс, «Красная газета» публиковала тогда подробный отчет. Оказалось, Нащекин тихо пережил революцию, сменил фамилию, внешность и занялся какими-то аферами. Его разоблачили, судили и расстреляли. Можете представить мое удовлетворение: порок наказан! Я даже написал тогда в редакцию.
– У вас, случайно, не сохранился номер газеты? Принесите мне, если не затруднит вас, – сказал Бенедиктов, поглаживая затылок, и пробормотал: – Действительно занятная история…
– Что вы?.. – морщась, Макарычев поднес ладонь к уху.
– Следовательно, вы предполагаете, что это был…
– Его сын! – вскинул плечи Макарычев. – А кто же еще? Такое поразительное сходство…
– А у него был сын?
– Вот уж, извините, чего не знаю, того не знаю, – с сарказмом проговорил Макарычев. – Не имел чести быть знакомым с господином Нащекиным и его семейством. Знакомство произошло, как я вам сказал, в каталажке, на том оно и закончилось.
– Вы попытались поговорить с тем человеком? – напрягая голос спросил Бенедиктов.
– Было у меня такое желание, правда, не скажу, чтобы страстное. Но знаете застолье?.. Он сидел на противоположном конце, а тут пошли всякие разговоры за рюмкой. Когда я спохватился, его уже не было.
– С кем-нибудь вы говорили о вашем наблюдении, заявляли куда-нибудь?
– Единственный, с кем я поделился, был Женя. Вы бы видели, как он хохотал! Пролетарий в роли жандармского сынка! Оказалось, он чуть ли не с детства знал его, потому и хохотал. Тогда же он рассказал, что у него есть родственник, как две капли воды похожий на Калинина. С ним здоровались на улице, принимая за Михаила Ивановича… Этим Женя окончательно убедил в глупости моей фантазии, и мне не хотелось попадать в нелепое положение. Так что заявлять по сути дела нечего. Я ведь и вам с самого начала сказал, что случай курьезный…
Бенедиктов не стал его разубеждать и спросил:
– А фамилию Лукинский вам называл? Или его имя?
– Не только называл. Он меня с ним знакомил, но фамилия мне ровным счетом ничего не говорила, и она у меня моментально выветрилась из памяти, так же как и имя.
– Еще когда-нибудь вы встречали этого человека? (Макарычев резко тряхнул головой.) Он был военный, гражданский?
– Гражданский.
– Я понял так, что по возрасту он был как бы ровесником Лукинского?
– Совершенно верно, что-нибудь около сорока… Это меня и поразило: он был приблизительно тех же лет, что и Нащекин, каким я его знал!
– Н-да… – произнес Бенедиктов, поглаживая переносицу, и это неопределенное словцо можно было расценить как удовлетворение весьма важным сообщением или, наоборот, как скорбь по потерянному на никчемный разговор времени. – Что-нибудь еще вы можете сказать по поводу знакомств Лукинского?
– Абсолютно ничего.
– Тогда не смею вас задерживать. Спасибо. – Когда Макарычев был у двери, Бенедиктов остановил его: – Между прочим, вспомните на досуге, кто еще присутствовал на том банкете в «Универсале», и сообщите мне. Вам, надеюсь, это будет несложно?..
7. Батальонный комиссар
Батальонный комиссар Дранишников назначил по телефону встречу на двадцать тридцать. Выслушав начальника, Бенедиктов чертыхнулся про себя: выходило, что встреча с Тасей еще откладывается, по крайней мере на сутки. Несмотря на все старания, он уже третий день не имел возможности связаться с женой и у него не было ни малейшего представления о том, что происходило дома. Бог знает что могло случиться за эти два дня! Все равно что за год обычной жизни. Неизвестность угнетала, злила. И Тася… Могла бы как-нибудь дать знать о себе и своей тетке… Но вдруг не могла?..
Чувствуя весь день недомогание, Бенедиктов вышел пораньше и около семи вечера был на Литейном, совершенно обессилев после долгой ходьбы.
Здесь, в тиши, он развернул потерявшие упругость желтые листы старой газеты, еще раз прочел судебный отчет, просмотрел документы, которые поступили на запросы в последние сутки, и, тщательно подобрав бумаги, сложил в папку. Дранишников болезненно относился к опозданиям, неточностям, неряшливости и при случае делал замечания тихим голосом, без угроз и грубостей, но с какой-то необъяснимой внутренней силой волевого, беспощадно относящегося к себе человека. Замечания выслушивать было больно, гораздо больнее, чем переносить разнос. Изучив начальника, Бенедиктов заранее обдумывал разговор, стараясь не быть застигнутым врасплох даже в мелочах.
Встретил его Дранишников, как обычно, едва заметным наклоном головы и сразу приступил к делам. Его чрезвычайно интересовало все относящееся к Лукинскому, но начал он все же с Нефедова.
Михаил Николаевич Нефедов, имевший еще кличку Боксер, попал в поле зрения Бенедиктова в июле. Тогда капитан-лейтенант узнал об одном разговоре, из которого следовало, что Нефедова вполне устраивал приход немцев. Позже вскрылись любопытные обстоятельства: оказалось, что этот человек, сын судовладельца в Николаеве Церидоса, бежавшего после революции в Турцию, в начале девятнадцатого года командовал летучим отрядом в треугольнике Геленджик – Криница – Черный Аул (после высадки англичан и французов). Отряд вылавливал и добивал раненых, расстреливал отставших от своих частей красноармейцев. Когда Деникин вместе с войсками Антанты был разгромлен, Церидоса схватили, но при пересылке в тюрьму он убил конвойного и исчез…
В Ленинграде он обосновался года за два до войны с документами на имя Нефедова, женился на обрусевшей немке Гертруде Оттовне, устроился на завод, стал стахановцем – портрет его, увитый алой лентой, висел на площадке за проходной. В первый месяц войны он перебрался мастером на только что спешно запущенный завод на взморье, куда прибывали после боев полузатонувшие, потерявшие ход и обезображенные снарядами канонерские лодки, сторожевые корабли, буксиры и разные вспомогательные суда – для ремонта.
Однажды к Бенедиктову, на попечении которого был и этот объект, постучался парнишка – юнга в плохо подогнанной к его щуплому телу робе. Шепотом он сообщил, что неподалеку от пирса в старой цистерне, на девять десятых вкопанной в землю и скрытой всяким хламом, он наткнулся на тайник с оружием. Ночью Бенедиктов незаметно спустился в заброшенную цистерну. Там, в самом конце, лежали в ящике, прикрытые камнями и досками, две винтовки, автомат, три или четыре пистолета, пачки патронов и кинжалы… Бенедиктов оставил все на месте, ни к чему не притронувшись, а через несколько дней в густых сумерках к цистерне крадучись подошел со свертком в руках, как бы по нужде, Устин Кокарев, слесарь того же цеха, где работал Нефедов. Когда Кокарев выбрался наружу, свертка не было… Из личного дела Бенедиктов выяснил, что в прошлом Устин Кокарев трижды отбывал сроки за квартирные кражи. Установил и его тесное знакомство с Нефедовым.
В особом отделе флота решили Нефедова, Кокарева и причастного к ним Фабрина, плановика из заводоуправления, пока не трогать. Важно было узнать их намерения и – самое существенное – с кем они связаны еще. Каждый раз Бенедиктов докладывал Дранишникову обо всем, что ему удавалось выяснить.
– У меня есть сведения, что Нефедов кого-то ждет, – сказал Бенедиктов, с усилием разлепляя веки. – Поэтому теперь он каждый день ходит домой ночевать, на заводе не остается. Кто-то должен прийти из-за линии фронта.
– Прекрасно, значит, связь намечается, как мы и предполагали. – Дранишников посмотрел на освещенное лампой землистое лицо капитан-лейтенанта. – Адресок-то у него какой?
– Малая Подьяческая, семь, восемьдесят восьмая квартира. Визит, по-видимому, имеет какое-то значение, потому что Нефедов сказал: «Хватит выжидать, скоро перейдем к активным действиям…»
– Всеволод Дмитриевич, – Дранишников откинулся на спинку стула, положил на стол кулаки, – глаз с него не спускать. Будьте готовы к любой провокации, вы за него в ответе. (Бенедиктов хотел попросить людей, но Дранишников словно прочитал его мысли.) И справляйтесь своими силами. Откуда оружие в тайнике, выяснили?
– С прибывающих на ремонт судов – оружие убитых и тяжелораненых.
– Надо перекрыть эту лазейку, напрочь. Навести строжайший учет оружия личного состава.
– Уже перекрыта, – сказал Бенедиктов глухим голосом. Он почувствовал, как кровь устремилась к голове и забилась, зазвенела в сосудах; похолодели и стали мокрыми пальцы, часто забилось сердце – не хватало воздуха…
– Надеюсь, вы сделали это аккуратно? Все должно выглядеть вполне естественно и не вызвать подозрений об обнаружении тайника. Сейчас особенно важно не спугнуть…
Последние слова Дранишникова сошли на нет, как звуки постепенно выключаемого приемника, и сам батальонный комиссар вдруг отдалился в непонятной дымке и пропал… Потом Бенедиктову почудилось какое-то движение, суета, мелькнуло что-то белое и запахи – резкие, напоминающие что-то запахи…
Дранишников сидел за столом, писал. Сквозь подрагивающие ресницы Бенедиктов увидел его сосредоточенное лицо, свежее, чисто выбритое, – тонкие губы поджаты, чуть навыкате глаза под широкими бровями опущены… Почему светло? Почему здесь батальонный комиссар? Что произошло? Вспомнил слова Дранишникова о важности не спугнуть. Кого? Нефедова? Конечно, Нефедова. И – обрыв… Неужели обморок, черт побери? Стало жарко, будто бросили в ванну с горячей водой.
Сдержанность в общении с людьми, замкнутость, внутренняя сила Дранишникова вызывали у Бенедиктова не только уважение, но и трепет. Меньше всего ему хотелось выглядеть смешным, неумелым, немощным перед батальонным комиссаром, и вот тебе раз… Именно при нем… «Слабак, тюхтя, как барышня…» – ругал себя Бенедиктов, сомкнув веки и желая, чтобы Дранишников вышел из кабинета хотя бы на несколько минут, – встреча на ногах, в застегнутом кителе, казалось ему, могла бы в какой-то мере сгладить конфуз. Но Дранишников не собирался выходить. Бенедиктов пошевелился.
– Лежите, лежите, – сказал батальонный комиссар, не поднимая головы и продолжая писать. – Вам требуются покой и отдых.
Бенедиктов встал с дивана, покосился на стул – на нем валялись пустая ампула с отбитой головкой и высохший, сдавленный чьими-то пальцами комок ваты.
– Товарищ батальонный комиссар, я совершенно здоров, – все еще чувствуя неловкость, твердо проговорил он.
Отложив перо, Дранишников поднялся, сказал не то с упреком, не то с сожалением:
– Вы не соизмеряете свои силы, Всеволод Дмитриевич. – Выложил два куска пиленого сахара: – Вам лично. Съешьте при мне, считайте, что лекарство… Кстати, я хотел вас спросить: как вы распоряжаетесь своим довольствием? – Заметив вспыхнувшее лицо Бенедиктова, не дал ответить: – Вы вправе сказать, что не мое дело. Справедливо. Не мое… Сейчас, – Дранишников подчеркнул голосом, – это дело государственное. Вопрос поставлен круто: быть или не быть Ленинграду, и не только Ленинграду. Армия обязана оставаться боеспособной, что бы ни происходило. Постановка вопроса, сознаю, жестока, но иного выхода нет… Надеюсь, вы не обиделись на мои слова? Поверьте, произносить их тоже нелегко.
Дранишников раскурил трубку, но тут же пригасил, придавливая махорку большим пальцем; Бенедиктов, задетый словами батальонного комиссара, промолчал.
– Я не успел вчера сказать, – начал он спокойно, – что, по тем же сведениям, Гертруда, жена Нефедова, на днях посетила свою старую знакомую по имени Марта. Фамилию и где она проживает пока установить не удалось. Цель ее визита тоже неясна.
– Это особый и весьма серьезный вопрос, – сказал Дранишников. – Мы к нему вернемся отдельно, а сейчас давайте о Лукинском.
Бенедиктов детально изложил все, что ему стало известно за минувшие двое суток, не утаил неудачу с инвалидом. Она была тем более неприятна, что, по наведенным справкам, Бенедиктов дополнительно установил: в течение трех последних лет никто из старшин команды трюмных машинистов с «Кирова» на «Октябрьскую революцию» не переводился, а с «Октябрьской революции» списан не был. Дранишников молча слушал; выпуклые глаза его были столь выразительны, что Бенедиктов чувствовал по ним, как по стрелке прибора, с чем батальонный комиссар согласен, в чем сомневается или расходится в оценке.
– Экспертиза полностью подтвердила убеждение, которое возникло у меня с самого начала: Лукинский убит, – подытожил Бенедиктов. – Анализ его дневниковых записей и другие данные позволяют утверждать его полную непричастность к любому виду пособничества врагу. Он – жертва, а не соучастник. Полагаю, что убийство совершено с целью добыть расчеты Лукинского паровых турбин для атомных подводных лодок. Расчеты убийца перефотографировал – экспертиза установила: серые крупинки – не что иное, как остатки сгоревшего магния. Лукинский фотографией не занимался, аппаратуры для съемок в квартире я не нашел. Теперь о ракетах. Очевидно, они принесены и после выстрелов сознательно оставлены в квартире убийцей. В данном случае они играют отвлекающую роль с целью запутать следствие и бросить тень на Лукинского. Если придерживаться этой версии, то пистолет также находился у убийцы. Номер «ТТ» оказался стертым, но все же удалось его восстановить – 938611. А вот справка начальника склада боепитания воинской части 0837.
Бенедиктов подвинул синий листок с жирной, прошедшей насквозь печатью. Дранишников пробежал глазами нацарапанные наспех строчки:
«Пистолет «ТТ» номер 938611 закреплен за старшим лейтенантом Вахрамеевым В. Т., выбывшим из части 26 ноября 1941 г. в госпиталь…»
– Таким образом, появляется возможность проследить путь оружия к убийце…
– Шансов тут немного, – проговорил Дранишников, потирая лоб, – прошел почти месяц. Но не использовать эту возможность было бы неразумно. Заметьте немаловажную деталь: номер стерт. Если оружие проходит множество рук, то маскировка его не так уж важна. Поэтому в данном случае путь «ТТ» может быть довольно коротким… – Вынул план города и, отстранив бумаги, разложил перед собой. – Хочу обратить ваше внимание: ракетные гильзы, обнаруженные на старом катере у Двенадцатой линии, возле Горного института и в квартире Лукинского, – колпачком ручки обвел места, – одного производства – завода в Фрейбурге.
– Значит, убийца инженера и сигнальщик – либо тот же самый человек, либо одна группа…
– Вот то-то и оно… И район… Очень их интересует этот район… Ракетчика надо брать живым. Это первоочередная задача. Как ваши комсомольцы, можно на них рассчитывать?
– Вполне. Ребята отобраны надежные. Сил, правда, у них маловато, зато боевые.
– С инвалидом вы поторопились и, главное, – рисковали. Обстановка не требовала риска, вы же начали преследование, совершенно не имея представления, кто этот человек. Известные нам теперь факты дают более реальную возможность предположить, что именно он является разыскиваемым нами лицом. В таком случае, представляете, если бы он обнаружил вашу заинтересованность в нем? Могло рухнуть все.



