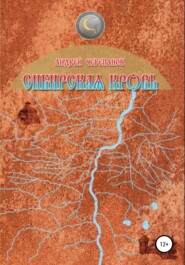 Полная версия
Полная версияСибирская кровь
Мирон Башковский, как и его брат, также поначалу грозил мятежникам, обещая «город выжечь и вырубить», и его угрозы также подлили масла в огонь: стали подвергаться грабежам и поджогам дома воеводских сторонников. В ноябре 1695 года воевода вынужден был запереться со своим окружением в полсотни человек в малом городе (крепости), где пробыл в осаде почти десять месяцев.
В том же ноябре «народная дума» избрала семь новых судей, включая атамана Михаила Злобина[487], причем он стал среди них по должности старшим, кемто типа нынешнего главы администрации области или города. Как следует из документов того времени, судьи «делали всякие государевы дела», все то, что полагалось делать воеводе. В том числе собирали ясак, оброк, таможенные сборы. Как считает Оглоблин, «город и уезд добровольно и без всяких замешательств подчинились красноярским судьям и стали легко забывать порядки воеводского управления».
Сам же воевода, несмотря на объявление ему отказа от воеводства, свою власть отдавать совсем не хотел ни «народной думе», ни прибывшему в Красноярск дворянину Федору Степановичу Тутолмину, которого тобольский воевода направил, по распоряжению Сибирского приказа, временно исполнять обязанности красноярского воеводы. Когда Тутолмин сообщил Мирону Башковскому о своем назначении и потребовал сдачи воеводства, то Мирон «в малой город его не пустил и печать и казны и дел не отдал». Тутолмин поселился под Красноярском, откуда пробовал договориться с выборными судьями выжить Мирона из малого города и самому усесться на его место. Он даже посоветовал красноярцам «морить голодною смертию осадных сидельцев». Те сначала согласились, в течение трех дней не подпуская к крепости жен осажденных с хлебом и другими припасами, но потом бросили эту меру, и Федор Тутолмин перестал вмешиваться в дела города, занялся «винным куреньем», приглашая к себе на пиры выборных судей.
В августе 1696 года в Красноярск прибыл новый назначенный царем воевода – стольник Семен Иванович Дурново (в те времена его фамилия записывалась как Дурной)[488], которому было поручено произвести розыск и о злоупотреблениях братьев Башковских, и о «шатости». Подчиняясь царской воле и в надежде на справедливое расследование, большинство красноярских «народников» во главе с Михаилом Злобиным изменили «мирскому делу» и перешли под власть этого воеводы.
Но надежда оказалась напрасной. Вскоре в Москву пошли одна за одной челобитные с жалобами на Дурново из-за гонений противников Алексея и Мирона Башковских. Узнав имена челобитчиков, Дурново начал недовольных «изгонять и разорять пуще прежняго», велел ссыльным людям, с которыми вступил в союз подобно Башковским, челобитчиков хватать и бить батогами до полусмерти, «в тюрьму и за караулы безвинно сажать, и в оковы ножные и в ручные железа назад руки заковывать, и мучить». Бил он челобитчиков и собственноручно, а вместе со своими помощниками «многих людей переувечил – головы испроломил палками». Некоторые из недовольных были отправлены Дурново в Енисейск, где местный воевода Михаил Игнатьевич Римской-Корсаков посадил их в тюрьму и «морил томною голодною смертью». Ничуть не брезговал Семен Дурново и взяточничеством, вымогая десятки рублей жалования у посылаемых на годовую службу в остроги казаков.
Конечно же, защищаясь от множества обвинений, воевода давал свою версию событий, утверждал, что настроил красноярцев против себя тем, что служит «великому Государю радетельно» и ищет ему «во всех сборах прибыли», а злоупотребления служилых людей преследует. Однако ни одного конкретного факта «злоупотребления», кроме широко практиковавшегося в Сибири даже среди воевод «воровского» винокурения, он привести не смог.
Недовольство воеводой красноярцев неуклонно нарастало, зрел очередной бунт во главе как с некоторыми из прежних деятелей «шатости» (в том числе Дмитрием Тюменцовым и его братом, атаманом пеших казаков Аникой), так и из молодых служилых людей, включая Ивана Злобина – сына Михаила. Рассматривались идеи еще одного «народного» отказа воеводе-«беспредельщику» и даже покушения на него. И хотя заговорщики действовали тайно, Дурново что-то предчувствовал, отчего готовился к осаде в том же малом городе, свозил туда орудия, мушкеты, пищали, ядра, порох и свинец. Как пишет Оглоблин, «Большую ломовую пушку, находившуюся в городской Алексеевской башне, воевода взял настоящею вылазкою из малого города: отряд ссыльных людей под командою Ф. Шарыгина напал на караул у пушки, и у караульщиков отбили (пушку) ночью, воровски, и утащили в малый город». Тем самым постепенно обезоруживался большой город.
В самом начале января 1697 года, вероятно, из-за опасения жестких репрессий против себя, к Дурново явились два главных руководителя предыдущего бунта – выборные судьи Михаил Злобин и Трофим Еремеев – и подали ему «изветы» о замыслах красноярцев отказать воеводе и «избить осадных людей». Все выданные были немедленно арестованы. Большинство ничего не открыли воеводе и никого из товарищей не выдали, но Конон Самсонов, старый «вор и бунтовщик», против которого было слишком много улик, показал, что в доме у Петра Сурикова собиралась «дума» служилых людей. Там были Злобины, Еремеевы и другие. И, мол, они, а преимущественно – Михаил Злобин с сыновьями Иваном и Данилой, подговаривали избить осадных людей – «вырубить всех».
В ходе последующего следствия молодежь «запиралась» во всем, а старики уличали друг друга, спасая себя. Иван Злобин и около тридцати его товарищей «посажены были за караул», а их отцы и старшие братья остались на свободе, представляясь или действительно состоя воеводскими сторонниками. С произведенными арестами движение против воеводы почти затихло, но скрытое озлобление к Дурново продолжало нарастать и все шире распространяться.
В мае 1697 года, разбив кандалы, Иван Злобин с товарищами сумели бежать, и наверняка помогли им в том сами же караульные. Беглецы отсиделись под Енисейском, и через два месяца большая часть из них вернулась в Красноярский уезд и стала «жителей возмущать» к бунту против Дурново. Вскоре движение перешло в Красноярск, и на сей раз Дурново почувствовал себя в малом городе действительно осажденным и боялся выйти из него, не будучи убитым. А вал челобитных, подписанных и русскими, и инородцами, с жалобами на злоупотребления и притеснения со стороны «лихого воеводы» нарастал. В конце концов московский думский дьяк Данило Полянский, проводивший следствие, решился снять Дурново с воеводства и начать о нем розыск. В феврале 1698 года на съезжий двор были призваны красноярские челобитчики, и им объявлен указ: Семена Дурново «из Красноярска взять в Енисейск с женою и с детьми, и с людьми», а город у него принять енисейскому «письменному голове[489]» Степану Самойловичу Лисовскому.
Лисовский, которого красноярцы хорошо знали по его долголетней службе в Енисейске и считали своим сибирским, а не московским служилым человеком, сразу поладил с ними, и «Красноярская шатость» совсем затихла. Однако розыск был явно предвзятым: он проводился в Енисейске, на челобитчиков оказывали такое давление и применяли пытки, что некоторые из них поменяли свои показания на поддержку воеводы, его же обеляли собственные сторонники, а главарей бунта в Енисейске арестовали, отчего они вообще отказались сотрудничать со следствием. В результате Дурново предстал чистым как младенец и на основании полного отсутствия вины попросился вернуть его на должность. И в конце июля 1698 года Полянский объявил: «стольника Семена Иванова сына Дурново отпустить в Красноярск на воеводство по прежнему великаго государя указу и по наказу, каков ему дан на Москве из Сибирскаго приказа».
Дурново приплыл в Красноярск на рассвете во второй день августа 1698 года, сразу же повесил на свою шею красноярскую «государеву печать» и направился в местный собор с требованием отслужить по торжественному случаю молебствие. Весть же о его возвращении вызвала бурю негодования, в большом городе и на площади составился «воровской круг» из более чем трехсот человек. Народная «дума» порешила употребить силу против Дурново, если тот добровольно не оставит города. Около четырех часов дня толпа подошла к бане, где после обеда отдыхал Дурново, и, когда тот вышел, потребовала, чтобы он уезжал, что до воеводства его не допустят. Но после взаимных упреков Дурново, сославшись на потребность исполнения государева указа, ушел обратно в «мыльню», развалился там на постели. И тогда несколько бунтовщиков его «сдернули за ногу, и били под бока, и за волосы драли», затем скатили с лестницы и повели к собору, где находились остальные красноярцы. Потолковав у собора, «думцы» почти единогласно решили прибегнуть к старинному приему – Дурново «посадить в воду», иным словом – утопить. И потащили его за волосы к Енисею. Однако топить не стали – его спасли уговоры и самоотверженность Лисовского, бросившегося на защиту воеводы. Дурново затолкнули в лодку, куда тут же залезли несколько его спутников, и оттолкнули ее прочь от берега. Но пока та лодка была еще в досягаемости, люди из толпы забрасывали ее камнями.
Плавание Дурново до Енисейска прошло для него благополучно, и он уже пятого августа давал показания Полянскому, пораженному явным бунтом красноярцев. Не желая сознаться, что те прогнали воеводу за его тяжелые грехи перед ними, Дурново сделал попытку взвалить вину за свое изгнания на собственного спасителя. Мол, будто Лисовский не хотел отдавать воеводства и натравил «воровских людей». Но зато Дурново перестал добиваться новой посылки на воеводство и поспешил уехать в Москву под предлогом болезни. Исполнять обязанности воеводы было поручено московскому дворянину Якову Афанасьевичу Бейтону, и Лисовский сумел смирить красноярцев, подчинить их новому воеводе.
Правда те еще поиздевались над Данило Полянским и вторым следователем дьяком Данило Берестовым, не пуская их целых пять дней в город для продолжения сыска. Но дьяки надолго в Красноярске не задержались – их розыскная деятельность была прекращена из-за возбужденных против самого Полянского обвинений в злоупотреблениях.
А в Красноярский острог в 1700 году прислали из Москвы новых воевод, и это были Петр Саввич и его сын Федор Петрович Мусины-Пушкины, которые провоеводствовали в Красноярске много лет и добились обвинения «во многих неправдах» прежних воевод. Мол, среди красноярских служилых людей виновных не обнаружено, «опричь ссыльных воров и которые, запершись в малом городе, были с воеводами, ничьей измены и никакого бунта кроме того, что они, красноярцы, без великого государя указу, Алексею и Мирону Башковским от воеводства отказали… не явилось».
Но в целом расследование дела о «Красноярской шатости» тянулось аж до 1708 года. По одним источникам, часть служилых людей Красноярского острога пытали, в том числе в московском Тайном приказе, и выслали в другие остроги. По другим, сослали в Иркутск на семь лет лишь уличенных в злодеяниях бывших воевод Алексея, Мирона Башковских и Семена Дурново.
Был ли как-то вовлечен в события «Красноярской шатости» мой восьмижды прадед Пров Злобин, не приходился ли он одним из сыновей красноярского атамана Михаила Дементьевича Злобина, остается пока загадкой.
Зубовы. Стрелецкая история
Согласно сказкам третьей ревизии, Анна, дочь казака Илимского города Ивана Зубова, была рождена в 1680 году и вышла замуж за илимского подьяка Степана Трофимовича Падерина. Анна Ивановна по двум линиям – через свою дочь Анастасию, а затем и сына Андрея – стала моей семижды прабабушкой.
В изученных именных, окладных, доходных и расходных книгах Илимска второй половины XVII века – первого десятилетия XVIII века мне попадалось упоминание только одного Ивана Зубова. Он – подьячий, сын другого подьячего Бориса Григорьевича Зубова. У того Бориса имелось еще два сына – Андрей и Семен, числившиеся в Илимском остроге в 1700 году соответственно казачьим пятидесятником и сыном боярским. А отцом Бориса Григорьевича был, по всей вероятности, служилый человек Гришка Зубов, которого илимский воевода Богдан Оладьин еще до 1653 года направлял вместе с другими людьми на заставу к Чечюйскому волоку273.
Вплоть до 1696 года, а может и в долгий последующий период, был «Иван Борисов сын Зубов бездетен» и считался молодым сотрудником приказной избы. Понятно, что он не являлся отцом Анны Ивановны, родившей в 1709 году собственную дочь. К тому же тот Иван Зубов – не казак, а потомственный чиновник (его отец занимал должность подьячего еще в 1665 году, подписывая челобитную о даче из патриаршего двора благословенной памяти на строительство Киренского Троицкого монастыря)274.
Однако выяснилось, что к концу 1670-х годов, а точнее 24 сентября 1676 года в Илимском остроге появился еще один Иван Зубов, причем казак. Только вот имя его в местные финансовые документы не попадало и не должно было попадать. Потому что не по чину, ведь Иван Дмитриевич Зубов оказался не простым казаком и даже не сыном боярским, а илимским воеводой, под властью которого был обширнейший регион Сибири, включая верхнеленский бассейн.
Иван Дмитриевич Зубов пришел на место прежнего воеводы Силы Осиповича Аничкова, успешно правившего без малого десятилетие: Аничков расширил Илимский острог на более удобном месте, вел энергичные и благотворные поиски новых земель для поселения крестьян в верховьях Лены. Сам же Зубов пробыл на воеводской должности меньше трех лет, до 21 июня 1679 года, и, вроде, ничем себя не прославил. Его сменил Иван Петрович Гагарин, прежде – царский стряпчий и стольник, впоследствии – иркутский и якутский воевода275, и о нем историками много чего написано (он, в частности, возвращал из ссылки безвинно осужденных по якутскому «бунту» 1690 года казаков, включая семью, полагаю, моего семижды прадеда Филиппа Щербакова, о котором сказано в разделе о Полуектовых).
Но мне-то интересен не Гагарин, а Зубов: откуда прибыл в Илимск, почему и куда так быстро убыл, от него ли произошла моя семижды прабабушка Анна Ивановна Зубова, а если от него, то кто по происхождению он сам? И о том, что я узнал, расскажу подробно.
Было понятно сразу, что Иван Дмитриевич Зубов знатного происхождения, ведь илимский воевода – это как сегодня областной губернатор. Он назначался и освобождался от должности по воле царя, был дворянином. И вот что поведано о нем в «Российской родословной книге, издаваемой князем Петром Долгоруковым» в 1850-х годах276: Зубов Иван Дмитриевич был воеводой в Илимске с 1677 года, потом – стольником, его отец Дмитрий Иванович погиб в 1634 году при осаде Смоленска, а брат Клементий Дмитриевич – в 1659 году под Конотопом[490], дочь Евдокия вышла замуж за Ивана Ивановича Колычева. А первым из известных его предков был живший в середине XV века Иван Андреевич Зубов[491]. От него пошли сын Иван, внук Никита Ширяй, правнук Лукьян и дважды правнук Иван. И этот дважды правнук, он же дед илимского Ивана Дмитриевича, присутствовал в 1602 году вместе со своим родным братом Кузьмой и тремя двоюродными братьями в историческом событии в составе многочисленной свиты дворян: та свита принимала датского принца Густава, который приезжал в Москву свататься к дочери Бориса Годунова царице Ксении.
Интересно, что все эти сведения приведены в вышеуказанной книге среди российских фамилий, имеющих иностранные почетные титулы. Все потому, что германский император Франц II произвел в 1793 году представителя фамилии Зубовых, сенатора Александра Николаевича[492] в «Графское Римской Империи достоинство», а в 1796 году его сына Платона Александровича – в «достоинство Святлейшего Князя Римской Империи». Тот же Платон Александрович впоследствии получил звание генерала от инфантерии, старший брат его – граф Николай Александрович был зятем Александра Суворова и находился шталмейстером[493] при российских императорах Екатерине II и Павле I, а младший Валериан стал генерал-майором в двадцать три года, «на двадцать пятом году от рождения, предводительствуя на Кавказе российской армией, направленной на защиту Грузии от персиян, он взял Дербент, пожалован был генерал-аншефом и получил Георгиевскую звезду». Другие же представители рода Зубовых были воеводами в Астрахани, Березове, Вологде и Туринске.
Затем я занялся выяснением годов жизни воеводы Ивана Дмитриевича Зубова и его отца. И первым делом – датой гибели Дмитрия Ивановича в смоленской осаде, ведь в книгу князя Долгорукова явно вкралась ошибка – в 1634 году он в осаде погибнуть никак не мог: тогда шли переговоры, боев за город не было[494]. И эта ошибка, как следует из работы дореволюционного смоленского краеведа Ивана Орловского, ровно в два десятилетия.

С.И. Иванов. Стрельцы
Им же подробно излагаются события, произошедшие через двести пятьдесят лет после взятия Смоленска литовским князем Витовтом с содействием его двоюродного брата короля польского Ягайло (лето 1404 года) и приведшие, наконец, к тому, что город «был навсегда отобран у Литвы царем Алексеем Михайловичем». В работе имеется ссылка на «Дворцовые разряды»[495] с таким описанием штурма в августе 1654 года: «против 16-го числа, в ночи был приступ к городу Смоленску. … указал государь быть и приступать к Днепровым воротам и к Наугольной башне голове стрелецкому Артамону Матвееву с приказом. К Пятницким воротам стольник и воевода Иван Богданов Милославский, а с ним дворяне Гаврило да Михайло Федоровы дети Самарины. К Королевскому пролому приступал голова стрелецкой Дмитрий Иванов сын Зубов, и голову стрелецкого Дмитрия Зубова на приступе убили».
И далее, со ссылкой на показания перед польским Сеймом представителя вражеской стороны – руководителя обороны Смоленска от русских Филиппа Обуховича: «во втором часу по полуночи, давши сигнал из трех гортонов, неприятель ударил со всех сторон на крепость и приставивши широкие лестницы, полез по ним на стены. Таких лестниц насчитывали до четырех тысяч. Сначала москвитяне вскочили на Большой вал (Королевскую крепость), но здесь их быстро отразили, положивши несколько сот человек и самого их полковника (Зубова)»278.
Удалось мне узнать также, кем еще побывал Иван Дмитриевич Зубов и примерно когда умер. Помогла в том запись о бракосочетании его дочери. На одном из интернет-порталов нашлась информация о том, что «… землей в наших краях владели и стольник Лукьян Петрович Воейков, и стольник Иван Дмитриевич Зубов, и многие-многие другие. Вот архивные данные за 1686 год: жена стольника и головы московских стрельцов Ивана Дмитриевича Зубова, вдова Марья, выдала дочь свою Авдотью за Ивана Ивановича Колычева и дала ему в приданное 7 дворов и 24 четверти в Диком поле, на реке Зуша в Чернском уезде»279. Так ведь Авдотья – это просторечная форма имени Евдокии, о которой написано в книге князя Долгорукова, и умершим к 1686 году мужем Марии, конечно же, был илимский воевода!280 И, значит, он когда-то возглавлял московских стрельцов.
Действительно, множество источников свидетельствует о том, что был стрелецкий полк Зубова, охранявший в XVII веке Чертольские (Пречистенские) ворота Москвы. И жили стрельцы числом от пятисот до тысячи человек в поселении, обособленном от других улиц Москвы. Фамилия полковника Ивана Зубова закрепилась в бытовом названии того поселения – Зубово, а затем оно перешло в имена Зубовского бульвара и Зубовской площади. Аналогичное закрепление фамилии главы соседнего полка стрельцов – Левшина – за Большим и Малым Левшинскими переулками281.
Вот только полковником, давшим имя площади и бульвару в Москве, был не Иван Дмитриевич Зубов, а его дед – Иван Лукьянович, и он отличился 22 августа 1612 года в сражении у Чертольских ворот с войском под командованием гетмана Яна Ходкевича, что шел на помощь засевшим в Кремле полякам. Атака поляков была отбита, и они отступили на Поклонную гору. Прежде же Иван Лукьянович возглавлял полк стрельцов в Смоленске, был там в первые годы XVII века выборным дворянином282 и наверняка в 1609–1611 годах участвовал в обороне города от польско-литовских войск короля Сигизмунда III[496]. Вполне вероятно, в том же городе у Ивана Лукьяновича Зубова родился сын Дмитрий, погибший в 1654 году при его освобождении.
Точные годы жизни старшего Ивана Зубова остались мне неизвестными, но, утверждается, что похоронен он был по заведенному для московских стрельцов порядку вблизи нынешней Зубовской площади, на погосте у Храма успения Пресвятой Богородицы на Могильцах, что на Большом Власьевском переулке283. А командование стрелецким полком перешло от Ивана Лукьяновича Зубова сначала к его сыну, затем – к внуку[497].
Пролистав все пять книг «Дворцовых разрядов», я узнал еще о нескольких эпизодах жизни Дмитрия Ивановича и Ивана Дмитриевича Зубовых. Первый из них служил воеводой в Верхотурье, Темникове, Переславле-Рязанском и Белом городе (записи от 1620, 1622, 1625, 1636 и 1643 годов), по государеву распоряжению, входил в свиту князя Дмитрия Пожарского, когда царь Михаил Федорович отправлялся в поход в Сергиево-Троицкий монастырь (1624 год), присутствовал на приеме Московским царем кызылбашского посла (1625 год). Второй – участвовал вместе с князем Петром Долгоруким в крестном ходе «к знамению пресвятые Богородицы» (1666 год) и направлялся царем вместе с воеводой боярином Петром Шеметевым в Севск «против крымского царя» (1662 год)284.
Но нигде не обнаружилось информации о судьбе бывшего воеводы Ивана Зубова после его возвращения в 1679 году из Илимска, если такое возвращение вообще состоялось. Удивительно и то, что у князя Долгорукова ничего не говорится о сыновьях Ивана Дмитриевича Зубова, и в целом мужская линия его отца – дворянина, имевшего четверых детей, как будто продолжилась лишь Клементием Дмитриевичем, да и то не далее двух представителей следующего колена.
Может, они попали в опалу, скажем, из-за участия бывшего илимского воеводы в бунте московских стрельцов 1682 года? Не о нем ли написано в работе Алексея Ракитина «Отечественная пыточная традиция в вопросах и ответах» как о «неком Иване Зубове», который получил во время допроса с пристрастием пятьдесят два удара кнутом, но выжил[498]? Я напомню, что в результате стрелецкого бунта 1682 года (его историческое название – Хованщина) было убито несколько царедворцев, соправителем десятилетнего царя Петра Алексеевича стал его старший брат Иван, а фактической главой Руси – их сестра Софья. После бунта был казнен глава Стрелецкого приказа Иван Хованский с сыном Андреем, другой его сын – Петр – сослан в Сибирь.
Как бы то ни было, но, судя по замужеству Евдокии Ивановны Зубовой в 1686 году, родилась она наверняка в 1660-х. Значит, можно предполагать появление на свет ее отца Ивана Дмитриевича Зубова на двадцать-сорок лет раньше, а с тем и вероятность того, он мог быть также отцом родившейся в 1680 году Анны, ставшей женой илимского подьячего Степана Падерина.
Между тем у меня в такой версии остаются немалые сомнения. И они в том, что совсем не ясен мотив, по которому дочь вернувшегося в Москву воеводы могла бы выйти замуж за чиновника средней руки из далекого Илимска. Или она рождена вне брака? На решение о ее замужестве повлияла старая дружба Ивана Зубова с родителями Степана Падерина? Иван Зубов после 1682 года был сослан в Сибирь? Вдовствующая Мария Зубова обнищала и не имела приданного для знатного замужества младшей дочери? Что-то еще?
Зуевы
Анастасия, вышедшая замуж в 1782 году за крестьянина Петра Филипповича Скорнякова из Исетского селения и ставшая моей пятижды прабабушкой, родилась в 1767 году в семье бирюльского крестьянина Ивана Амосовича Зуева[499]. А внук его брата Алексея Амосовича крестьянин Никифор Васильевич Зуев из Большеголовского селения был отцом Агафии, моей трижды прабабушки. Эта Агафия появилась на свет в 1815 году и стала в 1835 году женой крестьянина Василия Савельевича Савинова из Челпановской деревни.
Первое упоминание о Зуевых на бирюльской пашне я заметил в «Переписной книге Илимской слободы о сборе хлеба, и сколько они имеют пашенной земли и сенных покосов» от 7207 (1699) года. В ней сказано, что от деревни Федора Куржумова (она располагалась на полверсты выше устья реки Анги) «пять верст вверх по Лене на левой стороне пустая порожняя пашенная земля и сенные покосы лежали впусте, а прежде сего пахали тое пашню Бирюльской слободы крестьяне Ивашка Синков, Якимка Черкашенин. И по разбору воевода Федор Родионович Качанов покинутая порожнюя пашня и сенные покосы отданы на оброк бирюльским пашенным крестьянам Пронке Зуеву, Ивашке Черкашенину, Гришке Федорову. Велено им с тое пашни отсыпным хлебом оброку платить с 210 году всем ввопчем двенадцать чет ржи на год … и в том оброчном хлебе в платеже взята по них поручная запись». Те же Зуев и Черкашенин приведены в окладных книгах 1706 и 1707 годов, но уже с отчествами – «Иван Данилов черкашенин, Прокопей Тимофеев Зуев» (интересно, что в той же книге, да и часто прежде Прокопий Тимофеевич также записывался как «сын Голово», или «Голой»). В 1705 году они «по святой евангельской заповеди господни сказали: рыбная ловля от их заимки вверх на полторы версты по обе стороны Лены реки есть, в разрыв, местами, а не сповал, малые притоны. Поперешнику той рыбной ловли, где притоны, на семнадцать сажен. Ловят они в два невода десятьюсаженными, про себя, а не на продажу, з женами своими»286.



