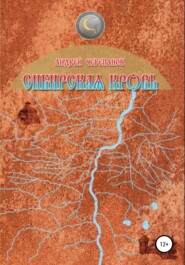 Полная версия
Полная версияСибирская кровь
В «Списке жителей Илимского уезда в 1744 году по сравнению с переписью 1719–1723 годов» все Воробьевы были еще в деревнях с полностью идентичными именами – Воробьевыми. По тому списку в 1744 году в одном из них семейство Воробьевых возглавлялось Павлом, во втором – Саввой и Семеном (они, как и Павел, – Михайловичи, сыновья Михаила Дмитриевича Воробьева)249, в третьем – Марком. В последней из перечисленных деревень тогда жил также крестьянин Федор Воробьев с малолетним сыном Иваном (они около 1699 и 1734 годов рождения), и у Воробьевых не было других Иванов с возрастом, подходящим для рождения у них дочери, которая могла бы выйти в 1786 год замуж. Значит, те Иван и Федор – и есть мои предки.
В третьей ревизской сказке деревни Воробьевой утверждается, что Федор – брат Марка. А если сравнить перечень соседей-крестьян Марка и Федора по вышеуказанному «Списку» с такими же перечнями из «Переписной книги Илимской слободы о сборе хлеба, и сколько они имеют пашенной земли и сенных покосов» за 7207 (1699) год и «Книги имянной пашенным крестьянам» 1700 года, то становится понятным, что в их деревне прежде главенствовал Иван Михайлович Воробьев250. Уже из этого вытекает наиболее подходящая версия, что Марк и Федор – сыновья того Ивана. И такая версия отлично подтверждается сказкой первой илимской ревизии: в ней дано отчество Марка Воробьева – Иванович. В той же сказке приведена его шестидесятилетняя мать Авдотья251.
Отсюда следует, что Дмитрий, отец основоположника верхнеленской династии Воробьевых – промышленника, а затем тутурского крестьянина Михаила Дмитриевича Воробьева, – мой десятижды прадед.
Высоких, они же – Высоковы
Две родные сестры, дочери крестьянина Василия Высоких из Качинской деревни, стали моими семижды прабабушками. Старшая из них – Параскева, или Прасковья (она по одной из линий еще и моя шестижды прабабушка) – родилась в 1724 году, была замужем за верхоленским казаком Иваном Тимофеевичем Большедворским и умерла в 1801 году. Младшая – Стефанида, или Степанида, – родилась в 1726 году, была женой качинского крестьянина Якова Дмитриевича Силина и ушла из жизни в 1800 году.
Из вторых и третьих ревизских сказок по бирюльскому ведомству я установил, что Василий и его брат Алексей Высоких умерли в период между первой и второй ревизиями, и у Василия остались два сына с их семьями и четыре вышедшие замуж дочери, включая Параскеву со Стефанидой252. Больше никакой информации о происхождении качинских Высоких из материалов тех ревизий найти не удалось. Зато кое-какие зацепки появились при изучении документов илимской ревизии. В «Списке жителей Илимского уезда в 1744 году по сравнению с переписью 1719–1723 годов» крестьяне под фамилией Высоких приведены в двух деревнях – Высокова и Орлова253. И в той, и в другой в первую ревизию были Василии, но они рождены в 1706 и 1713 годах, а старший же из детей «моего» качинского Василия – Афанасий – появился на свет в 1714 году. Значит, тот Василий не мог родиться позже 1690-х годов.
В деревне Орлова самым старшим из Высоких оказался в 1744 году Иван, рожденный в 1706 году, и он уж точно не был предком «моего» Василия. А вот в деревне Высокова главой всего семейства на дату проведения первой ревизии назван Яков, 1639 года рождения. Он умер в 1733 году, не дотянув до своего векового юбилея лишь шесть лет. Перечисленные в «Списке» его четыре сына – Алексей, Исак, Петр и Семен – появились на свет в 1680-х – начале 1700-х годов, когда их отцу было более сорока лет[473]. Надо думать, что эти сыновья от его второго брака, а прежние, уже взрослые и заведшие собственные семьи, могли не направляться к новому месту жительства Якова Высоких.
На этом новом месте он сам обосновался незадолго до наступления XVIII века, ведь его упоминания в изученных мною переписных книгах не было вплоть до 1685 года, когда он появился как «Якунька Григорьев», а в 1700 году – как усть-кутский крестьянин «Якушка Григорьев сын Высоков». А прежде – еще до 1661 года – в деревне Высоковой[474] поселился его брат «Гурька Григорьев сын сысолетин», и у него был единственный сын Федор, около 1669 года рождения255.
Фамилия Высоких, которых часто именовали также Высоковыми, не столь распространена, чтобы пренебрегать версией родства между ее носителями усть-кутским крестьянином Яковом Григорьевичем и качинским крестьянином Василием. К тому же рожден Василий, скорее всего, как раз в середине периода, в котором рождались уже ставшие известными четыре сына Якова. И переехать на пашню в другую деревню он мог еще до первой ревизии из-за перенаселенности Высокова, как то же самое сделал, но после первой ревизии Петр Яковлевич, его младший брат (о том стоит отметка в илимском «Списке»), и до первой ревизии уже упомянутый брат Алексей.
Поэтому стоит полагать, что «мой» Василий – тоже сын Якова Григорьевича, и тогда Григорий Высоких – по разным линиям мой девятижды и десятижды прадед.
Главинские
Рожденная в 1792 году Феврония, дочь верхоленского крестьянина Никиты Терентьевича Главинского, в 1809 году вышла замуж за крестьянского сына Илью Семеновича Шеметова и стала моей четырежды прабабушкой. Умерла она в 1860 году.
Из ревизских сказок Верхоленского острога следует, что в середине XVIII века в остроге была лишь одна семья Главинских во главе с Иваном Васильевичем, дедом Никиты. А прадедом Никиты был умерший после первой ревизии Василий Главинский, мой восьмижды прадед. О нем в «Сметном списке Иркутского уезда и его острогов» 1701 года говорится как о верхоленском сыне боярском, что предполагает его казачье прошлое и, вероятно, прославленных предков. И в подтверждение того детьми боярскими под фамилией Главинские также были в 1693 году в Верхоленске Иван Андреевич, в Илимске в 1723 году – Алексей (вероятно, он же через десять лет состоял приказчиком Братского острога), в Иркутске в 1762 году – судя по всему, его сын Андрей Алексеевич256.
Наверняка все они родственники, а верхоленские дети боярские Иван Андреевич и Василий – еще и братья или отец с сыном. Но вот имена их предков мне узнать не удалось.
Горбуновы. Сиротская история
В сказках третьей ревизии Криволуцкой слободы женой крестьянина Никиты Протасова названа Елена, рожденная около 1732 года в семье крестьянина Киренской волости Дмитрия Горбунова257. Прежде я ошибочно полагал, что Елена – моя шестижды прабабушка и поэтому подробно занялся историей довольно распространенной в верхнеленских и илимских поселениях фамилии Горбуновых.[475]
Среди многочисленных Горбуновых из второй и третьей илимских ревизских сказок, «Списка жителей Илимского уезда в 1744 году по сравнению с переписью 1719–1723 годов» и переписной книги Чечуйской слободы 1721 года258 нашелся лишь один Дмитрий, и он был сыном Ивана, умершего в 1730 году в приведенном возрасте девяносто пяти лет. Крестьянствовал тот Иван со своим семейством в деревне Салтыковская и имел десять переживших младенчество сыновей. А появились они на свет в диапазоне 1670–1719 годов, и получается, что четверо самых младших его сыновей, включая Дмитрия, родились, когда их отцу шел уже девятый десяток лет. Другие же Горбуновы были тогда крестьянами деревень Алексеевской, Берендиловки и Змеиновой. Судя по переписным книгам самого конца XVII – начала XVIII века, все они происходили (может, только кроме берендиловских) от пашенного крестьянина черкасских кровей «Данилко Иванова сына Горбуна», у которого тоже было десять-одиннадцать переживших младенчество сыновей и тоже, если верить сказкам, с широчайшим разбросом по годам рождения – примерно на период 1635–1690 годов. Крестьянствовали все они изначально в заимке Змеиновой «на Лене реке ниже Усть-Киренского острожка». И вот имена тех сыновей, вошедшие в «Книгу пашенным крестьянам по деревням Илимского уезда» 1699 года: «Микишка, Абрамка, Васка, Онисимка, Осташка, Микитка, Меркушка, Софонка, Коземка, Ивашко» и, по разным данным, Михаил или еще один «Васка». Как мне удалось определить, ко второй ревизии Иван, один из сыновей Даниила Ивановича Горбунова, переместился со своими детьми в деревню Салтыковскую (вполне вероятно, что именно он был в 1690 году «приему хлебу з гумен целовальником Ивашкой Горбуновым»), Кузьма – в Алексеевскую, а в Змеиновой точно остались потомки Даниила Ивановича по линиям Абрама, Анисима, Василия, Меркурия, Никиты, Никифора и, вероятно, Остапа и Софона. Крестьяне же Андрей, Иван и Семен Горбуновы из Берендиловки – скорее всего, сыновья Михаила или еще одного Василия Данииловича. Но мне не удалось узнать, имели ли какие-либо родственные связи с Даниилом Ивановичем Горбуновым крестьянин Тимофей Петрович Горбун, перебравшийся в 1669 году на бирюльскую пашню; Андрей, Григорий, Демид и Федор Горбуновы, переведенные в ту же Бирюльку из Верхоленска в период между первой и второй ревизиями (но они в бирюльских сказках так и не появились), и проживавшие в Бирюльской слободе в XVIII веке Василий, Киприян, Матвей Горбуновы и их потомки259.
Откуда пришел и когда обосновался на ленской пашне Даниил Иванович Горбунов, рассказано у историка-исследователя Георгия Красноштанова. Согласно приведенным им архивным документам, был такой воронежский черкас Мартын Иванов, который вошел в Московское государство через Путивль и жил в Костенках, затем пытался бежать обратно в Запорожье[476] и после поимки доставлен в Усерд, а оттуда – в Москву. И в московской росписи 1641 года он числился «с матерью Офросиньицей. Брат у него Ивашко 12 лет, Данилко 10 лет» (значит, Даниил 1630 или 1631 года рождения). Из столицы Мартын попал на службу стрельцом в Курмыш[477], где и умер. По дороге на поселение в Сибирь умерла в Камгорте[478] и Ефросиния, мать братьев. Даниил с Иваном остались сиротами, но все же добрались до верховьев Лены. В 1653 году Иван бежал на Амур в войско Ерофея Хабарова, а младший Даниил почему-то получил фамилию Горбуновых и в 1656 году пахал «на государя десятину ржи да полдесятины яри»260.
Если все было именно так, несмотря на сомнительную потребность ссылки в Сибирь Ефросинии с детьми – малолетними братьями умершего «изменника», то тогда в 1730 году Ивану, сыну Даниила Ивановича Горбунова, никак не могло исполняться девяносто пять лет, ведь не рожден же он в четырех-или пятилетнем возрасте своего отца. Но если к 1730 году он достиг, скажем, восьмидесяти, тогда куда убедительнее представляется появление у него младших сыновей в 1710-х годах.
Дружинины
Год, когда родилась в семье илгинского крестьянина под фамилией Дружининых моя пятижды прабабушка Татьяна Лазаревна, остался неизвестным, но я узнал, что она в 1786 году стала женой крестьянина Ивана Игнатьевича Новопашенного и прожила в том замужестве совсем недолго, менее пяти лет. Вскоре то ли умер, то ли был взят в рекруты и ее муж, оставив без родителей моего тогда еще малолетнего четырежды прадеда Митрофана Новопашенного.
Имя Лазаря, отца Татьяны, с отчеством Исакович я нашел в исповедной росписи Илгинской Богоявленской церкви 1798 года по крестьянам деревни Тимошинской. Он там около 1734 года рождения во главе семейного домовладения вместе с тремя сыновьями и женой Дарьей Панфиловной, которая младше его на два десятка лет261. Понятно, что она – вторая жена Лазаря, ведь вряд ли отданная взамужество в 1786 году Татьяна могла статься дочерью рожденной около 1755 года Дарьи Панфиловны. В той же деревне тогда было еще шесть семейных домовладений Дружининых и по одному такому домовладению – в рядом расположенных деревнях Ближнезакорской и Нижнеслободской.
С происхождением всех илгинских Дружининых конца XVIII века я с трудом, но разобрался благодаря ревизским сказкам Илимского острога с множеством перечисленных в них имен носителей такой фамилии262. Как оказалось, в деревне Ближнезакорской издавна жили потомки крестьянина Нифонта Исаковича Дружинина, умершего в 1729 году в возрасте ста лет. У его единственного ставшего известным сына Ивана, рожденного в середине 1680-х годов и также дожившего до 1729 года, было несколько собственных сыновей, но к 1798 году из его потомков остались «по прежнему месту прописки» лишь двое: Иван Илларионович и наверняка рано ставший сиротой его племянник Вавило Захарович. Они – соответственно правнук и дважды правнук Ивана Нифонтовича по линии его старшего сына Петра (стоит полагать, что Захар тоже был Илларионовичем).
У Нифонта имелся младший брат крестьянин Тимофей Исакович Дружинин, который появился на свет около 1641 года и прожил восемьдесят лет, основав на левом берегу Илги по своему имени деревню Тимофеевскую (Тимошинскую)[479]. У него было пятеро сыновей. Но старшие – Иван, Кирилл и Семен – «в 1723 году взяты на поселение на нерчинские заводы» вместе со всеми их детьми (кроме двух сыновей Ивана: его Ефим к 1744 году оставался на пашне, а Осип в 1737 году был отдан в рекруты). И к началу второй ревизии в Тимофеевской деревне жили младшие сыновья Тимофея Исаковича – тридцатипятилетний Егор с детьми Дементием, Емельяном, Касьяном, Филимоном и Харлампием и пятидесятипятилетний Исак с Абросимом, Константином, Лазарем и Тимофеем. В конце 1740-х годов у Егора родились еще два сына – Кирилл и Сергей. К 1798 году Егор и Исак Тимофеевичи умерли, и в деревне остались в трех домовладениях сыновья Егора под именами Емельян, Филимон с Сергеем и Харлампий с Кириллом, а в трех других домовладениях – сын Исака Лазарь и внуки Исака Козьма и Сидор Абросимовичи. Еще один его внук – Анисим Тимофеевич – проживал в Нижнеслободской деревне.
В илимские ревизские сказки попали еще и Дружинины, происхождение которых в ходе моего исследования осталось неустановленным. Это – крестьянин деревни Шерстенниковой Игнатий, примерно 1696 года рождения, с сыновьями, и они – «перешедшие собою Илимского уезда из Усть-Куцкого острога»; рожденный около 1684 года Лаврентий из деревни Симахиной и Лаврентий же (может, это одно лицо, но с указанным возрастом, предполагающим его рождение уже в 1693 году) из деревни Подпорожной с братом Иваном и племянником Игнатием, умершим в 1739 году в возрасте тридцати трех лет. При этом утверждается, что разночинцы Лаврентий и Иван «безвестно бежали в 725 году», но первый из них «явился налицо». Нашел я и второго, и им оказался Иван Федорович Дружинин, около 1695 года рождения, приписанным как раз в 1725 году в посадские города Иркутска263.
О Дружининых говорится также в переписных книгах Илимска конца XVII – начала XVIII века и в иркутских ревизских сказках. В них есть тот же «Нифанко Исаков» из Илгинской слободы и пашенный крестьянин Даниил Федорович из Нижнеилимской слободы и Тутуры; иркутский разночинец Петр и приписанные в посад г. Иркутска после первой ревизии крестьянин Илгинского острога Иван, города Селенгинска посадские братья Иван и Егор, ссыльный из Суздаля архиерейский сын Федот. Имели ли они какое-либо родственное отношение к крестьянам Нифонту и Тимофею Исааковичам Дружининым, не знаю. Не удалось выяснить и то, был ли их предком служилый человек «Ивашко Дружинин» и, вероятно, его сын «Василко Иванов сын Дружинин» из г. Березова 1624 и 1638 годов264.
В монографии Вадима Николаевича Шерстобоева «Илимская пашня» с опорой на архивы утверждается, что в 1701 году Тимофей Дружинин, чей отец Исаак[480] – мой девятижды прадед, входил в состав «Илимской слободы выборных десяцких». Примерно тогда же, в 1699 году, большое семейство Дружининых из Тимофеевской деревни, первое упоминание о которой приходится еще на 1665 год, обладало солидным хозяйством – имело мельницу, восемь с половиной десятин посевных площадей, пятнадцать лошадей, свыше трех десятков голов крупного рогатого скота, ставило в год четыре сотни копен сена, из которых сто продавало, а восемьдесят восемь сдавало государству265.
Елизаровы
Агафия, рожденная в 1720 году жена ангинского крестьянина Никифора Лукича Воробьева, была дочь, «взятая Киренского манастыря вкладчика Василея Елизарова». Она – моя семижды прабабушка. Согласно ревизским сказкам по Анге, ее отец и мой восьмижды прадед Василий Елизаров умер между первой и второй ревизиями, оставив после себя сыновей Артема, Ивана, Осипа и Степана, от которых и пошли все ангинские Елизаровы266.
Однако происхождение самого Василия Елизарова, к сожалению, мне с точностью определить не удалось, а мог он статься потомком, к примеру, одного из казаков – Михаила или Никифора Елизаревых, перечисленных в переписной книге г. Березова в 1624 году, но, скорее всего, – тутурского «пашенново крестьянина Оверки Елизарева», которого разорили в середине 1640-х годов «брацкие люди», и/ или крестьянина Илимского уезда 1699 года Григория Елизарева267.
Злобины. Красноярская история
Анна, дочь иркутского казака Ильи Злобина, появилась на свет в 1732 году и умерла в 1790 году, была замужем за посадским (купцом) из г. Иркутска Никитой Андреевичем Куроптевым. В их семье рождена Вера, ставшая женой моего пятижды прадеда Ивана Григорьевича Черепанова. Значит, Анна Ильинична – моя шестижды прабабушка.
В сказках второй ревизии г. Иркутска я не нашел Ильи Злобина, но в них попали его однофамильцы – братья Сила и Яков, рожденные в середине 1710-х годов, и они вполне могли быть сыновьями Ильи. А в книге Станислава Гурулева «Первые иркутяне» имеется единственный персонаж под фамилией Злобин, который жил в Иркутске в начале XVIII века и как раз с именем Илья, – рядовой конный казак Илья Петрович с окладом в семь рублей, семь четей с осьминою ржи, четыре пуда овса и четыре пуда соли в год. Еще один Злобин – красноярский казак по имени Иван – заезжал в Иркутск ненадолго в 1689 году для передачи воеводе Леонтию Кислянскому вестей от монгольского хана Гелея Кутухты, желавшего вступить в русское подданство268.
Изучив иркутские архивы, я нашел у Гурулева ошибку: Илья Злобин был по отчеству не Петрович, а Провович. К примеру, именно «Иван Провов сын Злобин» перечислен среди казаков Иркутска в 1708 году, а «Илья Пров сын Злобин» получил, согласно расходной книге Иркутска за 1712, три рубля с полтиной для тункинской годовой службы269. Но правда в том, что других иркутских казаков с такой фамилией в самом начале XVIII века не существовало. По крайней мере, мне их найти не пришлось. Зато они были в относительно недалеко расположенном Красноярске (и из сибирских казаков только там), происходили от хорошо известного атамана Михаила Злобина. И казак Иван, посещавший в 1689 году иркутского воеводу, был сыном того самого Михаила и тоже атаманом.
В составленной 30 сентября 7180 (1671) года переписной книге Красноярского острога и уезда270 сказано, что «Атаман Михайло Злобин живет в деревне на Березовке[481], а у него сын Ивашко десяти лет». В собранных же в 1722 году сказках первой ревизии Красноярска в том же поселении были и уже девяностолетний Михаил Злобин, и его сыновья Иван (почему-то в возрасте семидесяти лет, а при его рождении около 1661 года должно бы шестидесяти), Данила, два Федора, и внуки, и правнуки. Еще один Злобин – Степан (он тоже сын Михаила) – в Караульском остроге. По тем сказкам, Михаил – отставной, Иван – действующий, а Алексей (сын Ивана) – неверстанный дети боярские. Ко второй ревизии Михаил, его сыновья Иван, один из Федоров, а также несколько внуков, включая Алексея, умерли271.
Между 1671 и 1722 годами переписей прошло полстолетия, и ровно в его середине в Красноярске случилось событие исторической важности с самым активным участием Злобиных. Названо оно было «Красноярской шатостью[482]», и я приведу вкратце то, что о нем известно из исследовательских работ, главным образом из «Красноярского бунта 1695–1698 годов» историка-археографа Николая Николаевича Оглоблина272. Уверен, что это и интересно, и познавательно, и во многом перекликается с изложенными в настоящей книге событиями и даже с современностью.
По Оглоблину, в XVII веке служилые люди Сибири, в отличие от центра Московского царства, имели значительную независимость и самостоятельность. «Находясь вдали от непосредственнаго влияния московских традиций и дисциплины, они могли свободнее обнаруживать свои стремления и упорнее добиваться удовлетворения их. Всего ярче и полнее эта относительная самостоятельность сибирских служилых людей выступает именно в их частых и резких бунтах против воеводской власти». В то же время «Нигде кроме Сибири злоупотребления воевод не доходили до той грандиозной степени, когда населению становилось совершенно «не мочно жить», и оно, после бесплодных воплей к великому государю о смене воевод, открыто поднимало против них бунт и пыталось своими силами и средствами оградить себя от «воевод-разорителей, грабителей, мучителей». Одним из таких разорителей оказался Алексей – воевода и сын прежнего уважаемого в Красноярске воеводы Игнатия Васильевича Башковского.

В.И. Суриков. Красноярский бунт 1695 года
Он отличался непомерным мздоимством, собирал со служилых людей, желающих перейти на уплату ясака, немалые «отступные». Наибольший же вред он приносил тем, что облагал приезжавших в Красноярск бухарских и калмыцких купцов «великими взятками», и те в отместку устраивали набеги, направляли своих «воинских людей … приходить войною» на Енисейский и Красноярский уезды. Утверждалось даже, что в набегах использовались порох и свинец, которые подручные воеводы корысти ради бухарцам же и продавали.
Обращения с челобитными в Москву дело не меняло, и в начале 1695 года недовольные Алексеем Игнатьевичем Башковским старослужащие люди Красноярского острога[483] стали собираться в свои круги и устраивать «думы и советы» под руководством нескольких детей боярских, осуждать воеводу. Им противостояла небольшая группа также во главе с сыном боярским, но из ссыльных черкас Василием Многогрешным (его брат Дементий, бывший малороссийский гетман, о котором сказано в разделе о Бутаковых, отбывал тогда ссылку в Селенгинском остроге). Недовольство вылилось 16 мая в сбор целой толпы повстанцев перед приказной избой и объявлением отказа Алексею Башковскому от воеводства. Воевода в ответ угрожал карами и потребовал выдачи «пущих заводчиков». Однако это только разозлило толпу, и та принялась «разорять домишка и грабить животишка» служилых людей из воеводской партии. Самого же воеводу восставшие вначале хотели убить, но ограничились тем, что сорвали с него одежду и подвергли всяческим оскорблениям его жену. Опасаясь за свою жизнь, Башковский удрал с семейством в Енисейск.
Получив город в свои руки, повстанцы немедля принялись за организацию самоуправления: главные руководители движения, включая Дмитрия Тюменцова (он нем еще будет разговор в разделе о Тюменцовых), были избраны так называемыми городскими и уездными судьями. Те судьи имели полномочия воевод, ограниченные «советом» служилых людей (боярских детей, атаманов, пятидесятников) и всенародной «думой» – общим собранием участников движения. Судьям сразу же удалось остановить в городе грабеж и вернуть в приказную избу пожитки Башковского за исключением его обширных «съестных и питейных припасов». И как только волнения улеглись, «думцы» направили царю через Сибирский приказ челобитную, где обо всем произошедшем написали, повинились перед ним и попросили назначить нового, «добраго воеводу».
Нового воеводу-то им назначили, да вот только Мирона Игнатьевича Башковского, родного брата изгнанного Алексея. Ожидая от него мести, многие казаки покинули Красноярск и скрывались по своим деревням или у родных и знакомых. Однако оставшиеся в городе служилые люди стали уговаривать тех вернуться в город для сопротивления новому воеводе. И он, узнав в сентябре 1695 года, что большинство «деревенцов» под началом Василия Обухова действительно возвращается, потребовал, чтобы они «в Красноярск многолюдством не ездили, а буде кому какая нужда, и они бы ехали в город человека по три, или по пяти, или по шести». Но его никто не послушался. Поручение воеводы казачьему десятнику Илье Сурикову[484] доставить в город Обухова также осталось невыполненным: дойдя до одной из деревень и получив отказ в выдаче ему «смутьянов», Суриков отправился в обратный путь. И по дороге встретил очередной отряд «деревенцев», которые жестко заявили, «что, если воевода выйдет с ссыльными людьми на поле, они с ними будут биться».
Как только первая часть бунтовщиков достигла Красноярска, в нем началось брожение, на городских площадях собирались, как потом их называли в сыскном деле, «народные воровские круги» во главе с боярскими детьми – «заводчиками» еще предыдущего выступления против воеводы. Затем на первые роли вышли новые деятели. И среди них – конный атаман Михаил Злобин. Он – внук сына боярского из Стародуба Северского[485] Андрона Злобина, погибшего в 1605 году под Кромнами[486], и сын атамана Дементия Злобина, в 1611 году есаула в Первом народном ополчении, героического участника битвы за Смоленск в 1614 году, боевого соратника Дмитрия Пожарского и одного из основателей Красноярского острога, имевшего больше десятка серьезных ранений в боях и получившего за свои заслуги высочайший почет и пожизненное жалование.



