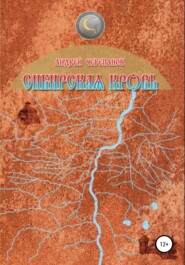 Полная версия
Полная версияСибирская кровь
В 1736 году Амос Зуев, оформляя наследство своего отца Прокопия (Пронки), заявил об утере «даной» на землю, и Верхоленская канцелярия Иркутского уезда просила Илимск дать справку из старых земельных дел. Тогда Илимская воеводская канцелярия подтвердила, что в 1684–1685 годах илимским и якутским воеводами была отведена земля Синькову, однако в 1701 году делянка «збеглого пашенного крестьянина Ивана Михайлова сына Синькова» запустела и была закреплена за Зуевыми287.
К 1762 году были семьи у шести сыновей «Амемоса Прокопьева сына Зуева» – у Александра, Алексея, Бориса, Дорофея, Ивана и Осипа (еще один его сын Илья был отдан в рекруты). В бирюльском ведомстве, к которому тогда относились качугские земли, жили и его братья Дмитрий с сыновьями Иваном и Иудой (еще один его Иван перебрался под Манзурку), Степан с сыновьями Никифором и Леонтием и Михаил с Дмитрием, Михаилом и Терентием (еще один его сын Иван отдан в рекруты)288. И именно им обязаны появлением на свет многочисленные верхнеленские Зуевы.
К сожалению, происхождение Прокопия Тимофеевича – основоположника бирюльской фамильной династии Зуевых, чей отец Тимофей – мой девятижды прадед, мне с точностью определить не удалось. Но его предком вполне мог быть Архип Петрович Зуев, который перечислен в «Книге окладной Илимского острогу денежному, хлебному и соляному жалованию илимским и верхоленским ружникам и оброчникам, служилым людям и судовым плотникам» 7161 (1653) года. Еще один Зуев – казачий десятник Тарас из Пелыма – служил в 1656 году в Даурии289. Если он был братом Архипа, а Архип – действительно предок Прокопия, то верхнеленские Зуевы – потомки выходцев из Пелымского острога[500]. В «Книге имянной пелымских служилых людей» 1624 года я нашел имена двух Зуевых – «Гараски» и «Оски», но рядовой стрелок «Тараска Зуев» был в 1623 году не в Пелыме, а в Нарыме[501], а еще один или тот же Зуев «Гараска» – в 1625 году в Томске290.
Кистеневы
Пока что нет прямых свидетельств тому, что Дарья Петровна, жившая в 1795–1843 годах и ставшая женой качугского крестьянина Нестора Яковлевича Ратькова и моей четырежды прабабушкой, появилась на свет именно в семье Петра Кистенева. Однако есть тому свидетельства косвенные: дважды, в мае 1817 года и в июне 1819 года, дочери Петра Ефимовича Кистенева назывались восприемницами детей семейства Нестора и Дарьи Ратьковых. Сам же Петр Ефимович в 1781 году взял в жены свою однофамилицу и двоюродную тетю Агафию Федотовну, которая была младше его примерно на семь лет (при верности версии моего родства с Петром Кистеневым она моя пятижды прабабушка).
Из списка жителей Верхоленского острога 1722–1763 годов видно, что дедом появившегося на свет в 1756 году Петра Ефимовича был Яков Макарович Кистенев. Основоположником же верхоленской династии Кистеневых стал, конечно, казачий пятидесятник Назар. Тому имеется немало свидетельств, включая приведенные в работе Георгия Красноштанова «Никифор Романов Черниговский: документальное повествование». Так, Назар Степанович Кистенев стоял во главе служилых людей, направленных в сентябре 1649 года первым илимским воеводой Тимофеем Васильевичем Шишериным на Чечуйский волок, он прибыл туда в десятых числах октября и в конце ноября того же года возвратился в Илимский острог. В 1665 году к Назару Кистеневу обращались уже как в «Верхоленском Братцком остроге приказному человеку пятидесятнику казачью». Илимский воевода Сила Осипович Аничков сообщал в 1671 году царю, что, по дозору «Илимского острогу сына боярского Василья Куржумова да верхоленского конных казаков пятидесятника Назара Кистенева, около того места, где на усть Иды на мунгальском перевозе острожку быти, по их, Васильеву и Назарову, высмотру, пашенные земли и сенных покосов порозжих, диких, пустых, есть много, и пашни вновь завесть, и крестьян поселить можно»291.
«Конных казаков пятидесятник … Назар Стефанов сын Кистенев» из Верхоленского острога, получающий в год семь рублей двадцать пять алтын, приведен в окладной книге за 1685 год. В ней же его сыновья казаки Иван и Федор Назарьевичи с окладом в семь рублей («Федор Назарьев сын Кистенев» вошел также в именную книгу Верхоленского острога 1693 года). Из других финансовых и именных книг следует, что был у Назара еще один сын – казак Степан, и все вчетвером в 1684 году пашню пахали взамен выплаты хлебного жалования. Причем, именно на заимке Степана впоследствии появилась деревня Кистенева. В «Переписной книге Илимской слободы о сборе хлеба, и сколько они имеют пашенной земли и сенных покосов» за 7207 (1699) год подробно поведано, где она располагалась: «Вверх по Лене реке от Верхоленского пять верст деревня на левой стороне, а в ней два двора верхоленских конных казаков Васки Максимова, Сергушки Григорьева. Пашут за хлебное жалование. От Васки Максимова да Сергушки Григорьева вверх по Лене три версты деревня на левой стороне, а в ней два двора верхоленских конных казаков Стенки Кистенева, Ивашки Тимофеева. Пашут за хлебное жалование. От Стенки Кистенева, Ивашки Тимофеева деревни вверх по Лене полтрети версты деревня на левой стороне, а в ней двор верхоленского конного казака Фетки Кистенева. Пашет за хлебное жалование. Вверх по Лене реке от Фетки Кистенева две версты на левой стороне Бирюльские слободы»292 (имеются в виду первые пять дворов Качинской деревни, нынешнего Качуга).
Из именных и приходно-расходных книг Верхоленского острога 1693–1712 годов определяется, что внуками Назара Кистенева были Кондратий по линии Ивана, а Макар и Марк (около 1681 года рождения) – по линии Федора. То, что отчество этого Макара, деда Агафии Федотовны и прадеда Петра Ефимовича, – Федорович, подтверждается также книгами пашенных крестьян за 1699, 1706 годы и челобитной «бирюльского пашенного крестьянина Макара Федорова Кистенева» от 27 ноября 1708 года, в которой он сообщает: «в нынешнем в 1708 году волею Божиею, женишка у меня умре и ребятишки. И после того лежал я на смертной постеле многие недели. И от той болезни, от щепотные скорби, обезножел. И от таково разорения, и от недосмотру скотишко у меня выпал. … пашу я в Каченской деревне четверть десятины. И мне тое пашни тянуть и пахать невозможно и нечем. И в нынешнем же 708 году … вышеписанную четверть десятины и сенными покосы в Каченской деревне за такую нужною болезнию и за разорением здал я полюбовно промышленному человеку Луке Иванову сыну Димову»293. Между тем в сказках второй и третьей ревизий Верхоленского острога перечислены восемь сыновей и дочерей разночинца Макара Кистенева, рожденных в 1710–1735 годах (включая погодок – деда Петра Ефимовича Якова и отца Агафии Федота). Значит, после 1708 года он еще раз, а то и дважды женился.
Не представляет труда установить происхождение каждого представителя Кистеневых из Верхоленского острога 1763 года (кроме Петра Ивановича, внука Никиты) вплоть до казачьего пятидесятника Назара Степановича Кистенева. Его отец Степан – мой, по разным линиям, десятижды и одиннадцатижды прадед. Но вот откуда Кистеневы пришли в Восточную Сибирь, пока не ясно. Может, они – потомки казака Горлана Кестенева, об участии в бою которого говорится в послужном списке Томска 1630 года: «государю служил и бился явственно, под мужиком коня застрелил»294.
Козловы. Ветеранская история
Дочь верхоленского казака Ивана Козлова Пелагея, рожденная то ли в 1695, то ли в 1712 году[502], бывшая женой разночинца Ивана Савельевича Нечаевского и умершая после 1762 года, стала матерью Анисии – жены старшего сына Ивана Федоровича Черепанова Григория. А, по всей вероятности, ее сестра Феодосия, появившаяся на свет в 1708 году, была отдана взамужество верхоленскому разночинцу Никифору Челпанову и умерла в 1777 году. Пелагея и Феодосия – мои семижды прабабушки.
Нет ни малейших сомнений в том, что основоположником верхоленской династии Козловых был казак, который еще в сентябре 1645 года подписывал челобитную с изложением событий основания Верхоленского острога, и имя его – «Мишка Иванов Козлов» и «Михалко Иванов сын Козлов» – вписано в 1633 году в «Книгу имянную березовским служилым людям и ружейникам» и в 1648 году в «Книгу о раздаче денежнаго, хлебнаго и солянаго жалования детям боярским и разнаго звания служилым людям Якутского острога» среди березовских[503] казаков. Согласно «Окладной книге Илимского острога», он не позднее 1653 года становится пешим казачьим пятидесятником в Верхоленске и остается пятидесятником, как минимум, до 1677 года (его оклад тогда составлял «5 рублей 6 алтын 4 денги»), будучи к тому времени в Верхоленском остроге единственным из его самого первого казачьего состава. Послужил он и приказчиком в Тутуре, и именно у него отпрашивался в 1655 году с тутурской судоверфи в Верхоленск, якобы для изготовления топоров, будущий организатор побега в Даурию десятник Михаил Сорокин295.
В вышеуказанной окладной книге за 1653 год пятидесятник «Мишка Иванов сын Козлов» приведен среди холостых «Верхоленского острожку служилых людей». Но он, конечно, был женат и имел детей в 1676 году, за который я нашел первое упоминание его как пятидесятника казачьего, который пашню пашет «под Верхоленским острошком в Тутурской волости». Где находилась та пашня, можно узнать из «Переписной книги Илимской слободы о сборе хлеба, и сколько они имеют пашенной земли и сенных покосов» за 7207 (1699) год: «От вышеописанные тутурские последние деревни вверх по Лене деревни иркутского присуда верхоленских служилых людей … двор верхоленских конных казаков Левки да Микитки Козловых пашут за хлебные жалования за два свои оклады отца своего заимку»296.
Из ревизских сказок следует, что эти сыновья Михаила Ивановича Козлова – Леонтий и Никита, рожденные в 1656 и 1657 годах, прожили соответственно девяносто шесть и девяносто девять лет. Еще у него был сын Петр, о котором говорится в окладной книге 7192 (1684) года, и, вероятно, Тимофей, ведь в «Книге имянной Верхоленского острога» за 7201 (1693) год перечислен «Иван Тимофеев сын Козлов»[504]. Наверняка тот же Иван приведен в «Книге расходной г. Иркутска и иркутского присуду пригородов и острогов служилым людям» за 1712 год, где среди верхоленских пеших казаков также указаны пятидесятник Леонтий и рядовой казак Никита Козловы297. Стоит полагать, что казак Иван Тимофеевич Козлов и был отцом моих семижды прабабушек Пелагеи и Феодосии.
Если эта версия верна, то другой Иван, отец казачьего пятидесятника и приказчика Михаила Ивановича Козлова, – мой одиннадцатижды прадед. Сколь близкое родство с ним имели казаки Козловы под именами «Жданко Дмитриев», Кондратий и «Лазарко Иванов» из Березова 1624–1634 годов, а также вкладчик Киренского троицкого монастыря Илья Михайлович Козлов из вторых ревизских сказок Илимска298, осталось неизвестным.
Коркины
Я не нашел своих предков под этой фамилией, однако она входила в число двадцати пяти самых распространенных в Верхоленском остроге 1763 года фамилий, и среди ее представителей оказались две семьи разночинцев (бывших казаков) – потомков Герасима и Григория и одна семья посадских – потомков Алексея. Приходились ли они друг другу близкими родственниками, мне выяснить не удалось, как не удалось найти какой-либо версии происхождения Коркиных-посадских.
А вот, по одной из моих версий, линия верхоленских разночинцев могла восходить к служилому Якутского острога Алексею Коркину из Тобольска, который летом 1645 года набросился на якутского воеводу за то, что тот хотел наказать батогами казаков, досрочно покинувших караул «у казенных анбаров соболиных»[505]. Разумеется, за такую провинность Алексей Коркин был наказан, может, сослан на службу из столицы Ленского разряда в Илимское ведомство, в составе которого тогда был Верхоленский острог.
По другой версии, Коркины из Верхоленска являлись потомками казака Федора Коркина, служившего с 1650 года в Даурии, а до того занимавшийся соболиным промыслом на Олекме. Третья версия – они потомки Савелия, основавшего деревню Коркина в Тутурской волости, первое упоминание о которой найдено за 1649 год. Вероятно также, что племянником или внуком кого-то из них – Алексея, Савелия или Федора – являлся илимский десятник Еремей Мартемьянович Коркин, который, как утверждается в окладной книге 1683 года, «в Орленской волосте пахал на себя пашню, а челобитья о той ево пашне в приказе нет. А по государевой грамоте земель пахать даром никому не велено». Наверняка именно его сыном был Михаил Еремеевич Коркин, перечисленный среди илимских пеших казаков по Верхоленскому острогу в «Книге окладной денежному, хлебному и соляному жалованию» за 7192 (1684) год (он был поверстан в 1684 году на место умершего Василия Кудрина). А другой же его сын – Андрей Еремеевич Коркин – устроился в 1698 году на пашню в Усть-Киренской Нижней волости «на збеглого Якушково место Кондратьево Кошевого в десятину без чети ржаную, ярового тож» со льготой на два года. И, по всей вероятности, именно тот Андрей умер в 1724 году, оставив после себя в деревне Коркиной сыновей Лаврентия с Сидором, пасынка Леонтия и племянника Ивана299.
О рядовых пеших казаках Коркиных – Андрее, Михаиле и брате Михаила Григории – говорится во многих именных и приходно-расходных книгах Верхоленска за 1699–1712 годы300. И хотя их отчество не приведено, они – наверняка Еремеевичи.
Кузнецовы. Амурская история
Я занялся изучением истории восточных сибиряков Кузнецовых, считая их своими предками. Это произошло из-за ошибочного мнения, что бабушкой моего четырежды прадеда Петра Протасова была Елена, рожденная в семье Дмитрия Ивановича Горбунова и Евдокии[506]. И эта Евдокия, согласно сказкам илимской ревизии, появилась на свет в 1706 году в семье разночинца Киренского острога Федота Кузнецова301.
Я нашел имя такого разночинца с его сыновьями и внуками в материалах второй и третьей ревизий по Илимску, в ведомстве которого находился Киренский острог. Как оказалось, он около 1670 года рождения и прожил восемь с половиной десятилетий. Там же под фамилией Кузнецовых приведен казачий сын Петр, в деревне Салтыковской – два крестьянина Ивана Борисовича, в Яндинском остроге – Василий с детьми Андреем и Иваном. В тех материалах сообщается и о том, что в Орленской слободе «поселился домом ис Тутурской слободы сын боярской Иван Кузнецов», около 1657 года рождения, с сыновьями Афанасием и Иваном, а из Кежемской слободы бежал Григорий Кузнецов, «в 1721 году бежал безвестно» и казачий сын Артемий, но из Илимского острога. При этом в остроге осталось еще много Кузнецовых: отставной служилый Прокопий, Андрей, два Василия, Григорий, Иван и Семен с детьми и внуками. Наверняка они – близкие друг другу родственники и выходцы из Тобольска, ведь по некоторым содержится отметка о назначении в 1728 году в Илимск из Тобольской губернской канцелярии302.
Надо заметить, что несколько десятилетий ранее, в самом начале XVIII века, был иной состав илимских Кузнецовых, и тогда в остроге числился посадский Василий Михайлович Кузнецов, служили рядовые казаки Василий, Прокопий и Степан Максимовичи Кузнецовы, жил десятник казачий Юда Леонтьевич Кузнецов с малолетним сыном Иваном и наверняка еще с одним своим сыном рядовым казаком «Петром Юдиным сыном Кузнецовым» и братом Емельяном Леонтьевичем. Эти Емельян и Юда Леонтьевичи вполне могли быть детьми владельца пашни в Нижнеилимской слободе Леонтия Михайловича Кузнецова, которую в 1706 году занимал уже крестьянин Афанасий Илларионович Усов303.
В период второй ревизии много было Кузнецовых среди крестьян Ангинской заимки Киренского монастыря. Большинство из них происходило от умершего после первой ревизии Аверкия Кузнецова (это – пятеро его сыновей – Леонтий, Максим, Прокопий, Семен, Федор – и семеро внуков). Там же жили Афанасий Кузнецов с сыном Ларионом и тунгусы под той же фамилией Афананасий и Григорий304.
Была ли у кого-то из этих Кузнецовых близкая родственная связь с Федотом Кузнецовым, осталось неизвестным, как не известно, жил ли он до Киренского острога в Иркутске, в перечне казаков которого за 1708 год приведен Федот Михайлович Кузнецов. Кстати, тогда же в Иркутске служили и другие казаки под фамилией Кузнецовых – Дмитрий Фомич, Иван Мелентьевич и Степан Филиппович305.
А имена первых сибиряков под фамилией Кузнецовых имеются в архивных книгах 1623 года: Григорий, Дмитрий и «Куземка» Кузнецовы служили тогда казаками города Березова, а Григорий Алексеевич Кузнецов был стрельцом в Сургуте306.
Известно также, что ссыльный воронежский черкашенин «Карпик Никитин Кузнец», поработав на тутурской пашне, был в самом конце 1640-х годов переведен в кузнецы Верхоленского острога, а в 1650 году – на место своего однофамильца «Онофрейка Степанова Кузнеца» в Усть-Кут для «государевы соляные вари для цыренные[507] починки кузнечного дела… Самого же Онофрейка Кузнеца свезли от Соли с собой воеводы Дмитрей Франзбеков да диак Осип Степанов в Якутцкий острог». Интересно, что Онуфрий Степанович Кузнецов стал в Якутске казачьим десятником (в Якутском остроге были еще с начала 1640-х годов его братья Максим и Яков из Мезени, Яков послужил и на Индигирке), затем состоял в амурском войске Ерофея Хабарова, был назначен после Хабарова командующим войском и «он был герой, не уступавший ни в чем предшественнику своему Хабарову». Летом 1658 года в бою с маньчжурско-корейской флотилией полководца династии Цин Шархуда на амурском Корчеевском плесе Онуфрий Кузнецов был взят в плен, и больше о его судьбе ничего не известно. А, в свою очередь, черкашенин Карп Никитович Кузнецов «попросился в пашенные крестьяне, стал пахать на левом берегу Куты, напротив соляной варницы, в деревне, которая существует и сейчас, и по его имени названа Карповой. Его сыновья жили в этой же деревне и были солеварами». В 1660 году «здал он, Карпунка, пашню» и стал посадским человеком307.
Куницыны
С такой фамилией выходила в 1848 году замуж за крестьянина Николая Николаевича Черепанова из Кутурхайской деревни появившаяся на свет в 1826 году «девица Анна Петрова, дочь деревни Ремезовской отставного солдата». Она стала моей трижды прабабушкой.
Из ревизских сказок легко устанавливается происхождение ее отца Петра Васильевича Куницына вплоть до его прадеда посадского Степана, умершего после первой ревизии. Степан – мой семижды прадед и младший брат посадского Петра, родившегося в 1682 году. Еще один Куницын – Василий – был взят в рекруты.
Я не нашел доказательств родственной связи между этими посадскими, с одной стороны, и посадским Федором Варламовичем (или Вахромеевичем) Куницыным из Илимского острога 1690–1700 годов, который платил годовой оброк в размере полтины308, а также с крестьянами Куницыными Иваном и Шестым (Шесташкой)[508] Филипповичами и сыновьями Ивана Андреем, Данилой и Иваном, с другой. Вот только стало известным, что владели те крестьяне пашнями в Верхнеилимской волости начиная еще до 1653 года, и к 1698 году Андрей и Иван Ивановичи умерли, а их брат Данила сбежал309. И, конечно, их деревня – не та, что сегодня находится в четырех километрах от северной оконечности Верхоленска и называется Куницына.
Куницынскую деревню под Верхоленском основали, вероятно, в начале XIX века потомки посадского Семена – дети и внуки его сына Леонтия. И это видно из перечня крестьян деревни в исповедной росписи Верхоленской Воскресенской церкви за 1843 год. Там во главе семейных домовладений из самых старших Куницыных были Веденей, Иван, Кондрат, Прокопий, Семен и Филипп310. А они – рожденные в 1775–1798 годах дети верхоленских мещан Василия, Власа, Семена и Филиппа – всех четверых сыновей Леонтия Куницына, перечисленных в сказках третьей ревизии.
Куроптевы. Солеваренная история
Моя пятижды прабабушка Вера Никитична родилась в 1753 году в семье иркутского купца Куроптева, вышла в 1773 году замуж за верхоленского посадского Ивана Григорьевича Черепанова и умерла в 1824 году крестьянкой в Кутурхае.
В материалах третьей ревизии по г. Иркутску содержатся перечни трех семей Куроптевых, они идут среди начальных сказок по иркутским посадским друг за другом – во главе с Петром Андреевичем в возрасте на период ревизии (1762 год) шестидесяти шести лет, Иваном Андреевичем, пятидесяти одного года, и сорокашестилетним Никитой311. Отчество Никиты не приведено, и сказка о его семье составлена не им самим, а его женой Анной Ильиничной. Он же «в 761 году без данного ему из ыркуцкого магистрата пашпорта отбыл до города Якуцка для купечества и собрания долгов». В семье трое детей – восьмилетний сын Петр[509], старшая дочь Вера, шести лет, и младшая Екатерина, двух лет. «К сей сказке прозбою Анны Ильиной иркуцкой посацкой Иван Полосков руку приложил».
К сожалению, по приведенным по семье Никиты Куроптева данным выяснить, кто был его отцом невозможно. Ничуть не проясняют, а даже запутывают вопрос его происхождения сказки второй ревизии. Куроптевых там среди посадских пятеро: «написанный в прежнюю перепись» сорокавосьмилетний Петр с родившимися после переписи сыновьями Иваном и Федором, «написанный в прежнюю перепись» тридцатитрехлетний Иван (он около 1711 года рождения) и сразу после него – «У него сын в прежнюю перепись написанный же» Никита313. Судя по тексту, Никита – сын второго из вышеназванных Иванов. Но этого не могло быть, ведь Никите, по ревизским сказкам, в 1744 году исполнялось то ли двадцать пять, то ли двадцать восемь лет[510]. Не стал же тот Иван его отцом в своем пяти- или восьмилетнем возрасте!
Поэтому приходится строить версии проведения фамильной линии иркутских Куроптевых, восходящей от Никиты. И одна из них представляется таковой: когда записывались сказки первой ревизии, Андрей – отец Петра и Ивана – уже умер, и ревизор записал этих его сыновей вместе, приведя после них отчество «Андреевы дети Куроптевы». Следующим был назван самый младший из живших тогда в Иркутском остроге Куроптевых – Никита под отчеством Иванов. При составлении же сказок второй ревизии переписчик посчитал, что Иван Андреевич – и есть отец Никиты. На самом же деле его отцом мог статься брат Андрея под именем Иван, и мне удалось отыскать в архиве «доревизионные следы» Ивана Куроптева. Но сначала расскажу о таких следах Андрея Куроптева и, по всей вероятности, его предка Афанасия.
Об Андрее Куроптеве и его сыне Петрушке, около 1696 года рождения, говорится в «Книге переписной иркутским посацким людям и их детям, братьям и племяникам и захребетникам нынешнего 207 года» (1699 года). Он же – женатый и живший своим двором с годовым оброком в 16 алтын 4 деньги – в «Списке с имянных книг иркутских посадских людей» за 1704 год314. А в работе Станислава Гурулева «Первые иркутяне» сказано со ссылкой на неназванный источник 1699 года еще и о посадском Сидоре Куроптеве (вероятно, брате Андрея) и со ссылкой на сметную книгу Иркутска 1681 года – о посадском Афанасии Янотариевиче Куропте, выходце из северного Яренского городка[511], компаньоне основателей иркутского соляного промысла братьев Михалевых. При совместной покупке в начале 1670-х годов оборудования для добычи соли Афанасий имел свою долю, проданную впоследствии, в декабре 1680 года, за солидную по тем временам сумму – девяносто рублей315. Наверняка тот же Афанасей Янотариевич попал и в Писцовую книгу 1686 года, но уже в качестве «посадского человека Афонки Инотариева, по сказке его, родом он Еренского городка, а в Иркуцкой пришел в прошлых годех при приказном енисейском сыне боярском Иване Перфириеве и поверстан в посад при нем, Иване, а в Еренском был он государев пашенной крестьянин. Детей у него сын Ивашко осемнатцати лет, холост…»316. Вполне могло статься, что тот Иван Афанасьевич Куроптев вскоре завел свою семью, и в ней появился Никита. А не был Иван упомянут в перечнях посадских людей Иркутска 1698–1704 годов оттого, что оказался в тот период, к примеру, в рекрутах, а Никита же остался на попечении его матери и дяди.
Другая версия: отец Никиты по имени Иван был не братом Андрея, а его сыном, рожденным, скажем, в 1698 году. Третья версия: Никита – сын не какого-либо из Иванов, а Андрея Куроптева, и все три главы семейств Куроптевых из второй и третьей ревизских сказок – Петр, Иван и Никита – родные братья (именно так полагает Иркипедия. ру). И, наконец, самая, на мой взгляд, достойная версия: Никита – сын Петра Андреевича Куроптева, и в ревизию 1722 года, материалы которой найти не удалось, при составлении перечня семьи Куроптевых записали сначала этого Петра, затем его младшего брата Ивана и, наконец, сына Петра Никиту (часто перечни семейств в первую ревизию шли именно в такой последовательности: старший брат – младший брат – жена и дети старшего брата – жена и дети младшего брата). А во вторую ревизию упоминания о брате исключили, что было тогда обыденным явлением, и Никита как сын «прикрепился» к своему дяде Ивану.
Как бы там ни было, но наверняка Афанасий Куроптя – основатель посадской династии Куроптевых в Иркутске[512]. Он, по сведениям Галины Александровны Леонтьевой, автора книги «Служилые люди в Восточной Сибири во второй половине XVII – первой четверти XVIII веков (по материалам Иркутского и Нерчинского уездов)», слылся известным иркутским кузнецом, чем и заинтересовал в качестве компаньона Михалевых при сооружении особо крупной соляной варницы и организации кузницы в Усолье318.



