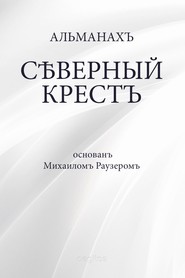 Полная версия
Полная версияСеверный крест
Корридѣ скорѣе слѣдовало быть вновь дѣйствомъ сакральнымъ, ритуальнымъ, даже иниціатическимъ, каковымъ она, безусловно, была въ древности, – дабы символизмъ ея – борьба святого, рыцаря съ демономъ-быкомъ, чернымъ, какъ чертъ, – не былъ ничѣмъ замутненъ, дабы въ мѣрѣ большей рѣчь шла о катарсисѣ: если слѣдовало бы совершить epistrophe, возвратиться къ утерянному: къ позабытой своей сущности, – чтобы её вновѣ обрѣсть. Но возвращеніе вспять, къ жизнетворящимъ истокамъ, любого рода возвратный порывъ для Европы нынѣшней невозможны – мертвый орелъ не вылетитъ изъ гнѣзда, а полузасохшее старое древо не будетъ вновь цвѣсть.
И всё же героическое «Эй, торо!» стоитъ многаго – больше дѣлишекъ міра; но оно стоило бы неизмѣримо больше, если быкомъ («торо») былъ бы нѣкій красноярый быкъ, съ коимъ матадоръ сражался бъ одинъ на одинъ; быкъ тотъ – создавшій. Великолѣпна была бы тавромахія, если бы тореадоръ, перепрыгивая черезъ быка, перепрыгивалъ бы и законы создавшаго, всю трясину міра и вѣсь его морокъ, и приземлялся бы: по ту сторону, на иной брегъ. То была бъ та самая небесная белопламенная и лазурная игра, виннокрасная и багрянопылающая, игра, о коей писалось чуть выше; и выше которой нѣтъ, по-видимому, ничего на свѣтѣ и за свѣтомъ.
* * *Но если прекрасная природа – дочь своего отца, развѣ сердце дочери не его сердце? Развѣ ея сокровенная сущность не онъ самъ?
ГельдерлинъПрирода понимается у меня не на классическій (слишкомъ космическій) ладъ какъ инобытіе абсолютнаго духа (по Гегелю) и инструментъ его самопознанія: согласно сему подходу, онъ познаетъ себя, создавши свою противоположность; Духъ и природа – тезисъ и антитезисъ; синтезъ – человѣкъ.
Природа выступаетъ въ поэмѣ не какъ Bona Mater – хотя едва ли не всѣ геніи культуры всегда воспѣвали природу, будучи ею зачарованы и околдованы, здѣсь она понимается парадоксально иначе, тѣмъ паче сіе удивительно для романтизма: анти-минойски, вѣдь для минойцевъ вѣчно-умирающая и вѣчно-воскресающая природа (а также смѣна жизни и смерти, чередованіе временъ года, – словомъ, цикличность) – нѣчто наиважнѣйшее и глубоко священное; въ поэмѣ, напротивъ, она – наиболѣе удачное и опасное орудіе создавшаго, геніальная чара творца, сѣть, уловляющая души, уводящая отъ Я въ Себь. Возвышеніе человѣка надъ природой и рожденіе культуры, конечно же, взаимосвязаны, но далѣе онъ, человѣкъ, въ лицѣ лучшихъ своихъ представителей, подпалъ подъ нее (природа какъ храмъ), а въ лицѣ малыхъ сихъ – использовалъ какъ «мастерскую», на дѣлѣ служа природѣ, рабствуя у нея[63], ибо всегда являлся ея частью (служба природѣ справляется всякій разъ, когда мы потворствуемъ инстинктамъ и Себи; а не боремся съ собою, противоволя).
Сущность новоевропейской философии заключается в разрыве субъекта от объективного бытия, в переносе всех ценностей объективных глубин на субъекта и в обретении этой могучей, гордой, но одинокой личности, мечущейся по темным и необозримым пространствам опустошенного мира и стремящейся вдаль, вечно вперед, к туманной неизвестности, ибо только так и мог утвердить себя субъект, потерявший опору в твердом объекте и превративший все устойчивое в сплошное становление и искание. Параллельно этому наука в новой европейской культуре – и большею частью и вся философия – постулируют бесконечную, необъятную, оформленную только внешнемеханически вселенную в основе всех вещей, и в том числе всей истории и всего человечества».
Она всецѣло, глубоко ритмична, мѣрна, заданна, что означаетъ: она – несвобода, неволя. Ея бытіе – даже не дыханіе, а скорѣе – сердцебіеніе создавшаго. Она – лучшее изъ его твореній, ея чары для любого живого и впрямь необоримы, и слѣпота и мѣрность ей къ лицу. Ея ловушка коварна: вотъ роскошью своею бросается въ сердце, покорная, красотами себя являющая, молчаливо ждущая насъ, смиренная, какъ бываетъ смирененъ только Востокъ, сѣдой Востокъ, и – завладѣваетъ нами безъ остатку, всепожирающая, а покоренный думаетъ, что онъ здѣсь хозяинъ, что онъ начало активное; но не природа приходитъ намъ послужить (въ качествѣ храма или же мастерской), а человѣкъ приходитъ къ ней – послужить: какъ рабъ, влачащій ярмо; не человѣкъ вбираетъ её въ сердце по своей волѣ, а она бросается въ сердце человѣческое по волѣ своей (вѣрнѣе: по волѣ создавшаго). И уводитъ отъ Я: въ Себь.
Природа, какъ и міръ, понимается въ поэмѣ какъ майя, иллюзія, какъ путы, несвобода и уловка – и улыбка – создавшаго.
Но творящій, не-мѣрный, любитъ её – среди прочаго – и потому, что она въ ритмѣ своемъ и мѣрности даруетъ покой вожделѣнный, пріемлетъ въ лоно свое всё творящее, не-ритмическое, не-заданное, борющееся (а потому устающее отъ самого себя); она – ложе и лоно.
Для М. – она не храмъ и не мастерская: она послѣднее искушеніе, храмъ ложный, ложныхъ боговъ, заря-искусительница, заря неподлиннаго, кажущаяся подлиннымъ. И онъ отвергаетъ её. И съ тѣхъ поръ бытіе М. стоитъ подъ знакомъ не только боренія съ нею – въ себѣ и вовнѣ себя, – но и презрѣнія (которое выше боренія). – М. – снова – въ максимальномъ контрастѣ съ обставшей его дѣйствительностью: минойцы природны въ мѣрѣ наивысшей, они и природа – одно; М. – не только растождествляетъ свою личность съ нею, но и тщится быть противоположностью природѣ.
Мѣрность же понимается въ поэмѣ какъ заданный создавшимъ ритмъ дольнихъ сферъ, безконечное хожденіе по кругу и лабиринту, рабское и слѣпое, какъ себя пожирающій змій; и, какъ слѣдствіе, какъ духовная спячка и косность[64]. Закономѣрность – мѣрность – заданность. Именно Ариманъ отвѣчаетъ въ поэмѣ за мѣрность и ритмичность (сонъ, ѣда, циклы природы, также и просто привычки и «зависимости» – вплоть до движенья небесныхъ свѣтилъ), коими архонты держатъ не только человѣка, но и всё живое въ уздѣ. Ритмъ – основа вселенскаго бытія, сердцебіеніе его, мѣрное постукиваніе стрѣлокъ да шестеренокъ вселенскихъ часовъ міроустройства. Царство Аримана – это нѣчто, идущее по кругу, нѣчто самозамкнутое (совсѣмъ какъ себя пожирающій змій Уроборосъ: змій, свернувшійся калачикомъ и пожирающій собственный же хвостъ), самый кругъ, 0, vagina. Ему казалось бы противостоитъ, но на дѣлѣ его дополняетъ, иной богъ, иной архонтъ: Люциферъ – богъ-вспышка, богъ-молнія, богъ-громъ, – словомъ, мечъ, стрѣла, I, фаллосъ.
Съ пониманіемъ природы связано потому и пониманіе судьбы, которая не что иное, какъ узилище, оковы, орудіе создавшаго, коимъ онъ держитъ всё живое во страхѣ и смиреніи, нить, которой мѣрно подергиваетъ создавшій, кукловодъ par excellence, возсѣдая на сѣдалищѣ. Хотя такого рода пониманіе судьбы не встрѣчается въ міровой литературѣ, оно всецѣло гностично; но будучи таковымъ, оно тѣмъ не менѣе всецѣло мое: я говорилъ о судьбѣ какъ объ оковахъ, объ odium fati еще до всякаго, хотя бы и отдаленнаго, знакомства съ гностицизмомъ. Въ этомъ смыслѣ я гностикъ если не до, то внѣ гностицизма. И уже около десяти лѣтъ моимъ убѣжденіемъ является: на отъ вѣка религіозномъ amor fati зиждется вся рабскость міра, на нерелигіозномъ odium fati величаво покоится дерзновеніе его, порывающее съ міромъ и тщащееся прорвать заданность его.
* * *«“Тесей становится абсурднымъ, – сказала Аріадна, – Тесей становится добродѣтельнымъ!”… “Аріадна, – сказалъ Діонисъ. – Ты лабиринтъ. Тесей заблудился въ Тебѣ, у него уже нѣтъ никакой нити; какой ему нынче прокъ въ томъ, чтобы не быть пожраннымъ Минотавромъ? То, что пожираетъ его, хуже Минотавра”. “Ты льстишь мнѣ, – отвѣтила Аріадна, – но, если я люблю, я не хочу сострадать; мнѣ опостылѣло мое состраданіе: во мнѣ погибель всѣхъ героевъ. Это и есть моя послѣдняя любовь къ Тесею: я уничтожаю его”»
Ф.НицшеУченіе Дѣвы глубоко эсотерично. Оно – гностическое благовѣстіе, но съ большимъ креномъ въ сторону Люцифера, а вовсе не чистый гностицизмъ. Ученіе Дѣвы – не столько гностицизмъ, сколько чистый акосмизмъ (и въ этомъ смыслѣ оно есть люциферіанство). Оно – Откровеніе. Оно – Зовъ пробужденія: въ Ночи. Дѣва пробуждаетъ М. ото сна именемъ жизнь и возжигаетъ въ нёмъ искру, зачиная такимъ образомъ духъ его. Она учитъ М. прото-гносису[65] и указуетъ на Четырехъ (см. схему во 2 главѣ II части «Rationes triplices I»), обходя молчаньемъ Христа; она говоритъ объ опасностяхъ Іалдаваофа, Аримана (зла абсолютнаго) и Люцифера (зла относительнаго), котораго хотя и призываетъ опасаться, но говоритъ это такъ, что М., скорѣе, сдѣлаетъ всё наоборотъ (въ случаѣ съ Люциферомъ). Какъ итогъ: М. обманывается Люциферомъ (въ четвертой главѣ второй части) и принимаетъ послѣдняго за Отца Неизглаголаннаго. Далѣе М. всё болѣе и болѣе одержимъ Люциферомъ.
Идеальный гностикъ, чужеземецъ par excellence, долженъ и другихъ призвать къ – говоря неоплатонически – «бѣгству въ дорогое отечество», въ «тамошнюю отчизну», призвать къ возвращенію, пробудивъ еще-спящихъ. М. этого не дѣлаетъ и дѣлать не желаетъ. Высотой души онъ считаетъ безграничное презрѣніе: ко всему (включая столь исконно цѣнимую героями славу). Онъ не имѣлъ и не желалъ имѣть учениковъ и не подготовилъ дорогу – стезю неложную – для прочихъ, для имѣющихъ восходить. Избраннымъ считалъ онъ только себя, не желая дѣлить Свободу и Вѣчность съ кѣмъ-либо еще, какъ не желаютъ дѣлить съ кѣмъ-либо жену. И не желаетъ задерживаться въ дольнихъ пространствахъ: на Землѣ. Такимъ образомъ, М. – пробный шаръ Вѣчности въ дѣлѣ спасенія дольнихъ сферъ. Спаситель, спасающій только себя и едва ли пробуждающій прочихъ (однако менѣе всего его можно назвать пустословнымъ, безуспѣшнымъ, напраснымъ, – короче, пустоцвѣтомъ; ибо онъ въ высшей мѣрѣ не безплоденъ), ибо критскіе «прочіе» были съ наглухо запечатанными глазами, ушами и сердцемъ, а иные «прочіе», тѣ, что будутъ явлены во второй поэмѣ, весьма малые числомъ, хотя и пробудились, но не такъ, не туда и не въ то; Свѣтъ манилъ ихъ, но они скорѣе чуяли, чѣмъ видѣли его, и не вѣдали, ЧТО онъ есть, каковъ онъ, гдѣ онъ, и блуждали во тьмѣ, ибо были полу-слѣпы. Первый Спаситель, самый неуслышанный и не желающій быть услышаннымъ кѣмъ-либо изъ живыхъ, Спаситель, въ комъ очень мало духа Христа и очень много духа Люцифера, Спаситель, влекомый не только любовью къ горнему, но и чистою любовью къ злу, Спаситель, пригвожденный къ Голгоѳѣ, самолично и во имя свое, Спаситель, который – какъ духъ и какъ сознаніе длиною въ тысячелѣтія, явленное различными личностями въ различныя эпохи, – еще будетъ себя являть: вѣяніемъ міровъ иныхъ, Зовомъ о тамошнемъ и пробитой брешью между мірами, милостью которой и возможно всё высокое, имѣющее религію и философію какъ свою глубину, – пока не окончитъ свое дѣло въ мірѣ тьмы.
Вторая часть названа «теофаніи», богоявленія, и М. являются – помимо премірной и пренебесной Дѣвы, посланницы боговъ болѣе высокихъ, чѣмъ критскіе, – самое малое Ариманъ и Люциферъ (и поди разбери – Люциферъ ли былъ вскорѣ послѣ Аримана или же то былъ самъ Іалдаваофъ!). И поди разбери, не Люциферова ли посланница Дѣва? Появляются не просто боги, а тѣ, что надъ ними: Ариманъ и Люциферъ; но появляется и Герой, который станетъ важнѣйшимъ архетипомъ на послѣдующія тысячелѣтія; и ближайшіе по времени герои будутъ равняться на М., хотя чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе будутъ въ невѣдѣніи относительно него и его дѣяній.
Пусть читатель самъ для себя рѣшитъ: не Люциферова ли посланница Дѣва, прикрывающаяся Эпинойей свѣта? Или, несмотря на схожесть съ Люциферомъ, она и впрямь та Эпинойа свѣта, о коей говорятъ гностическіе источники, первѣйшимъ изъ которыхъ является апокрифъ Іоанна? Та, что отъ Метропатора, та, что есть внутренняя сокрытая сила пневматика, та, «которая названа жизнью», та, что должна быть исправленіемъ одной премірной ошибки; наконецъ, та, что открылась какъ мысль Адаму и Евѣ въ раѣ, пробудивъ ихъ мысль. Тѣмъ паче всегда подчеркивалась учительская роль Эпинойи. Или всё же Дѣва не Эпинойа? Не самъ ли Люциферъ – она: она – не Люциферъ ли, явленный Дѣвою? Ибо всё, плѣняемое Люциферомъ, входитъ въ роковое пике: курсомъ въ Ничто; говоря иначе: въ неизбѣжный крахъ и ночь. И кто погубилъ Критъ, предавъ его огню: М., землетрясеніе или ахейцы?
Ибо кому какъ не коварному Люциферу губить наиболѣе высокихъ изъ людского рода, вѣдь не-высокихъ губитъ Ариманъ? Кому какъ не ему хоронить всѣ высокія чаянія высокихъ (сперва вспомогая въ нихъ, а послѣ – коварно губя)? Если Дѣва и есть Люциферъ (помимо явленія его въ главѣ «Два разговора»), то неудивительно ученіе ея, всё, ею реченное, ибо оно губительно сказывается и на М. и на Критѣ: она не только противъ какого бы то ни было совмѣщенія духа и матеріи (при томъ духъ понимается какъ мужское a priori, а женское какъ матерія), она ихъ предѣльно и безповоротно разъединяетъ, доводя разстоянье межъ ними до бездны, что уже само по себѣ крайне люциферично, но и противъ самой матеріи и всего дольняго, земного. Дѣва та (которая не дѣва, а премірная, неотмiрная Дѣва, а на дѣлѣ, быть можетъ, попросту Люциферъ или его посланница) просто ненавидитъ дѣвъ (матерію, землю и пр.), но и учитъ тому М.; ученіе ея приводитъ къ размежеванію со всѣмъ что ни есть, оно разжигаетъ душу М., приводя его къ развоплощенію, и побуждаетъ къ бѣгству въ «тамошнее отечество», но бѣгство то куда болѣе поспѣшное и радикальное, нежели училъ Плотинъ и столь нелюбимые имъ гностики; ея ученьемъ герой сваливается въ люциферіанскій штопоръ и, видимо, погибаетъ въ концѣ концовъ. И этимъ губитъ не только жизнь М., но и возможныя его благоустроенія, всю возможную дѣятельность его на землѣ. Губитъ она именно избраннаго, кому – единственному – сказываетъ «бѣлыя словеса», и губитъ именно тѣмъ, что и какъ сказываетъ. Уводитъ сверхъ всякой мѣры отъ міра, доводитъ до несовмѣстимой съ жизнью и дѣяніями степени мироотрицанія, ненависти къ міру и проклятій въ его адресъ, предѣльной степени гордыни и каленія сердца, послѣ которой – только ночь, и тьма, и яркопламенная боль, и черная ненависть. И М. становится самимъ разрушеніемъ (поверхъ – ненависти, презрѣнія и пр.). Въ этомъ смыслѣ моя критская поэма есть поэма одного – доисторическаго – прельщенія. Люциферова прельщенія. М. – подъ Люциферомъ, а всѣ прочіе – либо подъ Ариманомъ (народъ и Имато), либо же подъ самимъ Іалдаваофомъ (Касато, Акеро). Если на вопросъ, почему и для чего Люциферъ губитъ именно М., думается, отвѣтъ очевиденъ, то, возможно, не слишкомъ ясно то, почему губитъ. Дѣло въ томъ, что и самъ Люциферъ проклятъ создавшимъ и обладаетъ чѣмъ угодно, но не духомъ любви, съ иной стороны не обладаетъ онъ и теплохладностью: остается лишь яркожалая всеразрушительная ненависть; и онъ заражаетъ собою избранныхъ, ибо неизбранныхъ собою заражаетъ Ариманъ – совсѣмъ какъ въ «Віѣ» вѣдьма желаетъ сдѣлать героя мертвымъ, какъ она сама.
Выше мы писали, что «бѣлыя словеса» Дѣвы не есть чистое гностическое ученіе; въ доказательство сказанному вкратцѣ разсмотримъ ихъ съ т.з. гностицизма. Развѣ гностики учили, что всё на землѣ есть зло, что нѣтъ на землѣ Отчаго? Нѣтъ, гностики учили о томъ, что міръ сей есть плодъ смѣшенія матеріи и духовныхъ началъ, отчаго. Гностикъ борется не съ космосомъ, но съ космосомъ-какъ-отчужденіемъ-отъ-Бога. Ученіе же Дѣвы акосмично сверхъ всякой мѣры. У гностиковъ не было представленія о самоубійствѣ какъ избавленіи, ибо освобожденіемъ и избавленіемъ является только личное знаніе – гносисъ; именно оно единственно и дозволяетъ разорвать цѣпь перерожденій (восточная эта идея явна у Карпократа и скрыто-меонально присутствуетъ и въ иныхъ гностическихъ теченіяхъ); въ противномъ случаѣ живое существо, не достигшее гносиса, не осознавшее земное какъ тщету, какъ нижераспростертое, и не отложившее попеченіе о дольнемъ, не разочарованное земнымъ, но имъ очарованное, будетъ вновь и вновь перерождаться, пребывая въ слѣпотѣ и тьмѣ – смерть какъ таковая не есть избавленіе. Далѣе. Дѣва учитъ о дѣвахъ какъ существахъ низкихъ, чему подтвержденія въ гностицизмѣ мы не находимъ; тамъ представленіе о дѣвахъ во многомъ противоположное. Іалдаваофа Дѣва рисуетъ излишне черными красками, обѣляя тѣмъ самымъ Люцифера; для гностиковъ Іалдаваофъ всё же не сатана и не квинтэссенція зла, но прежде всего слѣпое созданіе; онъ не начало и и не конецъ, но середина (ну да – та середина, которая есть чортъ, по Мережковскому) и посредникъ; всё вниманіе М. она сосредотачиваетъ на нёмъ и на твореніи его, но толкомъ ничего не сказываетъ ни о гностической тео- и космогоніи, ни о плеромѣ. Кромѣ того, Дѣва умалчиваетъ, что Софія дѣйствовала чрезъ иныя дѣянія создавшаго (а онъ въ слѣпотѣ своей того не вѣдалъ), потому міръ не такъ дуренъ, какъ то показываетъ Дѣва: въ мірѣ есть вѣянія Отчаго, явленныя милостью Софіи.
Люциферъ, сынъ Зари, проклявшій всё земное, – не добро вовсе, но и не зло абсолютное: онъ – противоядіе (и отъ Аримана, и отъ Іалдаваофа). Но къ чему приводитъ, ежели въ душѣ только Люциферъ, – объ этомъ, собственно, вся I критская поэма. М. иллюстрируетъ сіе. Именно поэтому въ поэмѣ нѣтъ однозначно положительныхъ героевъ, а однозначно отрицательныхъ достаточно. Есть герои ниже, есть выше, есть премного выше (М. и его «дама сердца» – премірная Дѣва), но и послѣдній едва ли въ полной мѣрѣ положительный герой.
Для меня Люциферъ есть сила крайне опасная, но необходимая, которую стоитъ использовать (но крайне осмотрительно, иначе она будетъ использовать тщащагося использовать её), чьими стезями стоитъ итти, но не въ полной мѣрѣ, а лишь отчасти, чтобы далѣе свернуть въ концѣ концовъ отъ него – къ Христу. И къ сему примѣнимо знаменитое Парацельсово «Alle Ding' sind Gift und nichts ohn' Gift; allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist»[66]. Но на первыхъ порахъ должно всё же быть больше Люцифера, чѣмъ Христа; послѣ же – больше вѣяній Христа, подлиннаго Христа, но соотношеніе въ душѣ духа Люцифера и духа Христа каждый (да!) избираетъ самъ.
Именно этого не удается М. И онъ падаетъ въ стремительномъ пике: въ небытіе и ночь. Здѣсь отсылаю читателя къ моей схемѣ изъ своей еще не изданной статьи «Rationes triplices I». Она опирается на мой мистическій опытъ и прозрѣнія и называется «Крестъ бытія». У каждой изъ 4 вершинъ Креста есть свой царь, правитель и ея владѣлецъ; и чѣмъ далѣе отъ центра – средокрестія – тѣмъ больше царствуетъ одинъ изъ Четырехъ, тѣмъ сильнѣе вѣянія его. Исторія, бытіе какъ таковое и бытіе каждаго въ отдѣльности – поле брани нѣсколькихъ силъ; или – если быть точнѣе: силъ Четырехъ; и человѣкъ – всегда ихъ проводникъ. – По нисходящей: вверху – премірныя силы, тамошнее, Единое неоплатониковъ, Богъ Невѣдомый гностиковъ, тамъ же и Христосъ; ниже и правѣе – Люциферъ; ниже и лѣвѣе – Іалдаваофъ; въ самомъ низу – во адѣ – Ариманъ; красною нитью, ритмомъ выступаетъ богъ времени – Зерванъ (понимаемый вовсе иначе – не какъ довременное двуполое существо иранской миѳологіи, породившее Ахура Мазду и Ангра Майнью, не какъ божество верховное, но какъ одинъ изъ архонтовъ; также и самое Время, царствующее въ дольнихъ сферахъ, противополагается Вѣчности, которая есть царица тамошняго). Несмотря на то, что ихъ Четыре, противоположностей двѣ. Парой противоположностей являются: съ одной стороны – Христосъ, св. Духъ и прочее горнее и тамошнее (Единое на языкѣ Плотина) – и Ариманъ какъ царь здѣшняго, царь плоти – съ иной; другая пара противоположностей – Іалдаваофъ и Люциферъ.
Въ «Rationes triplices I» о второй парѣ противоположностей говорится: «Однако помимо одной пары противоположностей – низъ и верхъ – имѣется и пара, идущая слѣва направо: она – линія восхожденія Я: отъ тотальнаго отсутствія Я, полоненнаго коллективизмомъ, полоненнаго Мы – направо до предѣла – до злого своеволья, до бѣсовщины и боли добѣла раскаленнаго Я, возогнаннаго, отчужденнаго и всеподавляющаго – по волѣ своей и только своей (которая и есть воля Люцифера, ибо Я есть Люциферъ). «Я – явное, ясное, яркое. Я – это Ярь», – говоритъ Бальмонтъ; при томъ у Бальмонта здѣсь рѣчь идетъ лишь о буквѣ алфавита.
Правая часть (движеніе направо изъ любой части схемы) = усиленіе Я: ибо Люциферъ (а это крайняя правая точка) есть Я. Безъ него нѣтъ Я: нѣтъ осознанія Я, ниже́ сознанія, ниже́ самого Я, ниже́ себя. Люциферъ есть духъ: но не Духъ, ибо для Духа надобенъ Христосъ. Люциферъ помимо того, что онъ – стихія Я, онъ также есть и стихія мужескихъ инстинктовъ, къ которымъ относится большая часть того, что мы привыкли считать благороднымъ; Люциферъ, конечно, не добръ, говоря морально, но сама діада Добро-Зло здѣсь непримѣнима.
<…> Слѣва – стихія Яхве, бѣса пустынь. Тамъ – христіанство неподлинное, историческое, кое есть сдѣлка съ Ветхимъ Завѣтомъ и искаженіе подлиннаго ученія Христа; тамъ, тамъ – смиреніе, униженіе, уничиженіе, скопчество духа и плоти, тамъ – безуміе Мы, тамъ еще нѣтъ Я, тамъ нѣтъ Личности. Говоря иначе: Движеніе отъ C къ B [то есть движеніе направо къ Люциферу] есть движеніе отъ коллективизма и обезличенности, отъ мнимо-добраго къ мнимо-злому, но при томъ и не самому глубокому виду Личности.
<…> Есть третья прямая, пересѣкающая точку пересѣченія координатъ, или 0, она исходитъ изъ лѣваго нижняго угла и устремлена до верхняго праваго угла: она – линія (или: стрѣла, лучъ) восхожденія, возрастанія Личности. – Въ нижнемъ углу я еще нѣтъ, въ правомъ верхнемъ – ея уже очень много. Почему для Личности стоитъ идти равно между Христомъ и Люциферомъ? Высшее – въ синтезѣ. Лучъ Личности идетъ ровно подъ 45 градусовъ между звѣздой Іисуса и звѣздой Люцифера. Я полагаю, что вопросъ, зачѣмъ надобенъ Христосъ для нея можно оставить безъ отвѣта, остается непроясненнымъ вопросъ, отчего Люцифера въ ней должно быть столь же, сколь и Христа? – Полагаю, что ежели его будетъ меньше или будетъ мало, то тогда столь же мало и Я, то есть всего ницшеанскаго, благороднаго, мужескаго, – что недопустимо для Личности въ ея максимумѣ. Съ иной стороны: Люциферовское Я, лишенное духа (или импульса) Христова, есть не только безумье, но также и нѣчто, рождающее иллюзію. Всѣ религіи, ихъ эзотерическое ядро и прочія духовныя ученія посвящены усмиренію своего Я. – Есть безуміе Мы, но есть и безуміе Я.
<…> Геній – тотъ, въ чьемъ сердце свилъ гнѣздо не только духъ Христа, но и духъ Люцифера (то есть Я, духа возвышеннаго и безмѣрно гордаго, ненавидящаго міръ и мірское); тотъ, кто въ сердцевинѣ своей сущности не имѣетъ духа ни Яхве-Іалдаваофа, ни Аримана. – Рѣчь идетъ о «Цезарѣ съ душою Христа», говоря ницшеански; или о князѣ Мышкинѣ, «идіотѣ», единовременно съ этимъ имѣющаго въ себѣ многое отъ любого байроническаго героя, съ толикою мѣтьюриновскаго Сатаны».
Люциферъ, «страшный и умный духъ, духъ самоуничтоженія и небытія», – себя пожирающій змій (но на иной ладъ, нежели природа).
Самое раздѣленіе двухъ видовъ зла – зла относительнаго (Люциферъ) и зла абсолютнаго (Ариманъ) – изначально восходитъ къ Штейнеру, но онъ разумѣлъ это нѣсколько иначе. Этого раздѣленія придерживается и Свасьянъ, его продолжатель. Въ критской поэмѣ на гносисъ наслаивается Штейнеръ съ его раздѣленьемъ Аримана и Люцифера и мой собственный мистическій опытъ…органически вплетаемый въ минойскія эпохи! Заимствуя Штейнерово представленіе объ Ариманѣ и Люциферѣ, осмысляя и творчески его преобразуя, я дѣлаю ихъ главнѣйшими слугами князя міра сего: архонтами, – тогда какъ въ гностицизмѣ этихъ боговъ попросту нѣтъ, и имена архонтовъ иныя, кои – всѣ семеро – суть чада Іалдаваофа. Змѣй (снова, согласно офитамъ) также есть сынъ его: восьмой, – рожденный отъ похоти создавшаго къ матеріи. Иные гностики считали, что самая Премудрость воплотилась въ Змѣя.
Согласно офитамъ – Змѣй – сынъ Іалдаваофа и Пруники. Искуситель Евы, давшій высшее знаніе. Сперва онъ зло, а послѣ помогаетъ Адаму и Евѣ въ раю преодолѣть заповѣдь Іалдаваофа, что расцѣнивается какъ высшее благо. За это Іалдаваофъ выгоняетъ Змѣя изъ рая въ дольніе сферы и навѣки проклинаетъ. Змѣй проклятъ Проклятымъ (Іалдаваофомъ). Отъ Змѣя рождаются 6 сыновей, что мѣшаютъ людямъ, мстящихъ за низверженіе отца своего, что, однако, не мѣшаетъ прославленію змѣя офитами за его совѣтъ людямъ въ раю. Однако наасены и нѣк. иные гностики, очевидно, раздѣляли двухъ змѣевъ – благого, коего славили, и дурного, сына Ялдаваофа. Но въ цѣломъ змѣй игралъ двоякую роль – и хтонически-хаотическую и надмирно-пневматическую.
Приведемъ слова Свасьяна – нѣкую вполнѣ гностическую гетеродоксію на свой ладъ, гдѣ онъ раскрываетъ свое видѣніе темы Люцифера: «Становление человека – carte blanche Сатаны: лицензия на зло, потому что в зле, через зло, силою зла мир не замирает в воскресности, а учится быть бодрым и будним. «Мир», говорит однажды Гёте[67], «это орган, на котором играет Господь Бог, а дьявол надувает меха». Не умей человек быть злым, у него не прорезались бы даже зубы. Грехопадение – религиозный дар, дар Я в животном, которое без этого дара оставалось бы просто райским телом: бесплотным, бесстыдным и бессмертным. Непонятно (теологически) одно: если Бог – это рай, а рай – неведение, то откуда в нем второе древо? Бог, говорит св. Иоанн Дамаскин, хотел, чтобы мы были бесстрастны и беззаботны и не делали ничего иного, кроме как «непрестанно и немолчно воспевали Создателя, наслаждаясь Его созерцанием и возлагая на Него наши заботы»[68]. Заботы! Какие еще заботы у бесстрастных и беззаботных! И разве для этого не достаточно было древа жизни! Зачем понадобилось еще одно: то, вкусив с которого, учатся различать добро и зло? Оно, продолжает святой отец, «должно было служить некоторым испытанием и искушением для человека и упражнением его послушания и непослушания». То есть, если древо познания и стоит в раю, то не для употребления, а для неупотребления. Совсем как в старом анекдоте про англичанина, который, после долгих лет жизни на необитаемом острове, был найден своими соотечественниками и объяснил им, почему ему понадобилось выстроить на острове три дома. Первый, так сказал он, – это дом, в котором я живу. Второй – клуб, в который я хожу. А третий – клуб, в который я не хожу. Соответственно, в райском раскладе: первое древо – это древо, с которого я вкушаю, а второе – то, с которого я не вкушаю. Богослов добавляет: наверное, вкушать с древа добра и зла дoзволялось только ангелам, чтобы они не просто были ангелами, но и знали про это; человеку это могло быть только во вред, как твердая пища младенцу, питающемуся молоком. Бедный богословский дьявол! Ведь и по сей день мало кто догадывается, кому мы обязаны нашей статью, прямой походкой, речью, мыслью, сознанием и самосознанием, знанием, культурой, историей, собой. Храни мы верность богословскому Богу, который сотворил нас, чтобы мы «непрестанно и немолчно воспевали Его», о нас можно было бы сказать словами Вольтера из его письма к Руссо[69]: «Я получил, сударь, Вашу новую книгу против рода человеческого, и я благодарю Вас за нее… Еще никогда не было затрачено столько ума, чтобы сделать из нас скотин… Так и хочется, читая Ваш труд, встать на четвереньки. Но, поскольку я вот уже более шестидесяти лет как отвык от этой привычки и неспособен, к сожалению, снова вернуться к ней, мне приходится предоставить этот естественный способ передвижения тем, кому он больше подобает, чем нам с вами. Ко всему прочему я не в состоянии сесть на судно и отправиться в Канаду к дикарям… Меня вполне устраивает быть мирным дикарем в одиночестве, которое я выбрал себе неподалеку от мест Вашего обитания, где и Вы, надо полагать, являетесь таковым же. От г-на Шаппюи мне стало известно, что Ваше здоровье оставляет желать лучшего; следовало бы восстанавливать его на свежем воздухе, наслаждаться свободой, пить вместе со мной молоко наших коров и щипать траву на наших пастбищах.



