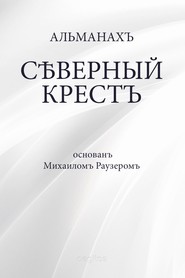 Полная версия
Полная версияСеверный крест
Если въ С.С.С.Р. имѣли мѣсто пятилѣтки за четыре года, то въ Россіи нынѣшней: пятидневки за четыре года.
Нѣтъ націи и народа, болѣе презирающаго законъ: что Аѳины, что Спарта (и даже Римъ[44]) – обѣ суть прямыя противоположности Россіи – какъ новой, такъ и Россіи старой, которыя – что первая, что послѣдняя – Востокъ, а потому тюрьма для свободнаго[45]. Свобода бываетъ свободою Ахиллеса, а бываетъ свободою Сергія Радонежскаго; о первой въ Россіи если и слышали, то не видѣли. Аристофобія, о которой говоритъ Ортега-и-Гассетъ примѣнительно къ Испаніи, въ еще большей мѣрѣ относится къ современной Россіи. И къ аристофобіи нынче добавляется еще и спиритофобія.
135. Дерзновенная отвага этих мужей достойна удивления, и, кроме того, [не менее поразительны] вот такие их слова. На пути в Сусы прибыли они к Гидарну (родом персу), который был начальником персидского войска на асийском побережье. Гидарн дружески принял спартанцев и за угощением спросил их: «Лакедемоняне! Почему вы избегаете царской дружбы? Вы можете видеть на моем примере, какое я занимаю положение – как царь умеет воздавать честь доблестным мужам. Так и вы, если предадитесь царю (царь ведь считает вас доблестными мужами), то он поставит каждого из вас, спартанцев, властителем области в Элладе». На эти слова они отвечали так: «Гидарн! Твой совет, кажется, не со всех сторон одинаково хорошо обдуман. Ведь ты даешь его нам, имея опыт лишь в одном; в другом же у тебя его нет. Тебе прекрасно известно, что значит быть рабом, а о том, что такое свобода – сладка ли она или горька, ты ничего не знаешь. Если бы тебе пришлось отведать свободы, то, пожалуй, ты дал бы нам совет сражаться за нее не только копьем, но и секирой». Так они отвечали Гидарну.
136. Оттуда спартанцы прибыли в Сусы и предстали пред царские очи. Телохранители прежде всего приказали им пасть ниц и поклониться царю до земли и хотели принудить их к этому силой. Однако они наотрез отказались, даже если их поставят на голову. Ведь, по их словам, не в обычае у них падать ниц и поклоняться человеку и пришли сюда они не ради этого, а по другой причине. После решительного отказа выполнить это требование они вновь взяли слово и сказали приблизительно так: «Царь мидян! Послали нас лакедемоняне вместо умерщвленных в Спарте глашатаев, чтобы искупить смерть их». В ответ на эти слова Ксеркс сказал, что по своему великодушию он не поступит подобно лакедемонянам, которые, презрев обычай, священный для всех людей, предали смерти глашатаев. Сам же он не желает подражать им в том, что достойно порицания, а потому не умертвит послов, но снимет с лакедемонян вину за убийство». Геродотъ Исторiя.
Государство задавило общество, его творческія способности, общество – винтикъ государственной машины, ненавидящее всё гордо-вздымающееся, самостійное, неподчиненное, свободное; это государство-Левіаѳанъ, Быкъ красноярый – съ волей къ уравненію и къ низведенію до низкаго уровня какъ своей цѣли; но задавивъ – дало нѣкоторое количество пресловутыхъ «хлѣбовъ и зрѣлищъ», ибо на чёмъ, если не на не менѣе пресловутомъ общественномъ мнѣніи оно и зиждется? Исторія не вѣдаетъ примѣровъ, когда государство и огосударствленное, грубое, военизированное неживое общество съ бурно расцвѣтшимъ бюрократическимъ аппаратомъ, съ націоналистическими, ура-патріотическими и околофашистскими идейками и нищенскимъ и бѣдняцкимъ сознаньемъ своихъ членовъ-винтиковъ не шло бы семимильными шагами къ своему краху и паденію, и послѣдніе, винтики, – изнутри, а не внѣшнимъ захватомъ, – прободаютъ нѣкогда живое тѣло общества: внутреннимъ гніеніемъ и разложеніемъ. Общество въ Россіи нынѣшней глубоко нездорово, это та стадія болѣзни, изъ которой если и можно вырваться, то лишь преодолѣвъ её въ самомъ дѣлѣ драконовыми мѣрами: у общества, не цѣнящаго своихъ лучшихъ людей (въ нашемъ случаѣ – общества ненавидящаго или презирающаго ихъ), – нѣтъ [нерабскаго] будущаго; вѣрно и обратное: то общество здраво, кое цѣнитъ своихъ лучшихъ людей.
Власть разсматриваетъ собственное населеніе какъ не то что рабовъ, но именно что какъ лишнихъ. Важнѣе то, что сами лишніе таковыми себя считаютъ. Казалось бы: у такой общественности (здѣсь умѣстнѣе совѣтское слово "общество") нѣтъ будущности (снова умѣстнѣе "будущее"). Анъ нѣтъ – есть: въ качествѣ не просто рабовъ, но именно лишнихъ рабовъ. Важнѣе, что власть причисляетъ и почти отсутствующую нынѣ интеллигенцію (въ старомъ смыслѣ) къ лишнимъ и дѣлаетъ всё, чтобы ея болѣе не было. – Такъ, въ частности, она извлекла урокъ С.С.С.Р. и подобныхъ режимовъ – книги надобно не запрещать, что лишь подогрѣваетъ – а иногда и попросту рождаетъ – къ нимъ интересъ, а сдѣлать элитарное – маргинальнымъ въ соціальномъ планѣ, презрѣннымъ въ оцѣнкѣ большинства; цѣна для власть имущихъ невелика – превращеніе Россіи въ «зону», стойло и отхожее мѣсто, а ея народа – въ быдло; да вотъ лишней оказывается самая власть (какъ болѣзненный наростъ) съ ея поддерживающей идеологизированной псевдо-культурою, поставленною на государственные рельсы[46]. – Культура Россіи новой есть отсутствіе культуры, помѣсь чорти чего съ чорти чѣмъ, худшая изъ возможныхъ, и не синтезъ, но хамская и пародійная эклектика, созданная ариманцами себѣ на потребу.
Мало кто из выдающихся артистов и писателей могут заниматься своей работой, не занимая служебную должность. Но и они следуют государственным директивам, выполняют государственные заказы, им платят, словно высшим чиновникам, а так как они хорошо и безоговорочно служат государству, то пользуются привилегиями высших чиновников. Что касается практической стороны дела, они имеют квазичиновничий статус». (К.Виттфогель. Деспотизмъ Востока. Сравнительное изслѣдованіе тотальной власти).
Правило: уменьшеніе оковъ слѣпого бога – съ послѣдующимъ за нимъ, но отнюдь не обязательнымъ, уменьшеніемъ оковъ государства – приводитъ къ разрастанію и возрастанію культуры, и наоборотъ. Это стоитъ напомнить знающимъ и повѣдать незнающимъ: особливо въ наше время – время уже свершившагося ариманическаго грѣхопаденія и заступившей духовной ночи. – Слишкомъ много въ Россіи было и будетъ людей культуры, которые не мыслятъ культуру неотрывно отъ своего государства, а государство – отъ своей культуры.
Государство, для котораго человѣкъ любой – всегда средство, а не цѣль, отъ вѣка использовало его въ цѣляхъ собственныхъ, нимало съ нимъ не считаясь. Личность и государство – одна изъ темъ критской поэмы. Хребетъ – и критскій, и русскій (соціальный, политическій, бытійный – какой угодно) – сломленъ: тысячелѣтіемъ рабства (снова типично восточная черта).
Частное (неофиціальное) лицо на Востокѣ стоитъ мало (въ глазахъ народа и не только народа); продолженіе руки правителя, человѣкъ государственный, даже самаго низкаго ранга, – вотъ что если не уважаютъ, то чего боятся[47]. Потому русскіе издавна стремятся не къ свободѣ, но къ положенію (быть частью системы, желательно повыше; не желающій быть частью системы традиціонно воспринимается въ Россіи какъ чортъ знаетъ что). Впрочемъ, оно оправданно – съ позиціи правды плоти, которая ничего выше покоя да счастья не вѣдаетъ: быть свободнымъ въ Россіи современной крайне непросто и чревато несчастьемъ, а потому лучше о ней попросту умолчать.
Онъ же, тамъ же: «Очевидно, что любезная ложь или умело предложенная взятка вовсе не являются оружием в борьбе за свободу».
Онъ же, тамъ же: «Население завоёванной страны рассматривает оккупационную армию как единое целое, хорошо зная, что власть рядовых солдат крайне ограничена. Так же и подданные гидравлического деспотизма видят в представителях аппарата единое целое, даже если ясно, что отдельные представители очень различаются по силе, богатству и социальному статусу».
Гордость и достоинство русскихъ сломлено: государствомъ, которое – своимъ народомъ – обезпечиваетъ на внѣшнеполитическомъ уровнѣ свои гордость и достоинство (а также внѣшнеполитическую щедрость и великодушіе, «помощь братскимъ народамъ», матеріальную, слишкомъ матеріальную роскошь бытія (а на дѣлѣ – прозябанія въ чувственномъ) элиты и т. д.), изрѣдка вырѣзая часть своего населенія, изрѣдка высылая его, но чаще низводя его – многоразличными способами и въ своихъ цѣляхъ – до уровня живого вѣчно-кроткаго орудія, выдерживающаго любыя, даже самыя дурныя условія, могущаго что угодно, но не возстать или же – болѣе мирно – завоевать тѣ или иныя свои права. Рабы, напротивъ, рабски защищаютъ рабскій режимъ. Ровно наоборотъ на Западѣ: не-рабы не защищаютъ не-рабскій режимъ: для человѣка Запада не такъ ужъ и важна суверенность государства (отсюда предоставленіе ключа отъ города (государства) Наполеону ли, Гитлеру ли – ср. съ ожесточенной бранью Россіи съ поляками, французами, позднѣе съ нѣмцами), его честь и его достоинство въ сравненіи со свободой и достоинствомъ самого человѣка; государственныя сферы, казалось бы, здѣсь приносились въ жертву Человѣку, на дѣлѣ же это была война – внутри того или иного европейскаго государства. Отсюда садизмъ русскаго государства относительно русскихъ и его мазохизмъ на внѣшнеполитическомъ уровнѣ.
Около десяти лѣтъ назадъ я писалъ: «И Россія новая, и С.С.С.Р. представляютъ собою не что иное, какъ видимость пересадки западныхъ идей на неприспособленную для того монгольскую почву». – Россія и впрямь всегда была проводникомъ чужихъ идей[48] (которыя суть размѣнная монета и надстройка надъ восточной сутью Россіи), своимъ подражаніемъ выполняя ихъ волю (вотъ уже поистинѣ – слѣпота!): сперва Византіи, далѣе на византинизмы прекрасно наложилась татарщина, далѣе – европейскія идеи, насаждавшіеся Петромъ и впрямь на большевицкій ладъ, тоталитарно, далѣе – самые большевики, наконецъ, – идеи «либерализма», «рыночной экономики», «демократіи», подъ видомъ которыхъ являетъ себя извѣчный русскій тоталитаризмъ (пусть и въ болѣе мягкой формѣ авторитаризма), – въ Россію какъ въ плодородную почву отъ вѣка и до вѣка падали западныя сѣмена, но прорастали они на слишкомъ ужъ православный ладъ. И если есть какая идея, скрѣпляющая Россію нынѣшнюю, то это аристофобія, спиритофобія, ксенофобія, гомофобія, націонализмъ, іерархизмъ, культъ матеріальныхъ цѣнностей, ресентиментъ по отношенію ко всему гордо-вздымающемуся… – Чего еще можно было бы ожидать отъ прямой противоположности меритократіи, гдѣ чернь и снизу, и сверху!
Въ сущности, въ Россіи современной нынѣ нѣтъ ничего, что не стояло бы подъ знакомъ подражательнаго повторенія (сюда: равненіе на Западъ (или Востокъ), равненіе на старину, на классику или же – напротивъ – на тенденціи побѣдившихъ С.‑А. С. Ш. и пр.). Застой это или регрессъ (оба самовоспроизводящіеся и ширящіеся) – пусть читающій рѣшитъ самъ. Но напомню ему: именно Востоку изначально свойствененъ застой, освященное традиціей топтанье на мѣстѣ; соціальная борьба есть роскошь Запада. – Востокъ, отъ вѣка и до вѣка гнетущій всѣхъ и вся, кромѣ одного, единственнаго, что свободенъ въ нёмъ, есть система всеобщаго рабства, царство количествъ, прикрывающееся царствомъ качества (для цѣлей вполнѣ дольнихъ – экономическихъ, властныхъ, геополитическихъ и пр.), дольнее, рядящееся въ рясу горняго, земное, выдающее себя за сакральное. – Востокъ какъ идеальный Іалдаваофій порядокъ.
Россіи нынѣшней какъ технократической цивилизаціи удалось залить бетономъ и заасфальтировать живое поле культуры[49]; но подобно тому, какъ иное растеніе порою прорываетъ и бетонъ, и асфальтъ, такъ и нынѣ культура въ немногочисленнѣйшихъ (самое большее – нѣсколькихъ, существующихъ какъ исключеніе) своихъ представителяхъ смогла прорвать тяжкій прессъ Россіи-цивилизаціи во имя Россіи-культуры. Стоитъ отмѣтить: какъ правило, прорывающій жертвовалъ собою, дабы дѣять сей прорывъ.
<…> Ренессансъ былъ явленіемъ, рожденнымъ тѣмъ самымъ возвратнымъ порывомъ, о коемъ упоминалось выше, явленіемъ, даро¬вавшимъ міру много плодовъ – сладкихъ, какъ медъ, и горькихъ, какъ полынь. Онъ былъ исходомъ изъ мрака, изъ застоя, оставаясь самымъ яркимъ примѣромъ выхода изъ культурнаго тупика и понынѣ; былъ онъ удачною попыткою обернуться назадъ, и окинуть взглядомъ пройденный великій путь, и, переосмысливъ его, содѣлать возвратный порывъ къ – казалось бы – давно ушедшему. Намъ представляется, что нынѣ ренессансъ въ тѣхъ масштабахъ невозможенъ въ силу многихъ условій. Но всё же мы полагаемъ: на ренессансъ въ охватѣ меньшемъ можно (и надобно) уповать. Добавимъ, что культурѣ онъ необходимъ нынѣ болѣе всего прочаго. Его созиданiе есть борьба ожесточенная съ тѣмъ мракомъ, съ тѣмъ засиліемъ «новыхъ формъ», уродли¬выхъ формъ и нормъ постмодернизма, гореносныхъ и гореродныхъ, и прочихъ разновидностей открыто явленнаго абсурда. Возрожденіе новое (возрожденіе, рожденное немногими для немногихъ) возмогло бъ отвоевать у Времени черту положенныхъ сроковъ, – проливши в мiръ сей свѣты горнiе, – отложить на время окончательное торже¬ство уже заступившаго Хаоса, конечной побѣды коего не миновать и вовѣкъ не избѣгнуть… – Въ сердце печали льются в часъ недо¬брый – когда Солнце не кажетъ себя, всё въ тучахъ, въ темяхъ, мглѣ…но наше дѣло – не отдаваться скорбямъ, не пассивно-униженно ждать небесъ рѣшенье, но съ подобающимъ всему высокому достоинствомъ встрѣтить неотвратимое и, – презрѣвши дольнее и отложивши попе¬ченіе о немъ, – обрушить гневы свои – на него, парируя неожиданные его удары, ибо мы есмы чада Свѣта, и намъ подобаетъ свѣтить ярко, не становяся блѣднѣе – никогда, никогда…» Раузеръ М. Вступительное слово//Альманахъ «Сѣверный крестъ». Москва, 2020.
Моя критика современной Россіи относится въ первую очередь къ Москвѣ какъ сердцу Россіи и какъ центру ея – проводнику новодельныхъ губительныхъ тенденцій: менѣе всего я хотѣлъ бы такъ или иначе принизить отдѣльныхъ замѣчательныхъ лицъ, обитающихъ въ Россіи, до коихъ человѣку Запада очень далеко.
Но Москва – не только проводникъ невмѣняемой ариманики, но и губитель всего превышающаго средній уровень. – Уникальность современныхъ московитовъ, которые ошибаются ровно во всёмъ, которые не правы въ каждомъ своемъ шагѣ, помышленіи, дѣяніи, – въ томъ, что если въ иныя эпохи (любыя эпохи суть эпохи много болѣе сильныя) за благородство, которое можетъ себѣ позволить только сильный, всегда, платили уваженіемъ, – здѣсь платятъ, скорѣе, униженіемъ: молчаніемъ и крученіемъ и виска (за глаза, конечно).
Послѣ отъѣзда изъ Москвы я написалъ въ дневникѣ: «Мое пребываніе въ царствѣ компромисса, ариманической ненасытимости, королевствѣ кривыхъ зеркалъ и неизбывной темной перверсіи, въ одномъ перевертышѣ – гдѣ «слуги народа» лѣзутъ изъ кожи вонъ, чтобы быть какъ можно далѣе отъ народа, а самъ народъ былъ бы униженъ до извѣстнаго предѣла, и гдѣ вчерашніе совѣтскіе двоечники и гопники вдругъ стали отличниками и элитою, короче, ноли превратились въ единицъ, – въ столицѣ скверны, родинѣ ressentiment, гилетическомъ храмѣ и хламѣ, раззолоченной золотой клѣткѣ, испачканной нечистотами всѣхъ мастей и родовъ, узилищѣ создавшаго, тьмѣ незнанія, морокѣ отъ горизонта до горизонта – словомъ, въ безднѣ, кромѣшной тьмѣ и духовной ночи: въ отъ вѣка и до вѣка нищей Москвѣ (ибо что быть можетъ болѣе нищимъ, чѣмъ либо азіатски-дикая, либо нѣсколько болѣе культурная, но и болѣе трусливая мелкобуржуазность, космически-статусно-слѣпая и новодельно-пластмассово-цифровая) подошло къ концу – еще въ тѣ достопамятные годы, когда родилось мое Я; пребываніе въ Москвѣ моей плоти лишь нынѣ окончилось: въ Москвѣ, плотяно-вещно-матріархальной, напрочь и до бреда и до рѣзи въ глазахъ (для слабыхъ: до слезъ) овосточенной столицѣ ресентимента и – единовременно – «позитива» (зависитъ отъ кармана, который слѣдуетъ поскорѣе набить, чтобъ казался потолще, да держать навыпускъ: для вящихъ профитовъ. – Поистинѣ: "Счастье найдено нами", – стоятъ и моргаютъ ариманцы, примагниченные френдами-брендами-трендами и прочими "статусами" (короче: плотью подвигаясь къ плоти, пылью – къ пыли), не понимая остатками-останками недо-переваренныхъ недо-мозговъ: «позитивъ» не имѣетъ отношенія къ карману, карманъ не имѣетъ никакого отношенія къ счастью, а счастье – ко всему, что чего-то да стоитъ; въ сущности, слава, ея алканіе и стяжаніе, – и та выше)…въ Москвѣ, родинѣ гилетизма, послѣднихъ людей, матеріи, матери всего зримаго, изъ матки коей вылупляется-вываливается – по кругу, безконечно – скользкая, влажная, блестявая новорожденная матерія въ смерть именемъ жизнь. – Зрѣлище забавное, принуждающее презрительно улыбнуться, но надоѣдающее и дурнопахнущее (Москва какъ vagina князя міра сего, прыщъ на тверди земной, воронка и черная дыра, подобно губкѣ вбирающая въ себя всё худшее со всего міра и ото всѣхъ временъ), и въ своей надоѣдливости въ концѣ концовъ обкрадывающее странника и чужеземца, что въ поискахъ жемчужины (а никакъ не опарышей); впрочемъ, онъ и самъ – жемчужина (въ иномъ раскладѣ: бѣлая перчатка, брошенная въ лицо создавшему). Если ужъ матерія – къ матеріи, ариманцы – къ Ариману, однодневки – къ однодневному, эфемериды – эфемерно – къ эфемерному, то и, съ позволенія сказать, духъ – къ духу (не всё жъ игра въ одни ворота).
Московиты всѣхъ возрастовъ, половъ и кошельковъ, коимъ я всегда, въ сущности, былъ не по вкусу, какъ въ горлѣ кость (и съ иныхъ поръ желалъ быть ею), нѣкогда годились на роль шутовъ, подопытныхъ кроликовъ и на роль препоны, пробуждающей и побуждающей къ иной дѣятельности; но нынѣ они не годны и для сего – лишь смрадъ, лишь напрочь испорченный воздухъ; листья облетѣли и новыхъ не предвидится.
Я выжалъ изъ нея всё, что только можно было выжать, какъ выжимаютъ порою тѣ или иные прибытки изъ дурныхъ условій; но то дѣло сильныхъ; цѣною выступала – ни много ни мало – жизнь.
Выхожу не то изъ кельи, не то изъ крѣпости, находящейся въ осадномъ положеніи, изъ коей я отстрѣливался тысячью страницъ созданныхъ въ ней невозможныхъ произведеній, молнійно-лазурныхъ и багрянопылающихъ, но скорѣе изъ заброшенности въ самый тылъ врага, и выхожу я на свѣжій воздухъ заслуженнаго отдохновенія седьмого дня (длиною въ отмѣренные плоти сроки, короче, до конца жизни): въ Жизнь (въ московитскомъ раскладѣ: въ жизнь именемъ смерть)».
Москва нынѣшняя, въ чуть меньшей мѣрѣ Москва прежняя (и московиты – въ первую очередь пріѣзжіе – "покоряющіе"), куда самое постыдное, грубое и пошлое устремляется, находя свое пристанище и послѣ правя балъ, цѣнна въ первую очередь тѣмъ, что она указуетъ: какъ не должно [быть], говорить священное Нѣтъ, когда она вопитъ Да въ матріархальномъ своемъ угарѣ, говорить Да, когда она вопитъ свое плотяно-мнимо-сакральное Нѣтъ. Она учитъ плыть противъ теченія и быть вопреки. Она – компасъ. Но для пользованія симъ компасомъ еще надобно быть богомъ. Ибо въ иныхъ случаяхъ пересѣченіе съ гиликами-психиками нежелательно: не только крадетъ оно счастье, но и приноситъ вредъ для лучистаго его бытія (въ т. ч. для творчества человѣка духа). Гилики-психики суть пыль, и даже если пыль будетъ кланяться пневматику – отъ того не легче: пыль не перестаетъ быть пылью, а смрадъ – смрадомъ. Что на Критѣ, что въ современной Москвѣ попросту нѣтъ воздуха для него, дабы цвѣсть, а не чахнуть въ пыли, рожденной всеобщей Матерью всего зримаго. Что Критъ, что Московія и знать не хотятъ, что есть помимо маленькой правды плоти – колоссальная, исполинская правда духа и что хотя бы одинъ лишь здѣшній міръ живетъ не только лишь по правдѣ плоти, но и по правдѣ духа: при казалось бы вѣдѣніи земного (ибо сами земные) они не вѣдаютъ, что въ мірѣ дѣйствуютъ иные законы и что помимо законовъ плотяно-земныхъ есть на землѣ и иные законы, много болѣе высокіе, но имъ невѣдомые; не вѣдаютъ они и иного божества, кромѣ иностранной банкноты, сколь ни прикрывались бы инымъ (чѣмъ попало на дѣлѣ). Однако столь неудобныя для прорастанія почвы надобны: какъ первая ступень, какъ военная школа. – Москва – градъ, который палъ, надобный падшимъ для паденія дальнѣйшаго, не-падшимъ – для дальнѣйшаго восхожденія, возгонки, духовныхъ побѣдъ (но, какъ отмѣчалось, для бытійствованія вопреки надобно еще быть богомъ – пневматикомъ, которыхъ въ Москвѣ часу отъ часу всё меньше и нынѣ ихъ дай богъ нѣсколько, если не того меньше; бытійствованіе строго вопреки при нахожденіи въ самомъ логовѣ врага – дѣло сильнѣйшихъ, остальныхъ сіе ломаетъ и они ассимилируются Москвою, пополняя ряды психиковъ, если не гиликовъ).
Именно поэтому квинтэссенція Запада (какъ плодъ ея – человѣкъ фаустовской культуры) нарождается въ наше время въ единичныхъ, чтобы не сказать въ единственномъ, экземплярахъ именно на Востокѣ: какъ трава, прорастающая чрезъ асфальтъ, какъ соль – не земли, но неба: бытійствуя, т. е. жительствуя вопреки, свѣряя курсъ собственнаго бытія по бытованію малыхъ сихъ, исходя изъ закона: что для русскаго (восточнаго) хорошо, нѣмцу (человѣку фаустовской культуры) – смерть[50]; въ иномъ раскладѣ: что гилику/психику хорошо, пневматику – смерть (и наоборотъ). Потому для пневматика губительны любыя условія, когда и гдѣ ему не приходится задѣйствовать волю, плывя ровно противъ теченія. Въ этомъ смыслѣ чѣмъ толще асфальтъ, чѣмъ его количественно больше, тѣмъ лучше прорастаетъ сія рѣдкая, слишкомъ рѣдкая трава. – Сплошныя благообразіе, и пошлость вселенскихъ масштабовъ, и безраздѣльная плотяность гиликовъ – не есть ли сіе лучшія яства для Освобожденнаго, для Единственнаго? Царство срединности, то есть чорта, – не лучшее ль мѣсто для пневматика? Тутъ-то и сознаетъ, кто онъ, и выстраиваетъ бытіе свое – вопреки[51]. – Духъ пронзаетъ и познаетъ плоть, дабы стать духомъ въ еще большей мѣрѣ; потому и пневматикъ (какъ носитель духа) познаетъ плотяныхъ гиликовъ (какъ носителей матеріи), дабы обрѣсть чистоту вящую. Не потому ли темнозаревая звѣзда М. взошла вопреки всему: на самыхъ чуждыхъ ему почвахъ? Но пневматику еще слѣдуетъ – вполнѣ неоплатонически – совершить возвращеніе-обращеніе-эпистрофе въ нездѣшнюю свою родину (вѣдь сперва онъ былъ въ ней (mone), далѣе было исхожденіе (proodos) въ дольнія сферы; epistrophe – путь назадъ: домой). Именно поэтому М. и совершаетъ неоплатоническій "возвратный порывъ" и возвращается – во вѣки вѣковъ – туда, откуда исшелъ. – Остается добавить: кѣмъ же я хочу быть для «дорогихъ россіянъ»? Отсутствующимъ: никѣмъ, ничѣмъ[52]. Любое взаимное отторженіе есть нѣчто должное и того болѣе нѣчто желанное. – Словами М. о самомъ себѣ: «Но свиньи любятъ теплыя свои грязи, а мошкара – свѣтъ пламени. Но свиньи и мошкара еще надобны мнѣ, дабы не быть – вами – и быть тѣмъ, кто я есмь. Спасибо вамъ, что вы есте, ибо вы – не солнце и не обманный лунный лучъ, но путеводная звѣзда недолжнаго! Всѣ вы и каждый по отдѣльности – деревянныя звѣзды, глядя на которыя, я гряду – прочь отъ васъ и убожества вашего и отъ міра и смрада его: я, грядущій во имя свое!»; и: «Не мѣняю [ихъ], ибо души ихъ мокры. Илъ и тину – не претворить въ огнь, стрѣлу и камень. Нѣтъ! Довольно! Я просвѣщалъ ихъ свѣтомъ, но они – тьма – остались во тьмѣ. Но тьма еще растаетъ. Ибо пріидетъ Свѣтъ съ Востока: то будетъ вѣяніемъ лазури. Реченное Дѣвою – святыня наивысшая и богатство неисчерпаемое. Нѣтъ на землѣ ученія благороднѣе, ибо оно не отъ земли, но отъ неба; оно – жало неба… Отнынѣ родъ людской раздѣленъ на многихъ и немногихъ, и прежнія ученія, ученія ложныя и злыя, жала земли, прекращаются для всего высокаго. И только для нихъ! Низкіе же да пребудутъ низкими, какъ и надлежитъ, и да пребудутъ ступенями для высокихъ. И для послѣднихъ я еще желалъ бы быть послѣднимъ, ибо первымъ для нихъ я уже былъ, хотя того и не желалъ; богомъ для нихъ я уже былъ, но не былъ червемъ; впрочемъ, на то времени нынче нѣтъ; и ничѣмъ и никѣмъ – до встрѣчи съ Нею – я уже былъ; но послѣднею моею волею будетъ: быть внѣ ихъ, – что вскорости и произойдетъ, ибо я желаю оставить слѣпыхъ. Знаешь ли, я лишь радъ тому, что они неспособны къ тому, что бездна безднъ межъ насъ». – Москву и каменнолицыхъ, каменносердечныхъ и пріапически-витально-распухшихъ московитовъ остается поблагодарить за возможность – вопреки имъ – написать сію поэму, чего въ болѣе благопріятныхъ условіяхъ быть не могло. Да, поблагодарить, а не послать ихъ къ ихъ чорту: чорту именемъ богъ.
Посему я никто и по ту сторону, внѣ всего (въ т. ч. внѣ эпохи современной, меня не породившей, но также и внѣ эпохъ, что приложили руку къ тому) – ради моего Я. – Я единственный не въ послѣднюю очередь милостью того, что не принадлежу ни одной изъ эпохъ, ни одному классу или сословію, ни одной націи.
Часто цивилизаціи дѣлаютъ попытки (въ случаѣ консервативной своей направленности, но скорѣе, если имѣютъ новодельное происхожденіе, дабы удревнить, состарить собственную убогую сущность) «примазаться» къ культурѣ, используя культуру и какъ щитъ, и какъ размѣнную монету, и какъ удостовѣреніе sui generis, которымъ заслоняютъ собственное духовное банкротство. Попытки такого рода – всегда съ припахомъ чего-то лишеннаго корней, карикатурнаго, шутливаго, хрупкаго, картоннаго, – словомъ, съ припахомъ новодельной пластмассы. Культура прорастаетъ сквозь цивилизацію (въ нашемъ случаѣ – черезъ современную Россію), хочетъ того цивилизація или нѣтъ; культура о томъ её не испрашиваетъ: она растетъ по собственному манію. Но она прорастаетъ не въ каталогизаторской дѣятельности (вѣрнѣе, пустодѣйстве, ибо «традиція – это передача огня, а не поклоненіе пеплу») Институтовъ философіи и попросту въ современной гуманитарной наукѣ, которая есть не что иное, какъ обреченное на забвеніе комментаторство, изначально мертвой, но въ живыхъ словахъ живыхъ, творчески продолжающихъ тѣ или иныя культурныя традиціи. Для комментатора что Василискъ Гнедовъ, что Андрей Бѣлый – явленія одного порядка, потому что они суть представители одной эпохи; по этой же логикѣ и К.Свасьянъ – въ первую очередь (если не въ единственную) «докторъ философскихъ наукъ», какъ и было написано (издателемъ) на обложкѣ одной изъ его книгъ; впрочемъ, кто для комментаторовъ Свасьянъ (а на мѣстѣ Свасьяна здѣсь окажется любой подлинно творящій подлинное) выразилъ комментаторъ Перцевъ: не русскій Свасьянъ, оказывается, но русскоговорящій, какъ намъ и повѣдалъ Перцевъ (отсылаю читателя къ отвѣту Свасьяна Перцеву въ статьѣ съ шутливо-немыслимымъ названіемъ «Перцевъ и Ницше»)[53].



