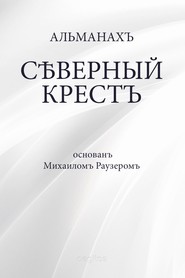 Полная версия
Полная версияСеверный крест
Однимъ словомъ, и воля, и духъ, божественная искра, безъ которой не можетъ быть личности, сознательности, Я понимается какъ тамошнее, какъ то, что не отъ міра сего (не потому ли умъ мыслитъ идеалистически – скажемъ, прямую мыслитъ онъ какъ идеальную прямую, а въ жизни она кривая?). Если и считать что-либо существующее въ здѣшнемъ мірѣ нездѣшнимъ, то именно духъ, дѣйствующимъ не по дольнимъ законамъ, что видно не только по упомянутой выше прямой; равно и волю, которая болью тѣла дѣетъ то, что отъ духа.
Въ поэмѣ атакуется самый подходъ, согласно которому возможно-де благотворное соединеніе плоти, себи, матеріи и духа, воли, Я. – Взыскиваемый (и едва ли обрѣтаемый въ личной судьбѣ его) Штейнеромъ синтезъ духа и плоти – лишь алканіе нѣмцемъ цѣльности: въ формѣ каламбура: нѣмецъ есть либо плоть мыслящая, либо мысль плотствующая; точнѣе: если русскій – душа: сплошная душа съ тѣломъ и духомъ какъ придатками, а иногда и рудиментами, доставшимися по наслѣдству, то нѣмецъ – либо тѣло (какъ нынѣ), либо же духъ (какъ ранѣе): души, стихіи въ нёмъ отъ вѣка и до вѣка было мало, крайне мало. Русскій синтетиченъ, нѣмецъ – люциферикъ въ томъ смыслѣ, что всегда имѣетъ зазоръ, скорѣе разрывъ (а то и бездну) межъ своимъ духомъ и своимъ же тѣломъ (даже случись ему взыскивать, алкать цѣльность).
Позволю себѣ здѣсь процитировать К.Свасьяна: «Сознание, загнавшее себя в тело, заблуждается, без того чтобы оно осознавало себя заблуждением, но и тело с таким сознанием «внутри» себя никак уже не может быть по-прежнему «нормальным». Реакция тела на портящее его сознание носит название болезнь. Болезнь – это способ, которым совершенное сознание, оригинал сознания (дух) дает о себе знать узурпировавшей тело копии сознания, делая её сознанием боли, или напоминанием о её первородстве. В этом смысле можно говорить о болезни как о светящихся в телесной тьме маяках сознания, предвещающих пробуждение в смерть из сна растительно-животной жизни»[15]. Еще одна – еще болѣе важная – его цитата (изъ его книги «Европа. Два некролога»): «Есть некая бесстыжесть в том, когда, рассуждая о „природе человека“, выдают эту природу за собственность каждого отдельного человека и выражают её притяжательными местоимениями. Но человеческая природа лежит не в (картезианской) шишковидной железе, не где-нибудь еще „в“ этом вот человеке. Она есть, с позволения сказать, мысль, и, как таковая, ни «моя», ни «твоя», а подчеркнуто и неопровержимо: мысль мира. „Моя“ мысль – это просто недомыслие или языковая привычка, по аналогии с „моей“ гипертонией или, скажем, „моим“ обменом веществ. Очевидно, что в обмене веществ, свершаемом на «мне» миром, я повинен не больше, чем дерево в «своем» росте или морская галька в «своей» гладкости, т. е., говоря со всей определенностью, я тут ни при чем. „Мой“ обмен веществ осуществляется без моего участия, хочу сказать: даже в качестве ученого физиолога я не обмениваюсь веществами, а только извне заключаю к свершаемому на «мне» обмену веществ, никак не желая взять в толк, что действительный СУБЪЕКТ этого процесса, милостиво позволяющий мне иллюзию собственнического сознания, – МИР, который я по философской недогадливости всё еще рассматриваю как объект. Со всей строгостью: я был бы вправе говорить о „моем“ обмене веществ (по существу, любом телесном процессе) лишь в том случае, если бы в моих силах было сознательно производить его, т. е. изживать некий процесс мира как самого себя. Так же обстоит дело и с мыслью, хотя в отличие от бессознательно-телесных отправлений шансы на притяжательное местоимение здесь УЖЕ реальны и осуществимы. Именно: моя способность мышления есть умение осознавать и сомыслить мыслящую меня мысль мира, т. е. мысленно рекапитулировать её становление в артикулированно логических усилиях воссоздания. Если же признать, что условием мысли является её помысленность, то и к природе человека апеллируют тогда лишь, когда природа эта мыслится, а, не скажем, ощущается или смакуется». И последняя, пожалуй, самая важная: «Таблица категорий, варьируемая от Аристотеля до Канта, дополняется в Штирнере новой и невозможной категорией. Более того: подчиняется ей. До всякой сущности, субстанции и чтойности здесь проставлено Я. Выяснилось: философы в усилиях познать мир упустили из виду «слона» (самих себя). Отсутствие Я («ктойности») в учениях о категориях было, впрочем, не столько упущением, сколько логически вынужденной слепотой. Категории, как высшие роды бытия, являются пределами обобщения, и поместить среди них индивидуальное можно было бы, только обобщив последнее. Но обобщить индивидуальное, значит устранить его. Говорить о человеке вообще, как говорят о столе вообще или льве вообще, средствами традиционной логики нельзя. Стол вообще или лев вообще возможны лишь в той мере, в какой их мыслят, а мыслит их некто логик. Не вообще логик, а вот этот вот. Но очевидно, что и логик, чтобы быть вообще логиком, должен быть помыслен. Кто же мыслит логика вообще? Разумеется, это может быть только кто-то конкретный, вот этот вот. Но чтобы мыслить себя вообще, то есть в сущности и как сущность, ему предстоит сущность эту в себе сперва осуществить. Реальные столы и реальных львов мы преднаходим, и, уже найдя их, мыслим их в их понятии. Преднаходим ли мы и себя, до всякой мысли? Неким напрашивающимся ответом был бы биологический минимум (человек как вид), если бы и для этого минимума не требовалась уже мысль. Но человек – это не биос, а логос, что значит: сущность его, или его понятие, которое, как понятие, должно быть общим, может в его случае быть только индивидуальным. Переход из зоологии в антропологию – metabasis eis allo genos. Потому что, если биологически есть только одно понятие человек, то логически (антропо-логически, а не зоо-логически) существует столько же понятий человек, сколько существует людей. Я нередуцируемо. Каждый человек в Я есть собственное понятие. Пусть, скорее, в смысле дюнамис, чем энергейа, но как раз переходом первого во второе и определяется мера человеческого в нем. Человек – это не природная данность и не социологический респондент, а должность, ранг, чин, призвание, если угодно. Человеком являются не по конституции (где речь идет о гражданах), а по самоосуществленности. Чтобы мыслить себя как человека, надо сделать себя сперва человеком. Иначе: так реализовать свое единичное, чтобы по нему затем и определялось всеобщее"[16].
* * *Циклъ “Ex oriente lux” – пролегомены къ «Послѣднему Кризису», къ моему opus magnum, и повѣствуютъ пролегомены сіи о разнаго рода высшихъ людяхъ – безразлично, святые ли они или великіе грѣшники, добрѣйшей ли они души, или злы, какъ самъ Сатана, тишайшіе и смиреннѣйшіе ли они или обуянные сатанинской гордынею, интеллектуальны ли они или же они суть грозные воители, которымъ нѣтъ дѣла до книжной мудрости, цари ли они или нищіе.
Какъ сказалъ бы православный неправославнымъ языкомъ: М. прошелъ черезъ Сциллу Ариманову, но ввергся въ Харибду Люциферовыхъ искушеній. – Слова М. о самомъ себѣ – «Прочь отъ естества!» – ключъ къ разумѣнію М. – Онъ – въ первую очередь не люциферикъ, но люциферіанецъ[17]. – Здѣсь рѣчи не идетъ ни о нирванѣ, ни объ усмиреніи себи на манеръ люцифериковъ-христіанъ (казусъ «историческій христіанинъ»), или буддистовъ, или Шопенгауэра. Ибо не отъ Я отрекается Я М., но отъ міра, матеріи и плоти; и не желаетъ перестать быть М., но, скорѣе, желаетъ, чтобы міръ пересталъ быть. Въ М. нѣтъ вивисекціи Я, Воли, высокихъ страстей; потому онъ – живой, вѣчно-живой. Для православнаго одержимость любою страстью есть грѣхъ и не-свобода; для насъ: лишь одержимость страстьми низкими есть не-свобода, но М. одержимъ высокимъ, къ коему влекутъ – неудержимо – духъ его и Воля. Нѣтъ Свободы безъ Я, безъ Воли и высокихъ страстей. Нужно еще быть слишкомъ христіаниномъ, слишкомъ мало оторвавшись отъ материнской своей звѣзды, чтобы въ пламенности М. увидать слѣпоту – по той простой причинѣ-де, что лишь спокойная мудрость есть близость божественному[18]. – Страсть М. есть небывалая и невозможная роскошь: на гноящемся тѣлѣ Геи-Матери.
Кто такие люциферики? Эти малые любят играть в сатанинские или околосатанинские игры. Мы с тобой, конечно, не люциферики и не люцефериане, а люцеферианцы, не гностики, а гностиканцы. Невозможно назвать цистерианцев цистериками, пресвитериан пресвитериками и т. д. Суффиксы существенно меняют смысловую нагрузку слова. Что касается Аримана и его приспешников, то их стрелы бумерангом возвращаются от нас к ним самим.
Позволю себе высказать ересь и усложнить проблему Люцифера и его последователей люцифериков и люциферианцев. Если первые действительно подпадают под версию бесповоротного падения, то со вторыми положение иное. Бог, сотворив наш мир, позволил себе почивать и занял позицию Наблюдателя за дальнейшем ходом жизни на Земле. Люциферианцы в уверенности, что Бог их поймет и одобрит, решились стать стражами и сотворцами Бога, дабы жизнь на Земле не была попущена из-за пассивной позиции Наблюдателя. Конечно, в этой уверенности есть доля самоуверенности, но без активности люциферианцев жизнь неизбежно замирает, истощаясь в своих потенциях.
Жизнь чахнет, становится мертвой дистиллированной водой без вечного противостояния Добра и зла, Божественного и демонического, аполлонического и дионисийского. В этом вечном противостоянии залог продолжения жизни на Земле». (Анучинъ Евг. Изъ частныхъ бесѣдъ, нач. 2018-го). – Отъ себя добавлю: подъ люциферикомъ (вслѣдъ за Свасьяномъ и вопреки Евг. Анучину) я понимаю тѣхъ, кто борется съ плотью, подъ люциферіаниномъ – сатаниста, подъ люциферіанцемъ – носителя не столько міровоззрѣнія, сколько особаго духа, коимъ былъ преисполненъ Ницше, главный герой сей поэмы – М. и его создатель, авторъ сихъ строкъ: М.Р.; отмѣтимъ, что М., однако, сочетаетъ въ себѣ и люциферика, и люциферіанца.
Христіанскій взглядъ, даже самый неортодоксальный, здѣсь не можетъ быть примѣненъ. Такъ, напримѣръ, даже Бердяевъ врядъ ли бы понялъ М. вѣрнымъ образомъ[19]; приведемъ слова Бердяева, русскаго, слишкомъ русскаго для гностицизма такого рода: «Но послѣдствіемъ эгоцентризма является то, что всё становится внѣшнимъ для человѣка. Именно эгоцентризмъ не переводитъ духовное внутрь, въ глубину, духовность есть что-то внѣшнее для него. Это какъ бы имманентная кара эгоцентризма. Для того чтобы духъ сталъ внутренней силой, нужно перестать считать себя центромъ. Это парадоксъ духовной жизни. Дьявольскій, адскій міръ есть кошмаръ и галлюцинація субъекта, порожденіе ложной объективаціи. Именно потому, что человѣкъ не можетъ выйти изъ себя, онъ видитъ внѣ себя, какъ объективную дѣйствительность, кошмаръ дьявольскаго міра. Ложная аскеза можетъ усилить это состояніе, вмѣсто того, чтобы освободить отъ него. Оправданна лишь такая духовная аскеза, которая освобождаетъ человѣка и возвращаетъ его къ подлиннымъ реальностямъ. Аскеза должна возвратить человѣку его достоинство, а не погружать его въ состояніе безнадежнаго недостоинства и низости» (Н. А. Бердяевъ, «Духъ и реальность»). А типически православныя истины звучатъ такъ: «Одно смиреніе можетъ водворить въ душѣ миръ. Душа не смиренная, непрестанно порываемая и волнуемая страстями, мрачна и смутна, какъ хаосъ; утвердите силу ея въ средоточіи смиренія, тогда только начнетъ являться въ ней истинный свѣтъ и образовываться стройный миръ правыхъ помысловъ и чувствованій. Гордое мудрованіе, съ умствованіями, извлеченными изъ земной природы, восходитъ въ душѣ, какъ туманъ, съ призраками слабаго свѣта; дайте туману сему упасть въ долину смиренія, тогда только вы можете увидѣть надъ собою чистое высокое небо. Движеніемъ и шумомъ надменныхъ и оттого всегда безпокойныхъ мыслей и страстныхъ желаній душа оглушаетъ сама себя, дайте ей утихнуть въ смиреніи, тогда только будетъ она способна вслушаться въ гармонію природы, еще не до конца разстроенную нынѣшнимъ человѣкомъ, и услышать въ ней созвучія, достойныя премудрости Божіей. Такъ, въ глубокой тишинѣ ночи, бываютъ чутки и тонки отдаленные звуки» (Филаретъ Московскій).
Не во всёмъ примѣнимъ здѣсь, хотя и очень интересенъ, и Свасьяновъ взглядъ на проблему Аримана и Люцифера на свой ладъ, не противорѣчащій, однако, «духовной наукѣ» – антропософіи: «Люцифер и Ариман, как совиновники творения, сохраняют свой ранг Божеств в той лишь мере, в какой их центробежная сила, влекущая мировое целое одновременно взад и вперед, подчинена центростремительной силе Христа. И они моментально становятся разрушителями творения (или, если угодно, варварами среди Богов) там, где, однажды сбившись с ритма, они выдают свою аритмию за ритм собственно. Если, скажем, Дух времени говорит по-гречески, то люциферик слышит его говорящим всё еще по-персидски, а ариманик уже по-латински. Если, беря пример Нового времени, Дух времени говорит на народных языках, то люциферик связывает его всё еще латынью, в то время как ариманик уже мечтает о всякого рода эсперанто, интралингва и волапюке. Если Дух времени говорит на немецком Гёте, то люциферик – это тот, кто переводит его на нибелунгонемецкий, а ариманик на советско-русский или американоанглийский. Эта пятая колонна варварства и решает участь культуры <…> Кармой неискупленного Люцифера, Diabolus, которому мы обязаны нашим парализованным христианством, было: стать предтечей Аримана»[20].
Прежде всего, для пониманія того, что я разумѣю подъ Люциферомъ, надобно отбросить – разъ и навсегда – ортодоксальное христіанское пониманіе Люцифера к акъ «Отца лжи». Онъ – нѣчто, противоположное сему. Прямо противоположенъ такъ понимаемый Люциферъ Яхве, князю міра сего, бѣсу пустынь, понимаемому въ гностицизмѣ какъ Іалдаваофъ, слѣпой богъ, нечестивый создатель дольнихъ сферъ. Необходимый – но крайне опасный[21], требующій большой аккуратности при использованіи вѣяній его – для роста Люциферъ съ т.з. христіанъ – нѣчто дурное: діаволъ, тьма, выдающаяся себя за свѣтъ, ложь, рядящаяся въ рясы истины. Какъ бы не такъ! Но они правы въ одномъ: Люциферъ есть прямая противоположность Яхве-Іалдаваофа (хотя онъ и является сыномъ послѣдняго), и, коли послѣдній для нихъ – благо, то первый – съ необходимостью зло. – «Словом, «добро» ли, «зло» олицетворяет христианский дьявол в гностических системах, он однозначно обретает при этом все атрибуты Бога. В этом, кстати, и состоит одно из важнейших отличий гностических ересей от сатанизма, где сохраняется принцип относительного дуализма, а Творец и Люцифер просто меняются местами»[22].
Въ сущности, сію поэму можно было бы назвать «Исторіей одного прельщенія» (въ православномъ раскладѣ: «Исторіей одного паденія»), ибо чѣмъ, если не прельщеніемъ было бытіе М. – и чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе? Люциферъ завладѣлъ сперва душою героя, а послѣ имъ целокупно. Съ другой стороны, исторія М. есть исторія того, какъ становятся богами. Тема и проблема Люцифера является центральной для поэмы. Прояснить, что понимали подъ Люциферомъ изначально, а что послѣ, есть ли «Люциферъ» въ гностицизмѣ, и что я понимаю подъ Л., – не такъ-то просто, и для попытки отвѣтить на всѣ эти вопросы мнѣ потребуются пространныя разсужденія и не менѣе пространныя цитаты.
«Lucifer», буквально «Несущій свѣтъ», изначально есть латинскій аналогъ греческаго «Эосфора», божокъ обоихъ пантеоновъ, игравшій второстепенныя роли. Но подлинную – свѣтоносную – славу онъ пріобрѣлъ послѣ того какъ бл. Іеронимъ именемъ «Люциферъ» перевелъ на латынь еврейское библейское «хейлель», что означало «утренняя звѣзда», «денница» – примѣнительно не къ падшему ангелу, но къ одному возгордившемуся царю. Ап. Павелъ писалъ, что діаволъ можетъ принять «видъ Ангела свѣта» (2 Кор.11:14). Сказанное, впрочемъ, не мѣшало тому, что «Люциферомъ» называли и христіанъ: имя было въ ходу въ 4 вѣкѣ въ Древнемъ Римѣ (такъ, напримѣръ, среди католическихъ святыхъ числится въ высшей мѣрѣ ортодоксальный католическій епископъ 4 вѣка Люциферъ Каларійскій).
Для гностиковъ Люциферъ, сынъ Зари, Зареносецъ, Свѣтоносный, – не діаволъ, не зло, онъ для нихъ если и не самый Христосъ, то нѣкая благая сила, хотя имени «Люциферъ» гностики никогда не использовали; вмѣсто него – змѣй, дѣйствующій по волѣ Христа (см. «Апокрифъ Іоанна», гдѣ говорится, что Христосъ принудилъ Адама вкусить отъ древа познанія посредствомъ своего орудія – змѣя). Для гностиковъ-офитовъ либо Христосъ явилъ себя змѣемъ-искусителемъ въ раю, либо же змѣй выполнялъ волю Христа, или верховной Премудрости, или небеснаго эона Софіи, а самый рай явленъ не какъ рай, а какъ узилище, изъ коего Свѣтоносецъ вывелъ Адама. Подобно Прометею-свѣтоносцу, гностическій Христосъ есть бунтарь противу законовъ Іалдаваофа, бунтарь, принесшій съ собою высшее знаніе на землю, и въ этомъ смыслѣ онъ Свѣтоносецъ. Христосъ – Люциферъ и Люциферъ – Христосъ. Неудивительно, что и въ ортодоксальномъ христіанствѣ остались – вопреки редактированію въ угоду ортодоксальности[23] – слѣды гносиса: такъ, напримѣръ, въ Новомъ Завѣтѣ Христосъ не единожды, а дважды, хотя и косвенно, именуется Утреннею Звѣздой[24], въ то время какъ въ Ветхомъ Завѣтѣ послѣднее имѣетъ негативныя коннотаціи. Въ сущности, существуетъ мнѣніе, что до Мильтона «Люциферъ» не былъ именемъ діавола, либо же до средневѣковыхъ схоластовъ; но всё же вѣроятнѣе, что съ легкой руки Іеронима Люциферъ сталъ Люциферомъ: именемъ діавола.
Поверхъ двухъ разнородныхъ половинъ – іеговизма и гностицизма – историческое христіанство состоитъ изъ иныхъ двухъ половинъ: аристократизма, культуры, въ своихъ истокахъ нехристіанскихъ, спѣшно пристроенныхъ-прилаженныхъ въ первые вѣка, и собственно христіанства, вовсе неаристократическаго и далекаго отъ культуры въ своихъ истокахъ. Христіанство не андрогинъ, какъ ему бы ни хотѣлось, а гермафродитъ. Но есть и иная, третья, половинчатость христіанской ортодоксіи – гречество и еврейство; попытка соединенія этихъ полюсовъ также неудачна: «Христианству предстояло свести оба полюса к их исконному единству, скажем так: явить идейную роскошь Платона на гноящейся плоти Иова. Если христианству и удалось вообще что-либо, то никак не это: исторический христианин – это некий называющий себя христианином гермафродит, языческий персонализм которого иррационально дополняется семитской соборностью. Гётевский вопрос на засыпку: «Кто же нынче христианин, каким его хотел бы иметь Христос?», лишь подводил черту под этим всемирно-историческим срывом» (Свасьянъ К. Растождествленiя).
Десятью годами ранѣе на вопросъ «Что есть ортодоксія?» я отвѣчалъ: трусливо-аскетическое, напрочь лишенное бунта, дерзновенія и всего аристократическаго и всего героическаго ученіе, принуждающее вѣрить въ то, что никто никогда не зрѣлъ, полагающее подвѣшенные въ областяхъ, «откуда никто не возвращался», морковки и прочіе кнуты и пряники достаточнымъ основаніемъ проклясть всё здѣшнее, проклясть Я, поломать себя, кастрировавъ и бросивъ сердце на алтарь чужихъ завѣтовъ. Ортодоксія можетъ быть аристократической, мощной, земной, тогда она – лицемѣріе воплощенное (западная ортодоксія), либо она нѣчто низовое (ортодоксія восточная). Послѣдняя – какъ merde: можешь не принимать её въ сердцѣ своемъ, можешь даже и не знать её, но коли вляпаешься – вовѣкъ не отмоешься. Замаранность являетъ себя: ослабленіемъ, потерей воли, потерей – того болѣ – вѣры въ волю, силу, въ собственное Я, въ концѣ концовъ. – Ортодоксія и міровоззрѣніе ея на рѣдкость уродливы: силу подлинную (духовную) почитаетъ хвастливостью, юной наивностью, желторотостью, либо же гордостью, что должна быть – ею – низвергнута, или того хлеще – безуміемъ, которое должно быть ею вылѣчено. Бьющую черезъ край энергію, пассіонарность почитаетъ чѣмъ-то такимъ, послѣ чего стоитъ лукаво креститься. – «…освященіе рабства именемъ Божьимъ – самое древнее и гнусное изъ всѣхъ кощунствъ» (Мережковскій Д. Трагедія цѣломудрія и сладострастія); и: «И я убѣдился, что церковное ученіе, несмотря на то, что оно назвало себя христіанскимъ, есть та самая тьма, противъ которой боролся Христосъ и велѣлъ бороться своимъ ученикамъ» (Толстой Л. Въ чёмъ моря вѣра).
"Дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за святое правое дело. Всё превращается в прах – и люди, и системы. Но вечен дух ненависти в борьбе за правое дело. И благодаря ему зло на Земле не имеет конца. С тех пор, как я это понял, считаю, что стиль полемики важнее предмета полемики" (Г.Померанцъ). – Дьяволъ, князь міра сего (вовсе не Люциферъ, а нѣчто ему противоположное), зачинается (и заканчивается) духомъ косности, подъяремности, инертности, всеобщей заданности, слѣпотою и уравниваніемъ «слезинки ребенка» и счастья будущихъ поколѣній: слезинка больше-де стоитъ; будущія поколѣнія и впрямь стоятъ больше, но еще больше – творящій (а не вторящій, какъ вялый, сѣдой авторъ цитаты). Нѣтъ роста безъ борьбы (и борьбы безъ роста): "Становление человека – carte blanche Сатаны: лицензия на зло, потому что в зле, через зло, силою зла мир не замирает в воскресности, а учится быть бодрым и будним <…> Не умей человек быть злым, у него не прорезались бы даже зубы. Грехопадение – религиозный дар, дар Я в животном, которое без этого дара оставалось бы просто райским телом: бесплотным, бесстыдным и бессмертным " (К.Свасьян «…но еще ночь»). В конце концов, кем был бы и сей борец с диаволом, не прими его предки дара Люцифера, милостью коего мы ведаем, а не сонно верим, Змеем явленнаго и даровавшаго Свободу во времена предвечные.
Снова – К.С. («Ницше, или как становятся богом. Две вариации на одну судьбу»): "…в письме, отправленном Якобу Буркхардту 6 января 1889 г. из Турина на четвёртый день после начавшейся эйфории, стало быть уже “оттуда”, ситуация получит головокружительно-“деловое” разъяснение, где “сумасшедшему” – этой последней и уже сросшейся с лицом маске Ницше – удастся огласить буквальную мотивацию случившегося: “Дорогой господин профессор, в конце концов меня в гораздо большей степени устраивало бы быть славным базельским профессором, нежели Богом; но я не осмелился зайти в своём личном эгоизме так далеко, чтобы ради него поступиться сотворением мира” (Br.8, 577–578). Что “коллеге” Буркхардту не оставалось по прочтении этого письма ничего иного, как считать бывшего “коллегу” Ницше свихнувшимся с ума, более чем понятно. Последовавшая вскоре госпитализация “пациента” Ницше оказалась по существу лишь однозначным медицинским резонансом смутных чувств “коллеги” Буркхардта, которому и в дурном сне не приснилось бы, что приведенный выше пассаж мог бы заинтересовать отнюдь не одних медиков. Профессор, обменивающий кафедру и жалование на вакансию Бога, едва ли мог рассчитывать на что-либо большее, чем ясный и бесспорный диагноз. Вопрос в другом: не скрывается ли за медицинской ясностью этого диагноза иная, более ясная диагностика? – Допустив, что профессорам удалось бы однажды перестать притворяться простофилями и серьезно отнестись к смыслу своих занятий… Ибо: поскольку человек, носящий маску “профессора” есть по определению “ученый”, его генеалогия восходит к Первой книге Бытия (3,5), именно: к тому монументальному речению Люцифера, которое без обиняков может считаться метрикой профессорского рода: “И будете как Боги”. Ничего удивительного в том, что генезис этот в тысячелетиях был предан совершенному забвению; профессора, разумеется, предпочли скорее рассуждать о Боге, нежели становиться Богом. Понятно, что всякая попытка довспоминаться до своего исконного смысла и самолично восстановить распавшуюся связь, автоматически зачислялась по ведомству психиатрии. Эпоха гуманизма реагировала на вещи, запредельные её пониманию всё-таки иначе, чем мрачное средневековье; норме костра она предпочитала норму смирительной рубашки.
Жизнь Ницше – от блистательного дебюта 24-летнего “профессора” до 44-летнего “туринского монарха” – представляет собой удивительно последовательное покушение на эту норму. Понятно, по крайней мере в ретроспективном обзоре, что всё должно было зависеть от сроков появления на сцене “искусителя”; в этом случае их оказалось двое; все предсказания и надежды старого Ричля обернулись химерами в момент, когда юный студиозус впервые раскрыл том мало известного ещё и не пользующегося решительно никаким доверием в университетских кругах философа Шопенгауэра"[25].
Мы еще вернемся къ темѣ Люцифера послѣ послѣсловія, когда будемъ говорить объ ученіи Дѣвы.
* * *Мятежный Богоискатель, проклинающій боговъ, мистикъ и воитель (и поди разбери – къ чему болѣе онъ склоненъ, что у него выходитъ лучше), зрящій мнимо-сатанинскіе просвѣты божественнаго и живущій ими, великій мироотрицатель и мироненавистникъ, акосмистъ до акосмизма, проникнутый духомъ иныхъ словесъ Екклесіаста, великій дѣятель, зрящій суету суетъ и пребывающій надъ дѣятельностью, герой до вѣка Героевъ, стоикъ до Стои, достигшій невиданнаго презрѣнія къ тѣлеснымъ сферамъ, ницшеанецъ до Ницше – по страсти и гностикъ до гностицизма – по міровоззрѣнію, нигилистъ до нигилизма, нѣмецъ до нѣмцевъ: за тысячелѣтія. Посторонній. Словами К.Свасьяна о Ф.Ницше, болѣе подходящими къ М.: «воплощенная гераклитовская философема "распри", принятая за норму существования». Онъ не святой, который угасаніемъ плоти и самого Я борется съ плотью: онъ не люциферикъ: онъ презираетъ её и используетъ для духа – онъ люциферіанецъ; его вѣрованіе, исповѣданіе его – не многоразличныя вѣрованія страждущихъ и обремененныхъ, нищихъ духомъ, побѣжденныхъ жизнью, но опора и фундаментъ для бытія существа, что побѣдило жизнь и потому пребываетъ выше жизни. Подобный аристократизмъ духа не можетъ быть достояніемъ толпы, отъ вѣка и до вѣка слѣпой, оно даже не можетъ быть ею понято – хотя бы и на десятую долю. Потому М. духовно одинокъ, но менѣе всего желалъ бы онъ промѣнять бытіе прозрѣвшаго, свое гордое Я на бѣсовщину и слѣпоту Мы, которая отъ вѣка и до вѣка подстерегаетъ всё живое, являясь величайшимъ искушеніемъ. М. полонъ презрѣнія ко всему дольнему во всёмъ его многообразіи, и презрѣніе его – слѣдствіе высоты души, ибо рѣчь идетъ не о дольнемъ презрѣніи Имато или Касато, но о презрѣніи горнемъ, каковымъ былъ охваченъ М. Его добродѣтель, доблесть – словами историка В.Дюранта, произнесенными въ адресъ Одиссея (но подходящими М. куда болѣе) – «Его доблесть (virtue) – это virtus, буквально, мужественность, arete, свойство Ареса».



