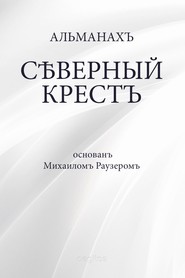 Полная версия
Полная версияСеверный крест
– А живъ ли М.? И, ежели сгибъ, погибши въ цвѣтѣ лѣтъ, гдѣ покоится онъ послѣ смерти?
– Въ земныхъ онъ нѣдрахъ нынѣ, безъ сомнѣній, – съ поспѣшностью, почти скороговоркою отвѣтилъ Акеро, тряхнувъ снѣговою шапкой волосъ. – Матери отдалъ онъ душу: добыча тлѣнья онъ. Тьмою низринутъ въ тьму. Онъ палъ, палъ, содѣтель бѣдъ! Яко звѣзда! И кончина его – Крита заря утренняя.
– Въ томъ увѣренъ ты?
– О, безъ сомнѣній. Огонь его навѣкъ потушенъ, растаялъ онъ въ ничто: доблестное наше воинство отправило его на тотъ свѣтъ (не туда ли онъ алкалъ попасть, изошедши изъ міра сего?), хотя и былъ онъ одѣтъ въ доспѣхи зла: видишь ли, доспѣхи Матери сильнѣй. Вѣруй и вѣдай: испустилъ онъ духъ свой. Да ежель и былъ бы онъ живъ…безразлично…онъ не мы, потому обреченъ онъ на забвенье вѣчное.
– Отче, видалъ ли ты хотя бы разъ – вѣдь многажды ты зрѣлъ его, находясь при нёмъ, – что Гордость его сломлена была чѣмъ-либо?
– «При нёмъ» – такъ ты сказалъ, или я ослышался? Да какъ ты смѣлъ, юнецъ?
– …когда истерзанъ онъ былъ…въ концѣ.
– Змѣю лелѣялъ! О неблагодарный! Не я при нёмъ, но онъ при мнѣ! И я не сказывалъ о концѣ и конецъ его тебѣ невѣдомъ: напротивъ, на исходѣ бытія своего, облекшійся небытіемъ и тьмою, былъ онъ Гордостью воплощенною, Гордость сочилась изъ него отвсюду – изъ очей, изъ молнійнаго его меча, изъ прядей волосъ, даже изъ ранъ; и имя толикой Гордости, множащей зло, какъ ничто иное на свѣтѣ, – Гордыня. Вѣришь ты или нѣтъ, но, какъ говорятъ бывшіе при нёмъ тогда, каждая новая рана питала её: умѣлъ онъ использовать раны свои себѣ во благо; говорятъ также, что Смертью дышалъ обликъ его.
– Очи его часто ли наливалися кровью?
– Не кровью: очи его – пламя, ликъ его – буря. Въ твоихъ, моихъ и чьихъ угодно еще очахъ мерцаетъ Жизнь, въ его же – громъ и молніи. Не было ни единаго подъ Солнцемъ, кто долго могъ бы взирать въ очи его, въ сердце тьмы. Ибо ежели мы отъ рожденія до смерти снѣдаемы Страхомъ, то онъ – Ненавистью.
– Вѣдалъ ли онъ Любовь?
– О нѣтъ, хотя сей родитель Зла, боли и мрака, и вѣдалъ её, по его словамъ. Однакожъ, вдвоемъ его ни съ кѣмъ не видалъ никто. Всё его то выдумки. Заброшенный перстомъ Матери на Критъ, какъ перстъ одинокій онъ былъ. Да-да: одинъ – какъ перстъ – всю жизнь, помѣсь огня и праха, блуждающій болотный огонекъ, сиротствующій и сиротоглазый вѣчный юнецъ, «безсмертно-юный», какъ онъ себя нарицалъ.
– Отецъ, ежли…
– Не смѣй говорить «ежли», какъ народъ, ибо сіе не приличествуетъ намъ.
– Прости, отче. Ежели онъ любилъ, то, стало быть, отдавался въ руцѣ Любви?
– Да что тебѣ извѣстно о Любви, юнецъ?
– Прости, отче. А что до его Ненависти…
– …Ненависти къ самому преблагому бытію, ибо именно Ненавистью дышало сердце его.
– Стало быть, его Я не было царемъ господствующимъ?
– Молчи, глупецъ! М., рабъ своего Я, проигралъ! Проигралъ: ибо гдѣ онъ? Исчезъ, яко дымъ отъ костра огня потухшаго. Его Я – лишь суетливая рябь на величаво-неспѣшно-спокойной глади мірозданія; была – и нѣтъ ея. А знаешь ли что?
– Что?
– Каковъ обликъ мірозданія?
– Нѣтъ, отче. Многое сказывалъ ты, но о семъ не изволилъ сказывать.
– Оно въ обликѣ трона: трона богини-Матери. А тронъ тотъ – Критъ. А мы – ступеньки трона сего, и ежели можно намъ чѣмъ-то гордиться, то этимъ.
– Благодарю тебя, отче, за сей сказъ и за наставленья. Всё останется между нами. Наставленья твои уже запечатлѣны въ сердцѣ. Но вотъ что не укладывается въ глупой, юной моей головѣ: ежели была прямая связь между дѣяніями М. и Волною, Бурею, пепломъ сѣрымъ, то отчего ты говоришь, что онъ…
– То его рукъ дѣло – безъ сомнѣній; и такъ думаю отнюдь не только я, но и тѣ, что знали, и видѣли М. во времена послѣдней Брани. Но о томъ сказывать нѣтъ силъ у меня. Но и не вздумай думать, что зло, имъ созижденное, сила: оно – слабость! – быстро проговорилъ Акеро, перебивъ сына. Переведя дыханіе онъ продолжилъ спокойнѣе: – Слава Матери, что была Европа въ ту пору на югѣ Крита… насколько была она прекрасна въ тѣ годины…краса ея далеко превосходила…звѣзда межъ дѣвъ…иначе могъ ли я, милостью Судьбы бездѣтный, безропотно тройню усыновить? Ибо въ поры тѣ пребывалъ уже я на тронѣ царскомъ, хоть и не всего Крита – его лишь части, но всё же, всё же!
Послѣ Акеро раздраженно бросилъ сыну: «Ей, гряди вонъ: мнѣ надобно быть одному».
– Такъ ты усыновилъ меня и братьевъ моихъ?
– Говорю же – прочь съ глазъ долой, неслухъ.
Сынъ Акеро удалился: воутріе ему надобно было вставать – рано, какъ и во всякій иной день своего служенія Криту. Но долго, долго не могъ онъ уснуть: передъ сномъ ему думалось: «Хотя роковую свою тайну, свое неразгаданное унесъ онъ безвозвратно съ собою, окончивши земное странствіе, огненное дыханье Свободы и Воли чую, когда думаю – лишь думаю – о богомужномъ М.! Пусть думы черныя, аки ночь, носилъ въ черной своей головѣ, пусть такъ…Самый взоръ его, богоподобный, быть можетъ, могъ расколоть всю землю: на двѣ части. И, пожалуй, уже раскололъ: на то, что было до него, и на то, что будетъ послѣ. Величіе его времени неподвластно, безъ сомнѣній! Онъ, прегордый единоборецъ, не пріемлетъ міръ, но всё отвергаетъ, отстаиваетъ онъ себя противу міра – міръ и М. не сплелись воедино, не просіяли другъ въ друга, какъ у всѣхъ прочихъ: міръ не впустилъ М. въ лоно свое, ибо М. не впустилъ міръ въ сердце свое: здѣсь скрыта мудрость. Мудрость, въ сердцѣ которой танцуетъ пламень! Кто вѣдаетъ: быть можетъ, именно сей М. и вѣдалъ единственный путь того, какъ не уподобляются богамъ, но ими становятся: во плоти; солнцеликій, онъ вѣдалъ невозможное и, видимо, дѣялъ невозможное; не былъ онъ, какъ всѣ мы, рабомъ заданнаго, но, напротивъ, заданіемъ его было: побороть заданное въ личной судьбѣ; не былъ онъ покоренъ внѣшнимъ и, слѣдственно, растворенъ имъ въ нёмъ же самомъ, ибо М. прободалъ, прободалъ, прободалъ, пока не покорилъ его, а не покорился ему, какъ мы всѣ. Стезею великою прошелъ М. Во всякомъ случаѣ, несмотря на всѣ чаянія и старанія «отца», М. и послѣ смерти простираетъ и будетъ простирать вліяніе свое на міръ – и кто вѣдаетъ, сколь долго! всяко ужъ, долѣе всѣхъ насъ. Заря его въ вѣкахъ не померкнетъ; пусть «отецъ», мятежащійся смиритель мятежа, медноголовостью, лишь медноголовостью подобный премогучему нашему Талосу, клевещетъ, бросая черныя пригрозы: нельзя пламень пепломъ затушить! Даже если М. проигралъ (какъ хотѣлось бы думать моему «отцу» – отцу? я чуялъ, что онъ не отецъ!), то и пораженіе претворилъ онъ въ побѣду: у всѣхъ насъ судьбы общія, у него же судьба своя, личная; у всѣхъ насъ нѣтъ Я, есть лишь Мы, а онъ обрѣлъ Я; мы безличны, онъ – Личность. Потому Смерть безсильна догнать его и покарать, какъ всѣхъ насъ; успеніе – терновый вѣнецъ человѣковъ: въ себѣ мы носимъ Смерть, съ нею же рождаясь. Всѣ тщанія «отца» моего низвергнуть, попрать – непопраннаго М., побѣдить – непобѣжденнаго – и смѣхъ, и стыдъ, и чушь. Экъ онъ пятится: отъ М.! Зловонны злорѣчивыя его хуленья и слабы, какъ онъ самъ, тщетно тщащійся сдѣлать изъ Крита большее, чѣмъ онъ есть; поистинѣ, изъ мухи слона дѣлаетъ онъ! Укоризненный знакъ нашего упадка! Владѣлъ онъ міромъ, думая, что онъ – путь, но онъ не путь, но лишь путы, и распутье, и распутица».
Самъ же Акеро провелъ ночь въ объятьяхъ дѣвъ, какъ то ему и подобало, пребывая въ лонѣ счастья, ибо главнымъ счастьемъ для него было женское лоно.
Наутро сынъ Акеро снова думалъ объ М.: «М. былъ подлинно свободенъ – въ томъ сомнѣній быть не можетъ: вотъ откуда ненависть «отца», несвободнаго – и въ высшей мѣрѣ! Страхомъ, животнымъ страхомъ вызвана ненависть его. Ибо Свобода одного можетъ низвергнуть во прахъ порядокъ, коему служитъ отчимъ мой. Ежели Свобода хотя бы единожды еще вспыхнетъ звѣздою на мглѣ Крита – вновь конецъ Криту. Именно поэтому «отецъ» ненавидитъ М; хотя М. и покинулъ, по слову его, дольніе предѣлы, ненависть къ нему жива и того болѣе: расцвѣла она пышнымъ цвѣтомъ. Смежилъ ли онъ очи, покрывъ себя славой немеркнущей? «Отецъ» не лукавитъ ли, говоря о смерти его какъ о свершившемся? Ибо нынѣ чую и чаю: онъ – живъ – и, быть можетъ, не только въ моемъ сердцѣ, онъ – живой! За нимъ – правда подлинная. Нѣтъ, не исчезъ онъ, всемощный и всепревосходящій, съ лица земли. О Побѣдитель! О лучъ правды: въ мірѣ лжи! О пламень святой! Не вѣрую, что силу черпалъ онъ изъ источника отравленнаго; источникъ его былъ инымъ – всечистымъ; ибо можетъ ли отравленный, грязный и мутный источникъ породить молнію, могшую всё, чего только пожелаетъ? Но хуже то, что «отцу» нынѣ стыдно, что тотъ былъ при М.; за «отца» уже стыдно и мнѣ: предъ самимъ собою. Мнится мнѣ: могъ забрезжить міръ иной, но нынѣ – тьма. М. – мученикъ Свободы, и былъ онъ несказанною зарею несказаннаго. Ибо самая судьба его пятилась. Не человѣкъ – скала! Нѣтъ, не скала – молнія! О небо, великое и пространное, самая безконечность взираетъ на меня тобою, о вечноголубое. М., упавшій – небомъ – съ неба…онъ вѣдалъ, что несешь ты въ безконечныхъ своихъ глубинахъ, ибо небо – родина его, а не земля, какъ у насъ, критянъ. О небо, въ тебѣ сокрыта мудрость великая, большая, нежели въ черно-красномъ сердцѣ земли-матери. Но мысли М. – выше неба. Ибо М. есть также и молнія, а не лишь громовое ей вторье, ибо онъ зачинатель: и молніи, и грома; но онъ же и свѣтъ молніи, и свѣтъ тотъ не отъ Матери, но отъ Дѣвы съ Чужбины. И даже слова «отца» о нёмъ – словно порѣзающій тьмы ночныя свѣтъ далекихъ звѣздъ. О М., о темно-лазурно-буйный, непокорно-бурный, непокоренный, стоитъ ли Критъ жизни твоей, которая была его смертью? Но ты – прежде чѣмъ извергнуться лазурью въ лазурь – полувоскресъ: отцомъ и рабами его. Я бы принесъ въ жертву вѣсь Критъ съ будущностью его, всѣ дворцы его, пажити, селенія, самый народъ его, дабы лишь зрѣть тебя лице предъ лице! О земли добрыхъ, сколь злы вы!».
На слѣдующій день, когда ужъ не золотыя – мѣдныя – струи пронзали залу, отецъ и сынъ играли въ кости; сынъ по старинному обычаю поддавался старшему, однако, игра, кажется, наскучила обоимъ. Неожиданно Акеро почувствовалъ дурноту – словно безпричинный страхъ пронзилъ душу, ее сковавъ, что не могло не быть замѣченнымъ и сыномъ, и рабами, что прислуживали господамъ; никто и никогда не видѣлъ Акеро въ подобномъ состояніи. Когда ему стало легче, онъ жестомъ руки приказалъ всѣмъ, кромѣ собственнаго сына, удалиться и, полнясь злобою, страстно изрекъ:
– Зловѣщій, онъ – въ насъ: разлитъ – силою, «духомъ», пропитавшимъ всё – всё; боюсь, онъ, бытіе чье – воедино! – громъ, и молнія, и бремя для каждаго живущаго, онъ, чьи очи плавили міръ, въ чьихъ ушахъ гремѣла Ненависть, улыбка чья – гримаса боли неизбывной…онъ, онъ, бурею вспоенный, рожденный тьмою (и самъ онъ – тьма злоликая, содѣлавшая насъ блѣдными, какъ полотно, и бѣдными, какъ нищіе при базарѣ), онъ, словно пришедшій изъ подземелій раскаленныхъ, а не съ неба, откуда палъ онъ, падшій, изъ страшныхъ и ужасныхъ нѣдръ Матери-Земли, черно-красныхъ, онъ…онъ – разлитъ не только въ насъ, но и въ самомъ критскомъ нашемъ бытіи, а, быть можетъ, и въ …мірѣ. Онъ – море, въ коемъ тонетъ всё благое, черная воронка, уносящая всё въ небытіе, онъ – кара Матери и богинь прочихъ, обрушившихъ на насъ гневы свои, чума, Ею ниспосланная за нѣчто невѣдомое, за нѣчто безымянное, Ея онъ перстъ и когти, ежемгновенно неизбывно ранящія живую Крита плоть …онъ – не многострашныя его дѣянія и не его словеса, стекавшія со сферъ надзвѣздныхъ, изъ самихъ корней небесъ, пронзающія души всего живого: онъ выше словъ и выше дѣлъ; онъ – въ каждомъ щемленіи сердца, въ каждой слезѣ, въ каждомъ вздохѣ, въ каждомъ страхѣ, въ снахъ и яви – онъ; онъ – не буревѣстникъ и свидѣтельствующій о Концѣ, но – буря, молнія и Конецъ, безконечный Конецъ безъ конца, и начала, и края, и предѣла. Конецъ, но не Исходъ. Въ пламени собственномъ ковалъ онъ, злонравный, побѣды, дабы низвергнуть въ небытіе бытіе. О исчадіе сферъ подземныхъ! О чадо мрака! О сынъ погибели! Всё бытіе для него – навозъ. И Критъ нашъ славный, богоносный – навозъ лишь! О Ужасный, позналъ дѣянья Критъ твои. Давно, давно гнетешь собою ты меня; то доля злая, горькая. О, расточись, расточись, о неизбывное!
– Не то ли, отче, желаешь ты сказать, что міръ вѣсь вертится вкругъ его Я?
– Молчи, молчи, глупецъ! Что знать о томъ ты можешь?
– Отче, выходитъ, міръ палъ въ отверсту его пасть.
– Молчи же, о младоумный! – кричалъ Акеро.
– Быть можетъ, «духъ» его исшелъ изъ міру…Вершилъ дѣла, велики и страшны, но нѣтъ его теперь! Нынѣ не призракъ ль онъ безплотный?
– О да: безъ плоти онъ, чуждъ всему, и при жизни былъ; не человѣкъ, но тѣнь, не свѣтъ, но тьма. Но нынѣ словно тѣнью бродитъ онъ межъ земель критскихъ. Разрушитель! Разрушитель! О сынъ погибели! Но нѣтъ, мнится мнѣ: еще онъ здѣсь, здѣсь, незримо витаетъ «духъ» сей, кружася; потому и должны къ сему мы руку приложить, къ исходу чернаго сего «духа» изъ Солнцемъ обильныхъ нашихъ земель: навѣки, о, навѣки! Иначе – всё тщетно, иначе мятемся мы всуе.
– Стереть должны мы мраки Ночи. И буди тако, отче.
– Во вѣки вѣковъ! Тѣнь его должна быть потеряна: въ вѣкахъ. Иначе былое, похотливо крадущееся къ самому сердцу многограднаго нашего Крита и заливающее нынѣ душу до краевъ, наполняя её тревогою, и впредь будетъ…никакого, слышишь, никакого благодѣянія нечестивѣйшей его тѣни, никакого памятованія о нёмъ! Живъ ли онъ иль мертвъ – безразлично: важно иное: онъ – бремя наитягчайшее, упавшее – камнемъ – на сердце по волѣ Матери. Но всё по Ея милости свершается. Алкалъ онъ погубить и миръ, и міръ, но не міръ ли погубилъ его – въ концѣ концовъ?
– Воистину, отче, костра сей «духъ» премного заслужилъ! – глуховато произнесъ сынъ, потирая отъ пота влажныя свои руки. Но про себя подумалъ: «Какъ можно молнію претворить въ тѣнь?».
– Ха-ха! Ты правъ, сынокъ, – молвилъ, преходя отъ леденящаго душу страха въ суетное веселіе, Акеро, также потирая руки свои, еще болѣе влажныя, чѣмъ руки сына его; улыбка нервная сковала уста его. – Ты правъ: бросимъ въ сей пламень и память о нёмъ, и всегубительное его ученіе: блоху и клопа, не дающихъ очи смежить во время положенное! Я сѣдъ и старъ, но въ сердцѣ – полдень, ибо надъ богоспасаемымъ Критомъ – полдень, Солнце встало надъ славнодержавнымъ Критомъ, единымъ и вѣчнымъ, хотя нынѣ день и клонится къ закату; зори, радостныя сердцу, зримы мнѣ. Отмсти ему, сыне: всей роскошью грядущихъ дѣяній! И помни: есть лишь Критъ, вечнонеизменный и вечносвященный, удѣлъ Матери.
– Вся жизнь моя, отче, будетъ ему местью и урокомъ! Дланью его пришелъ закатъ Крита, который – твой восходъ, отче. Имъ Критъ сгибъ, но тобою – воскресъ! Судьба Крита – вновь и вновь возглаголю! – лишь въ твоихъ рукахъ.
– Наконецъ-то я услышалъ желанное. Выпьемъ же за сіе, сыне, и за Крита вѣчное здравіе! И за то, чтобы сѣмя твое господствовало навѣки!
– Во имя Крита!
– Во имя священнаго удѣла Матери!
Выпивши изъ золотыхъ бокаловъ мѣстной южнокритской работы съ изображенной на нихъ сценѣ игръ съ быками, Акеро попросилъ сына удалиться, сына, которому то ли не повѣрилось въ «зори», то ли «зори» этѣ показалися ложными; остался одинъ Акеро и молился Матери; послѣ налилъ себѣ еще чашу вина, взявши со стола также и нѣсколько плодовъ; подошелъ къ окну и наблюдалъ за тускнѣющимъ закатомъ; но Критъ еще не погружался во тьму. Очи Акеро расширились, онъ изображалъ собою священное (быть можетъ, и мнилъ себя таковымъ), изрекая:
– Поистинѣ самоограниченіе – добродѣтель вѣрнѣйшая, и скромность, и чинопочитаніе. Но есть нѣчто еще выше и важнѣе: повиновеніе всеобъемлющее, и покорность, и послушаніе; они – мать и отецъ цвѣтенія славнаго нашего Крита. Добродѣтели сіи водворяютъ ладъ, созидая гармонію неувядаемую. Не диво ли, когда тьма малыхъ, граничащихъ съ ничто, собою образуетъ всё: Критъ. – Таковы твои чудеса, о Матерь. Подъ твоимъ всемудрымъ водительствомъ и скромными нашими усиліями, поставившими каждаго на мѣсто, ему подобающее, – да такъ, чтобы каждая часть мѣсто свое знала и долгъ свой вѣдала, служа дѣлу всеобщему, – Критъ вновь цвѣтетъ; и да не отцвѣтетъ онъ во вѣки вѣковъ! И да не пріидетъ толикое зло въ славныя наши земли: никогда, никогда!
Послѣ же ни о чёмъ не думая, продолжая созерцать лазурь, Акеро священно-сливался съ природою, всегда имъ боготворимой и разумѣвшейся имъ за нѣжную пѣснь Матери, но нежданно-негаданно мысли объ М. вновь явили себя, и произнесъ онъ ихъ вслухъ – и словно не произнесъ, а отчеканилъ, вбивая ихъ въ аэръ, какъ вбиваютъ гвоздь:
– Вседневно терзаемый несбыточностью и ложностью своего вѣрованія, влекомый болью неизбывною, безсмысленно-вѣчно-мятущійся «духъ», не бытійствующій, но попросту – несбывшійся, праздноболтавшій и праздношатавшійся, безмѣрно-злой, ослѣпленный – донельзя – ненавистію, напряженный, какъ тетива лука, потерянный, бичуемъ онъ Жизнію («Судьбою», какъ онъ говорилъ, что ему-де задолжала; но, поистинѣ, не Она ему, но онъ задолжалъ Ей), послѣ – когда силы всё болѣе и болѣе ослабѣваютъ – закрывается онъ мнимымъ совершенствомъ и вѣрою въ мнимое тамошнее отъ всеобщей смертности и круговорота Жизни, святого и великаго, но нѣтъ на землѣ совершенства, опричь земель критскихъ, самая вѣра въ совершенство иное есть бѣгство отъ здѣшняго, кое единственно и есть подлинное. Око Бога – Солнце, которое онъ, безумно-дерзкій, также проклиналъ, прокляло его. Поистинѣ: не Жизнь несправедлива, но ты былъ несправедливъ къ ней, ты, о лжесловесникъ! Потому прокляло тебя не только Солнце всесвѣтлое, но и прекрасноткущая Судьба и даже самая Жизнь. Проклятъ, о проклятый! Посему не было, нѣтъ и не будетъ тебѣ мѣста въ мірозданьи, отверженецъ, бродяга и тать. Дѣло твое было отъ вѣка – вѣкомъ – обречено тлѣнью, пошло оно прахомъ, нынѣ оно – добыча персти земной, какъ и ты самъ, о несчастный! То благостыня Матери, и Ея воздаяніе. И ты безсиленъ хотя бы и на самую малость истощить великіе запасы милости Ея, о узникъ судьбы собственной! И если то не благостыня, а длань карающая, то длань сію я буду благословлять и цѣловать во вѣки вѣковъ! Въ горделивѣйшей своей позѣ разумѣлъ ты себя побѣдителемъ, но ты пораженецъ! И жизнь твоя, и смерть – пораженіе, о, пустоцвѣтъ, перекати-поле, изгой! Обѣ – позорное пятно на живой плоти родины; но оно уже смыто – мною. Посмѣшище міру! Слова твои суть сказки: такъ бы я сказалъ, ежели бы не зналъ о подвигахъ твоихъ и о твоихъ дѣяніяхъ: злодѣяніяхъ! Они не сказки, но чернѣйшая ложь. И ложь твоя есть бездна разверзшаяся. Лишь настоящее настояще, лишь мигъ, мгновеніе: оно – лазурное море съ перламутровыми волнами, палимое Окомъ Матери; оно – сердцебіеніе Ея. Иного, опричь настоящаго, нѣтъ: нѣтъ ни прошлаго, ни грядущаго. Вѣчность настоящаго, ярко-сіяющаго, всесвѣтлаго и святого, раствореніе въ мигѣ, когда разумъ молчитъ, пребывая въ святомъ покоѣ, и въ священномъ семъ молчаніи непостижимо пріоткрываетъ самое себя Истина – казалось бы, сама, но на дѣлѣ по волѣ Матери: только тогда мы и въ силахъ что-либо познать – а не отрицать, какъ безумнѣйшій изъ всѣхъ безумный: М. О молчаніе, ты – зерцало, въ коемъ отражается бытіе – цѣльное и цѣлое, покойное, священное, вѣчно-простое, отъ вѣка и до вѣка живое, ясное, аки Солнце: подлинное, а не измышленное, – а въ твоихъ, М., очахъ, которыя – какъ уголь раскаленный, отражается лишь безуміе твое; свое безуміе еще хотѣлъ ты переложить на міръ! Будь ты проклятъ, и проклятіе да падетъ на сгибшее бытіе твое! О мигъ, ты – Солнце, ты – Око Матери… Ты же, М., – лишь потухшая звѣзда на небосклонѣ, одна изъ нулліоновъ иныхъ звѣздъ, жалко-безсмысленно-барахтающаяся, дабы отдѣлить себя отъ прочихъ звѣздъ и тѣмъ себя возвысить. Потухшая звѣзда: въ тьмѣ невѣдѣнія. А нынѣ лишь – не пыль, но тѣнь пыли! О прелюбимая моя родина, какія еще бури тебѣ суждены, о могучій Критъ, о земли добрыхъ?
Твердь небесная рѣзко потемнѣла, неправдоподобно-пугающе-скоро, облакъ за окоемъ стремительно палъ. Лазурь во мгновеніе ока сгустилась на небосводѣ и претворилася въ тьму и вотъ уже страшащая молнія изламываясь бьетъ въ плоть Крита, освѣтивши его на мигъ: не успѣлъ онъ окончить рѣчь свою, какъ громомъ – посередь яснаго неба – прозвучали слова – изъ ниоткуда; и были они громно-грозно произнесены нѣкимъ незримымъ духомъ гласомъ тамошнимъ:
– Взгляни въ лицо Истины: ты предалъ…того, слово чье было истинно, ибо истиненъ и неложенъ былъ онъ самъ; но будь слово его неистиннымъ хотя бы и въ мѣрѣ полной, оно было таковымъ, что его стоило бы изречь единожды и изрекать послѣ: вновь и вновь; того, чье Я было дороже всѣхъ царствъ земныхъ; того, кто былъ, есть и во вѣки вѣковъ будетъ вечногрядущимъ. Его ославивъ, лишь себя всего лишилъ ты; поношенія твои – по кругу, но не милостью круга, – возвратились къ тебѣ, обернувшись противъ тебя. Я обнажилъ лице свое…Узри не могущее быть узрѣннымъ, познай не могущее быть познаннымъ, и да будетъ мгновеніе сіе – Вѣчностью; мздою послужитъ невеликое – твоя лишь жизнь. Извѣдай же: первое и послѣднее слово – всегда за Я.
Прорѣзь Я – молніей – блеснула и – снова сокрылась въ безличныхъ толщахъ Мы. Лазурь ушла съ небосвода, и черноты, и темноты залили собою всё вокругъ. Мгла сгустилась надъ Критомъ, надъ землями добрыхъ, черная безконечность явила себя, и Вѣчность пріоткрыла ризы свои; словно нѣкимъ свиткомъ сворачивалась твердь небесная. Громъ разинулъ зѣвъ свой, и былъ гнѣвъ зѣвомъ его, и была и била молнія въ тверди небесной, и была и била молнія въ тверди земной, и былъ громъ – какъ ревъ быка. Безпросвѣтная ночь заступила, и раскаты грома множились. Звѣзды потухли; лишь Денница алмазомъ сіяла въ вышинѣ.
И въ мигъ сей Акеро упалъ замертво, а предъ паденіемъ молніей мелькнула послѣдняя его мысль: «Ты, ты заслонилъ собою Солнце, ты же его навѣки и затушилъ!».
* * *Пасынку тѣмъ временемъ снились сны, быть можетъ, вѣщіе, быть можетъ, и нѣтъ; и снился ему иной Критъ: свободный, гдѣ не принужденье и страхъ царствуютъ, но воля и преизбытокъ всего; и во снѣ предпослѣднемъ предстали со всею наглядностью слова Акеро, бросившіяся въ юное сердце: Акеро, грекъ родомъ съ Крита, но долго прожившій на востокѣ, – не его отецъ, отецъ – нѣкто иной; греки умнѣе критянъ, а финикійцы – грековъ, и не матери ли финикіянкѣ обязанъ онъ своимъ умомъ? И не финикіецъ ли М.; или грекъ, быть можетъ? М. во снѣ предсталъ живымъ, словно возставшимъ изъ мертвыхъ. А Критъ казался чудищемъ, а отецъ – не Акеро, но подлинный отецъ – получеловѣкомъ-полубыкомъ: Быкомъ красноярымъ. Снился и иной, послѣдній сонъ: онъ, уже немолодой, даже старый – точь-въ-точь какъ давеча отчимъ его – уставши отъ возліяній и яствъ, находяся во дворцѣ своемъ, подъялъ взоръ на брегъ морской, глядя долго на сине море, и вдругъ узрѣлъ: стѣну кораблей, страшную числомъ ихъ, медленно-мѣрно приближавшуюся къ брегу. Стражъ Крита – меднотелый Талосъ могучій – бездѣйствовалъ, хотя и былъ онъ зримъ вдалекѣ; не бросалъ, какъ обычно, огромныя каменья: глыбы, – топя деревянные корабли непріятеля; не былъ и слышенъ страшный его смѣхъ: смѣхъ надъ врагомъ. Величественно-неспѣшно двигался сквозь лазурь мѣдный исполинъ, раздвигая собою тучи, гордый, одинокій. И дрожала земля критская, когда хаживалъ по ней Талосъ, голова его упиралась въ облаки, ихъ пронзая; по небосводу разлиты были темныя краски: заслонялъ онъ солнце. Тѣнь его пала на вѣсь Критъ…Вотъ поднялъ онъ огромный свой ликъ, поглядѣвъ на Солнце, на око бога; не щурилъ онъ очей; ширилась тѣнь его надъ Критомъ, надъ землями добрыхъ. И былъ онъ угрюмъ и словно боленъ, словно при смерти былъ онъ. – Стѣна кораблей, страшная силой своею, медленно-мѣрно приближавшаяся къ брегу, была сонмомъ ахейскихъ грековъ, рѣшившихъ Критъ покорять не съ сѣвера, но съ юга, юга, который – хоть для мореплаванія и былъ труденъ недостаткомъ пристаней и гаваней пригодныхъ – премного менѣе сѣвера пострадалъ отъ Волны и отъ Бури: югъ былъ желаннѣе. Нулліоны захватчиковъ медленно-мѣрно приближалися къ брегу, чтобы Критъ вскорѣ палъ жертвою ихъ прихода: на добрыя земли.
Наутро пасынокъ узналъ о смерти отчима; не горечь, но радость заступала въ сердце наслѣдника. Радость и власть, ибо предстояло: правленье.
«Сына» Акеро вѣка запомнили какъ Миноса, а данное ему при рожденіи имя кануло въ Лету.
Часть III, или эпилогъ
Легенда не ошибается, какъ ошибаются историки,
ибо легенда – это очищенная въ горнилѣ времени
отъ всего случайнаго, просвѣтленная художественно до идеи,
возведенная въ типъ сама дѣйствительность.
П.ФлоренскійМиѳъ не означаетъ чего-то противоположнаго реальности, а, наоборотъ,
указываетъ на глубочайшую реальность.
Н.Бердяевъ«Тогда силы небесные поколеблются». Силы земныя уже поколебались: всё падаетъ, рушится, земля уходитъ изъ-подъ ногъ. Вотъ отъ чего я бѣгу въ древность. Тамъ твердыни вѣчныя; чѣмъ древнѣе, тѣмъ незыблемѣй: римское желѣзо, эллинскіе мраморы, вавилонскіе кирпичи, египетскіе граниты зиждутся на одномъ-единственномъ, въ основаніи міра заложенномъ Камнѣ. «Камень, который отвергли строители, сдѣлается главою угла».



