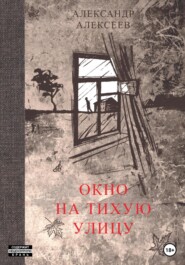скачать книгу бесплатно
– Так вот, вчера в «Динамо» был большой базар. Теперь Алик к твоему театру не имеет никакого отношения. Так что теперь ты сидишь совершенно без крыши. Сидишь тут и не подозреваешь, что на твою голову может свалиться! Прямо сейчас или через полчаса. Ну, может, завтра или через неделю. Ты же ничего не знаешь, у тебя нет никакой информации. Она тебе не нужна!
Корбут прищурил один глаз, но выражение лица оставалось совершенно непробиваемым.
– Ну хорошо, откуда ты это знаешь? Почему я должен этому верить?
– Вовсе нет. Ты ничего не должен. В том и вся прелесть наших отношений, что никто никому ничего не должен. Но если бы вдруг ты мне за это заплатил, вот тогда я бы дал тебе какие-то гарантии. Но я за это не хочу брать денег, я просто хочу один месяц походить здесь живым. Мне и сейчас не стоило ничего говорить.
– Хорошо, хорошо… И что за базар там был? Кто же потеснил Алика?
Боря как-то тяжело вздохнул. Прямо с сожалением вздохнул. Потом сказал:
– Я думаю, ты сам это скоро узнаешь.
– Ну и все же?
– Колесникова знаешь?
– Кто же его не знает.
– Да ты первый и не знаешь. Ты знаешь только его фамилию. Ты его не будешь знать и после того, как с ним познакомишься. И даже через год совместной работы ты его плохо будешь знать. Хотя все это время в его руках будет твоя физическая жизнь! Я только удивляюсь, как спокойно при этом ты себя чувствуешь!
– Боря, а проще ты, конечно, не можешь?
– Боря все может. И проще, и короче. Боря может и совсем молчать.
– Нет, уж договаривай.
– Я хочу только одного – чтобы ты понял момент! Мы не просто убиваем время за чашкой кофе, а совершаем какой-то взаимополезный акт. Я тебе отдаю информацию, которая стоит бог знает каких денег, а ты у меня забираешь эти тряпки совершенно по дешевке, за четыреста рублей.
– Боря, мы с тобой договаривались только на батник.
– Батник без штанов и тапочек – это только полбатника. Ты же знаешь, Сережа! Все равно ты это купишь у кого-то другого, который сдерет с тебя значительно больше и не сообщит тебе при этом никакой информации!
– Боря, мне сейчас нужны бабки на стройматериалы.
– Ну хорошо, хорошо… Покупай у другого.
– Ладно, бог с тобой. Только бабки завтра. Я это возьму для Саши. У меня пока на него большие надежды. К людям, которые на тебя работают, ты должен относиться как отец родной.
Тут своя психология. Потому что работать на отца и на дядю – это разные вещи. На отца, в конце концов, можно работать и бесплатно. Я правильно мыслю?
– Конечно, кто спорит!
– Ну вот, а ты говоришь, от моей комсорговской работы нет никакого проку!
– Прок может быть от всего, если ты не дурак. Так я тебе скажу, что за птица этот Колесников! Миша Колесников – это страшное, но закономерное явление. Это зверь, точнее сказать, бультерьер. То есть порода, выведенная специально для работы челюстью. Хищный и бесстрашный. Есть звери хищные, жадные, но трусливые. С ними справиться нетрудно. Но случаются такие же хищники, только совершенно бесстрашные. И с ними бороться нет никакого смысла. Их просто убивают. Когда-нибудь это произойдет и с Колесниковым. Потому что у него есть один существенный недостаток – его честолюбие. Ты знаешь, что такое честолюбие? Ты, кстати, тоже им побаливаешь. Но не буду отвлекаться. Так вот, Колесников никогда не избавится от пагубной привычки быть чемпионом. Честолюбие – это объективный признак глупости, той самой глупости, которая долго не приживается на том уровне, где хочет быть Миша. Там обыкновенный кулак уже теряет силу. Сам знаешь, что нож бесполезен там, где стреляют из ружей. Умный человек всегда определит себе место. Колесников этого не сделает никогда. Он дурак, но он не совсем плохой человек. Он любит повторять красивые фразы. И это говорит о том, что он ценит умных людей. Учти, не смелых и отважных, а умных! Смелости у него своей достаточно. Если ты ему покажешь свой воинственный нрав, то это будет последний раз, когда ты что-то кому-то показываешь.
Корбут сосредоточенно курил. Глаз его был так же прищурен. Он покачивал головой и, казалось, думал уже о чем-то другом. Будто все, что ему говорили сейчас, он давно знал.
– Ты мне не веришь? – неожиданно спросил Боря.
– Ну почему же! Конечно, верю. Я хорошо знаю этот тип людей.
– Колесников не тип. И вообще не советую тебе со своими типами подходить к определенному человеку.
– Ну хорошо, хорошо. Что еще ты скажешь?
Но Боря вдруг поднялся.
– Больше мне нечего сказать. Я совсем забыл. Мне надо срочно быть в одном месте. Значит, до завтра? Ты приносишь деньги сюда, часам к девяти, а я этот пакет… Ну пока! Мне пора, совсем засиделся.
И Боря, что называется, отвалил. Ибо он видел, как за спиной ничего не подозревающего Корбута на узкую площадку «брызгами шампанского» вкатилась уже знакомая нам ослепительная «девятка».
Корбут от неожиданности даже не успел попрощаться с товарищем. Однако, хорошо зная людей, он своим лицом не выразил никакого недоумения по поводу странного исчезновения. Ничуточки не смутили его воинственную душу и мрачные пророчества будущего эмигранта. Казалось, даже наоборот, они лишь добавили уверенности его безупречной внешности.
А внешность эта совсем не изменилась за время нашего повествования. Несмотря на многие нелестные слова, отправленные в его адрес, не разветрилась укладка его волос, не потускнел на них лак, ни одна лишняя складка не образовалась на его великолепном костюме, даже запах его одеколона ничуточки не выдохся.
Он сидел за тем же столиком, что и в обед, когда был здесь с Соболевым, все так же курил «Кэмел», который, надо заметить, еще не продавался на каждом углу. Он спокойно допивал чашку двойного черного кофе и не озирался по сторонам, как озирался бы на его месте после полученной информации всякий малодушный юнец. Ему совсем не казалось, что мир вдруг изменился, разделившись на хищников и жертв, хотя своей спиной он мог уже почувствовать, как сзади на него надвигалась гроза. Он, повинуясь какому-то более великому инстинкту, нежели сохранение собственной шкуры, смотрел в эту минуту на женщину.
Женщина сидела за столиком с трехлетним малышом и кормила его пирожным. Малыш, только научившийся говорить, чувствовал себя вольготно и весело. Он кривлялся, пачкался, таращился по сторонам и беспрестанно засыпал мамочку своими глупыми вопросами. А она кидала на него короткие взгляды, механически ему отвечала и так же механически делала свои родительские замечания.
Сама же полностью казалась погруженной в себя. Ее красивые черные глаза были олицетворением огромной женской печали. Той самой печали, горькой и безысходной, которая бывает только у женщин и только из-за мужчин. Но не всякая женщина способна выразить ее так глубоко и точно. У кого-то она отразится презрением, у кого-то – болью, а у кого-то – ненавистью, безобразящей лицо. Все зависит от характера и ума самой женщины.
В печали этих глаз читалась даже не потеря любимого и не потеря любви, а нечто более печальное, похожее на полное разочарование в любимом и полное неверие в любовь. Было в них и горькое прозрение, и резкое взросление. Было тягостное прощание молодой женщины с последними мечтами безмятежной юности. Было тихое приятие реальности, когда цветущая женщина кладет себя на алтарь одинокого материнства.
И всякий мужчина, поймав этот взгляд, почувствует в груди своей волнующий порыв. Только не всякий, конечно же, станет его объяснять и тем более ему поддаваться.
Мне трудно сказать, объяснял ли что себе Корбут, мне легче сказать, чем объяснялась его решимость двинуться навстречу женской печали. Она объяснялась его отчаянной, его авантюрной, его мужской натурой.
Однако случиться этому тут же, увы, не пришлось. В момент, когда он уже схватил ее взгляд, когда невидимая ниточка протянулась между ними, позади проплыла глыба в спортивном костюме. Чуть тормознулась перед хозяином «Башни», и глаза услужливого Игорька указали на Корбута. Сидящая с малышом женщина только и увидела, как симпатичного мужчину закрыла темно-синяя широкая спина.
– Ты Корбут? – пробасил Колесников, беспардонно усаживаясь за столик.
Другой стул был тут же занят Бобом.
– Да, я, – без тени волнения ответил Корбут.
– Меня знаешь? – продолжил Чемпион.
– Знаю, – так же спокойно ответил Корбут. – И даже догадываюсь, о чем хочешь говорить.
– Ну и прекрасно. Мне нравится такое понимание, тем более что нам предстоит вместе работать. Надеюсь, и дальше будет так же.
– Я тоже надеюсь.
– Значит, так, Сережа. Мы внимательно изучили твои проспекты. Предприятие у тебя солидное, доходное, но хлопотное. Сам понимаешь, место! Без охраны никак нельзя.
– Понимаю, не мальчик.
– Мы согласны на тридцать процентов от прибыли.
– Хорошо, но до прибыли еще далеко.
– Это вопрос второстепенный. Мы не спешим. Теперь детали. Наш человек будет у тебя в штате. Хочу тебя с ним сразу же познакомить. Это Боб. Или Владимир Бусаев, кандидат в полутяжелом весе. Все текущие вопросы будешь решать с ним. Какие проблемы на сегодняшний день?
– Только по стройматериалам.
– Это не наши проблемы. Когда открываешься?
– Думаю, через пару месяцев.
– Прекрасно. Буду на открытии. Сейчас ко мне есть вопросы?
– Совершенно никаких.
Колесников недоверчиво осмотрел собеседника. Он не ожидал подобной сговорчивости. По его предварительным сведениям, Корбут рисовался упрямым, жадным и тупым. Ничего такого обнаружить в нем не удалось. Однако это уже не могло изменить негативной предрасположенности.
В своей мыслительной деятельности Колесников привык оперировать установками. Их он принимал уже готовыми, как аксиомы, или создавал сам, подобно своим афоризмам, в минуты интеллектуального вдохновения. Всякая неординарная ситуация раздражала его. Поэтому с Корбутом он простился сухо, окинув его напоследок тем взглядом, которым обычно на ринге он окидывал соперника.
* * *
Женщина, лишенная нового знакомства, была, что называется жгучей брюнеткой, красивой и яркой. Только в жгучих цветах могут так органично и так редко сочетаться красота и яркость.
– Или жгучая блондинка, или жгучая брюнетка! Все остальное – промежность! – любил повторять одно время боксер Колесников.
Он и сейчас наверняка положил бы тяжелый глаз на хрупкую фигуру этой брюнетки, если бы Корбут своей покладистостью не заставил его сверх меры задуматься.
Одновременно с молодой мамой спортсмены покинули площадку. Некоторое расстояние на выходе они даже прошли рядом. Потом мены повернули к машине, а дама с ребенком медленно направилась в сторону Бульвара. Никто из троих так и не увидел, сколь стройна была фигура уходящей женщины.
Оставшийся один Корбут некоторое время смотрел в пустую кофейную чашку, и мысли его были так же темны и неопределенны, как и гуща на дне этой чашки. Когда же он поднял глаза, за соседним столиком увидел не молодую женщину с ребенком, а молодую пару, у которой о ребенке, может быть, еще и не было речи.
Корбут посмотрел по сторонам и не увидел ее. Но вовсе не беспомощная досада возникла на его лице, а все та же спокойная уверенность оставалась на нем. Он поднялся и подошел к окошку.
– Игоречек, ты случайно не знаешь, что это за черненькая малышка сидела тут с ребенком?
И тот отвечал:
– Это Эмма с Бульвара. Замужем. Но, по-моему, у нее большие проблемы с мужем. Там, если не ошибаюсь, дело движется к разводу.
Корбут внимательно слушал, щуря один глаз, и удовлетворенно покачивал головой.
Глава шестая
Молекулы смерти
Я вынужден просить прощения у строгого читателя за то, что никак не приведу его в келью Соболева. Тем более что Лариса уже добралась до нее. Она как раз вышла из такси и направлялась к желтому двухэтажному дому, приунывшему под тяжелой черепичной крышей. Это и был дом, где Соболев снимал квартиру. И нам, конечно, можно было, не оглядываясь по сторонам, последовать прямо за ней. Но, к сожалению, в нашей повести, как в жизни, что-то обязательно возникает на пути к обещанному.
Некий субъект нетрезвого вида как раз вышел из-за угла дома и чуть ли не столкнулся с Ларисой. Она немного отстранилась и, не обратив на него никакого внимания, прошла дальше к подъезду. Субъект же чуть приостановился, прикрыл глаза и втянул в себя шлейф аромата, оставшегося за женщиной. Потом оглянулся ей вслед, и какая-то полоска света легла на его почерневшее лицо. Лохматая его голова опустилась еще глубже в поднятый воротник ветхого осеннего пальто, и он унылым шагом поплелся вниз по улице, ведущей к магазину.
Это был Вова Черный, один из самых горьких в мире пьяниц, олицетворение миллионов, павших ни за понюшку табаку. Это был конченый человек. Вовой звали его с детства, но Черным стал он недавно, после десяти лет непросыхающего пьянства. Ему перевалило всего за тридцать, однако во внешности уже не оставалось ничего, что еще вязалось с молодостью, зрелостью или хотя бы со здоровьем. Все в нем было сожжено, изношено, помято и запачкано, как старое отцовское пальто, которое он не снимал даже летом. Брился он раз в месяц, зубы не чистил вообще, поскольку их оставалось не так уж много, голову также не баловал шампунем. Ну а что касается всего остального, так об этом, думаю, и говорить не доставит никому удовольствия.
Прежде чем стать алкоголиком такого уровня, Вова был шахтером. И еще был симпатичным чернобровым усачом, и не очень верным мужем, и отцом прекрасной малышки. Но десять лет назад все это кончилось. После травмы позвоночника он получил инвалидность и резко изменил образ жизни. Так резко, что жена его покинула буквально через год. Еще через пять лет последняя женщина его перестала любить. А два года назад с последней женщиной он переспал последний раз. И они напрочь перестали его волновать.
Лишь иногда, как в этот раз при встрече с Ларисой, какое-то очень далекое, еще дозапойное чувство оживало на миг, будило совсем непонятную боль, которая потом долго угасала глухой тоской.
За вычетом алиментов и текущих долгов Вова получал мизерную пенсию. Ее хватало только на неделю дешевого винного питания. Следующую неделю он жил на вновь занятые деньги, а две оставшиеся – совершенно на божьей милости. Милость эта включала аптечные настойки, дешевые одеколоны, тормозную жидкость и бытовую химию, как например стеклоочиститель синего цвета со смертоносным названием «нитхинол».
Вова пил самоотверженно, пил жестоко по отношению к себе, пил так, чтобы умереть. Он знал, что ему осталось немного. Безнадежный больной всегда чувствует свой конец. Вова ждал смерти как единственного избавления от непрерывного отходняка. Внутри его уже не оставалось ни одного здорового органа, у него гноились ноги, пухли руки, не слушались пальцы. Всякое действие, кроме опрокидывания в рот стакана, превращалось для него в изнурительную работу. Никаких принципов, никакой воли, ничего уже не было у Вовы.
В своей измученной душе он проклинал не только ментов, ускорявших регулярным избиением распад его печени, он проклинал уже весь род людской и даже мать, его породившую. Он не помнил дочери, он не узнал бы при встрече жену. Но одного человека он уважал. Уважал трепетно, уважал свято. Даже в те минуты, когда уже казалось, что наконец пришла костлявая с косой, он вспоминал его, думал только о нем. Он не знал его фамилии, он лишь знал, что зовут его Саня, что он журналист и живет недалеко в двухэтажном желтом доме.
Два раза за последний месяц Вова видел свою смерть. Она приходила в одно и то же время, в пять утра, когда весь город спал особым мертвым сном, когда опохмелиться было просто невозможно. Она глумливо улыбалась своим вечным оскалом и долго ходила вокруг постели, нагоняя невыносимый страх. Потом резко бросалась на него, острым коленом давила ему на грудь и хищно смеялась. А он медленно задыхался от бессилия и ужаса, совершенно один в бесконечном черном безмолвии.
И тут, словно солнечный луч, в черное окно его памяти врывался Саня. Одним только взглядом своим он опрокидывал смерть, и та исчезала. А Саня смотрел на него добрыми человечными глазами, каких уже не бывает у людей, улыбался и говорил: «Ну как ты, Вова? Плохо? Ну приходи ко мне, у меня есть». И Вову поднимала невесть откуда взявшаяся жизненная сила, он прыгал в свои ботинки и, не чуя себя, несся к его дому. Долго кружил у этого дома, заглядывая в его спящие окна, потом подходил к двери, обитой черным дерматином, и, обливаясь холодным потом, наконец решался нажать кнопку звонка.
Два раза спасал его Саня-журналист, с которым он познакомился месяц назад в пивнушке. Познакомился как с обычным собутыльником, как с пьяницей, хоть и прилично одетым. Только сразу бросалось в глаза, что человек он необычный. Все говорил что-то о высоких материях непонятным книжным языком, но было видно, что не врал, а говорил свое, выстраданное. Может быть, поэтому в загрубевшей пропитой душе тут же возникало доброе чувство к нему. И даже доверие, о котором давно было потеряно всякое понятие.
Сейчас, перед тем как столкнуться с пахнущей женщиной, Вова Черный вышел от Сани. У него еще не было кризиса, но он ждал его ночью. И для этого занял два рубля, чтобы купить вина или одеколона. Вино в такие минуты спасало лучше всего, хотя одеколона выходило больше и от него он быстрее засыпал.
Он вышел, раздираемый мучительной проблемой выбора, но встреча с незнакомой женщиной заставила его отвлечься от жизненных раздумий. Впервые за два года встречная женщина привлекла его внимание. Потому что понял он, куда она идет! И весь путь до самого магазина он радовался. Он шел, поджавшись весь, как улитка, с трудом передвигая ноги и тупо глядя в асфальт перед собой. Но в душе он радовался. За столько лет он радовался не своей удаче, не предстоящей бутылке, а радовался за другого человека, который когда-то с болью говорил о высоких непонятных материях и к которому теперь шла красивая женщина.
* * *
Вова Черный жил в малоопрятной двухкомнатной квартире. Однако полным хозяином там не являлся, а жил на правах, которые многие хорошо знают и очень не любят, на правах, называемых «с подселением». Занимал он комнатку, которую ему, как инвалиду, выделила шахта после распада его семьи. Другой же комнатой владела семья, состоящая из трех человек – мамы Вали, папы Гены и восьмилетнего отпрыска Кольки. Собственно, семья владела не только другой комнатой, но и всей оставшейся в квартире площадью – кухней, ванной и коридором.
Кухней Вова не пользовался вообще, в ванную проникал только ночью, когда все спали, с замиранием совершал свои естественные процедуры, после чего некоторое время обязательно размышлял о природе возникновения шума в унитазе. Летучей мышью, без единого звука, он пересекал коридор и прятался в своей комнате. Это была комната страха. Здесь он прятался от всех людей, которых в состоянии алкогольной депрессии он панически боялся. И здесь же они являлись ему, только уже в подлинном своем обличье – с красными глазами, с рогами, копытами и хвостами, являлись в виде змей и крыс, червей и сороконожек, слизней и пиявок.
Ни в ванной, ни в коридоре не было ни одной его вещи. Особых вещей не было у него и в комнате. Только кровать с грязным матрацем, табуретка и стол без клеенки. Никто из гостей, из его собутыльников, после встречи с мамой Валей уже не приходил к нему. Да и мы с вами задержимся не более чем на пять минут.
Как раз в то время, когда мучимый Вова подходил к магазину, в дверь его квартиры позвонили. Звонок был короткий и однократный, что говорило о большой вежливости или скромности звонившего. Мама Валя сразу поняла, что это не к ней. Она стояла у кухонного стола, широко расставив ноги, и с ожесточением стучала молотком по курице.
Женщина эта имела очень привлекательный вид. Не для поэтов, к сожалению, а для сатириков, юмористов и просто женоненавистников. Была она в том критическом возрасте, когда всякая мать со своей материнской позиции решает для себя проблему взаимоотношений с мужчинами. Кто просто отставляет эти отношения на второй план, кто еще прилагает усилия и старается ничего не менять, а кто, не прилагая никаких усилий, вычеркивает мужчин из своей жизни.
Ну а кто-то ведет себя подобно самке австралийского паука, пожирающей самца, ее оплодотворившего. Мама Валя относилась именно к этой наиболее редкой категории.
Черные усики уже уверенно наметились на ее решительном и волевом лице, хотя лицо это продолжало ежедневно обезображиваться косметикой. Привычка, избавится от которой, наверное, не в силах ни одна женщина. Ее тело, как бы повинуясь новой установке относительно мужчин, тут же приняло все формы, не вызывающие у них аппетита. Ряд защитных жировых складок прошел из-под мышек до бедер, убрав ту самую соблазнительную линию, которая дается женщинам еще в период их созревания. Живот угрожающе разбух и выступил перед грудью, что сразу придало профилю ее внушительный таранный вид. Особенно ярко это проявлялось в том девичьем халатике, который по причине невысокой зажиточности она все еще продолжала носить дома. Маме Вале недавно исполнился тридцать один год.
– Кого это черти принесли! – невольно вырвалось у нее. И тут же последовала команда: – Генка, пойди глянь!
Папа Гена, только что вернувшийся из жэка, где он работал слесарем-сантехником, воспользовался затишьем в комнате и прикорнул на стареньком раздавленном диванчике перед поломанным телевизором.
– Ты что, падла, уже захрапел? – с удивительной проницательностью догадалась мама Валя. – Я же тебе сказала собираться за Колькой!
Но папа Гена, тоже не ждавший визитов, слишком глубоко погрузился в сон.
– Вот скотина! Тебе бы только пожарником работать! Спал бы и спал, паскуда, двадцать пять часов в сутки! И еще бутылку бы тебе под подушку для полного счастья. И ничего в жизни не надо дармоеду! Никаких забот.
С этими словами мама Валя швырнула на стол молоток и сама своей тяжелой походкой отправилась к двери.