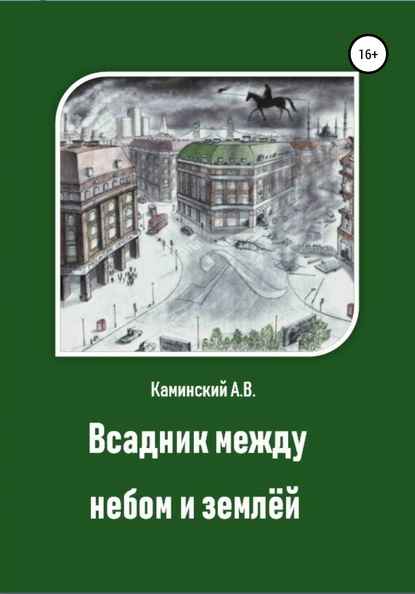 Полная версия
Полная версияВсадник между небом и землёй
– Да, – ответил Джордж. – Называется «Всадник между небом и землёй».
– Споёшь?
– Гитары нет.
Анжелика в гневе отшвырнула ножницы.
– А какого чёрта ты не взял гитару на репетицию! – возмутилась она. – Побежишь за гитарой!
– Я принёс гитару, – спокойно сказал Костя и выдул гигантский пузырь. Ребёнок, сидевший рядом, аж рот открыл от восхищения.
– Ах, Костя, – вздохнула Анжелика.
Она опять взяла маникюрные ножницы и вернулась к своим ногтям.
Когда зрители вдоволь нааплодировались и наконец-то покинули зал, Анжелика собрала актёров, и они вновь приступили к генеральному прогону.
– Так, Некто пошёл! Медведь…
– Здесь.
– Пошёл. Всё, Виталя! Виталя, бл…на х…, свет, Сергеич! Куда ты пошёл? Давай нам лесной свет. Егор, стоять здесь!
– Я только…
– Я сказала стоять здесь, смотреть на меня! Значит так, последний раз говорю всем… Да, кстати, Джорджик, ты не сидишь случайно на моих очках?…
* * *
Я умер в ту среду в районе шести;
Бригада везла меня в город, зевая от скуки.
Теперь все прошло, и умелые руки
Я жму персоналу за то, что меня не спасли.
В углу пылится холст – не дописать,
На нем лишь Тень над рекой.
Мой сын придумал его назвать
«Всадник между небом и землей».
Падешь ли ты навзничь,
Подстреленный влёт, —
Не будет мне жаль тебя.
Развеют ли руки твой пепел по свету –
Мне не жаль!
Но сберегу твой дар,
Он – не радость, не боль,
Но, как предчувствие весны,
У горизонта —
Всадник между небом и землей.
Израненный мой гарнизон твоей милости ждет;
Я проиграл, я разбит, но вот что обидно:
Ты сбил цель, куда редко кто попадет,
Я целюсь в мишень, которую даже не видно.
Разлуки нет страшнее, чем
С любовью и с головой,
Но для меня всего страшней
Забыть, что я есть —
Всадник между небом и землей.
– 8 -
Августовскими вечерами они с Топтыгой подолгу сидели у картины «Берегите лес», которая высилась на покосившемся старом щите на краю рощи. И всё казалась она какой-то странной, что ли.
– Слышь, Михай, – говорил Некто, сидя на пригорке в час заката, разглядывая творение, – мужичок-то на картине, вроде кажись, вчера другим боком сидел.
– Определённо другим, хозяин, – кивал Топтыга.
– То-то и оно. А поленья в его печке, вишь, вчера-то дымок от них в комнату шёл, а нынче что? Видал?
– Видал.
– Нет дымка-то. Вот так вот, – чесал подбородок Некто.
– Нет дымка, – соглашался медведь.
На этом оба замолкали. На другой вечер в картине находились другие изменения, которых не было в предыдущий день, и так целую неделю, пока, наконец, не произошло нечто уж совсем странное – с картины исчез мужик!
– Не, ты видал, а?! – ахнул Некто. – Эт что же это такое, люди добрые? Мужик-то, а? Топтыга! Мужик-то сбежал!
– Угу. Определённо сбежал, хозяин, – подтвердил медведь.
– Ах, ты, мать частная… Ну, картина! Ай, да Шишкин, паразит!
И вдруг быстро стало темнеть. Солнце так стремительно скатилось за горизонт, что звёзды даже слегка помедлили, словно растерявшись, прежде чем загореться на чёрном небе. На поляне перед картиной стояла маленькая девочка. Её волосы струились с плеч, как золотые светящиеся змеи. Они ниспадали на траву, текли во все стороны по земле, ни на минуту не прекращая своего движения. Они были живые.
– Ну, вот, Христиан, ты и дошёл до своего последнего Зала, – сказала она низким голосом.
Топтыга заскулил и бросился прочь с проклятого места. Некто остолбенел. Он вспомнил ЕЁ.
– О каком зале ты говоришь?
– О последнем Зале лабиринта, – ответствовал дух. – Зале последнего не пройденного тобой Зодиака. Созвездия Водолея. Я смею надеяться, ты не забываешь, что твоя инициация ещё не завершена.
– Постой. Какая инициация может быть здесь, в лесу?
– Я так и знал, Христиан, – опустила голову девочка, – ты и впрямь забыл, где ты находишься. Да. Так бывает… Но загляни вглубь себя, и ты поймёшь, что всё ещё…
– Что?
– Ты всё ещё… в Пирамиде, ученик мой. Посвящение продолжается.
Некто сел на траву и обхватил голову руками. Нет. Это была не трава. Камень, холодный каменный пол.
– Около семи тысяч лет ты проходишь инициацию в лабиринте Великой Пирамиды, – продолжил дух, меняя свой облик, – и ты прошёл уже одиннадцать залов посвящения, соответствующих одиннадцати знакам Зодиака.
Учитель Садакх подошёл к Христиану и положил ему руку на плечо.
– Остался последний, двенадцатый зал, друг мой, – сказал он, указывая на картину. – На той стороне тебя ждёт последний круг испытаний, и ты свободен.
– Как я пройду… сквозь картину? – неуверенно проговорил Христиан.
Маг усмехнулся.
– Это не картина. Видишь ли, у людей много разных способностей. Одни имеют способность рисовать картины, другие – целые миры. Но время в этих мирах движется не так, как у нас. Например, в этой, как ты её называешь, картине оно замедленно, поэтому у нас проходит месяц, а там – может быть только минута. Вспомни облака. Это стихии воздуха. Они кружатся в быстром танце, но мы видим лишь один их оборот и взмахи кружев на одеянии, однако, когда их пляска кончается, и они усталые собираются на отдых, на Земле проходят многие годы…
– Но как же? Как же можно жить… в картине? – тихо спросил озадаченный Христиан.
– Но мы ведь живём. С той стороны и мы с тобой кажемся нарисованными. Не всё, конечно, что творит человек, оживает, но кто это может знать наперёд? Плохой художник рисует картины, хороший – миры… Кстати, тебе следовало бы поспешить, а то человек, которого ты имел честь лицезреть на этой картине, вернётся проверять, как горят поленья в печи, и тогда тебе придётся ждать ещё два года, пока он не уйдёт. А пугать обитателей картины – это не сделало бы нам чести, друг мой. Так что… Увидимся на той стороне… Пирамиды.
И вновь был закат. Солнце едва только касалось верхушек сосен. Христиан протёр глаза. Никого.
Он подошёл к краю картины и заглянул внутрь.
* * *
Метель улеглась. Небо расчистилось, заискрилось миллионами звёзд, а вскоре из-за багровой тучи выглянул серп молодого месяца, и тут же сугробы вдоль дороги, да и вся степь кругом, засеребрились от его приветливого света. Непогоды как не бывало. Стояла такая глубокая тишина, что никак не укладывались в голове ни ветер, ещё минуту назад рыскавший по земле, ни снег, летевший отовсюду и во всех направлениях. Остался только его хруст под подошвами зимних сапог – единственный звук на многие километры степи.
Однако вскоре показались огни посёлка, по правую руку от дороги появились очертания первых домов. Из труб в ночное небо тянулись тонкие струйки дыма, послышались отзвуки разудалой гармони.
– Ни в жизнь бы не подумал, что Новый год мне придётся встретить вот так, – сказал Клим и остановился, разглядывая часы.
– Сколько там? – спросил Ким.
– Тридцать пять минут двенадцатого.
– Успеем, поди?
– Да конечно, – уверенно сказал Клим, запахнул полу разодранного пополам плаща, и они продолжили путь.
Впереди показался чей-то силуэт. Прямо по курсу навстречу им двигался престранный субъект. При ближайшем рассмотрении им оказался человек с весьма неухоженной бородой и наполовину облысевшей головой, причём шапки на субъекте не было. Вообще, одет он был, мягко скажем, не по погоде – элегантный пиджак на голое тело, брюки, вот, собственно, и вся его одежда. Ни шубы, ни пальто…
– Во, бухает нынче народ, – сказал Клим, подозрительно разглядывая приближающегося субъекта.
– Да-а, – протянул Ким.
Поравнявшись с нашими героями, бородатый незнакомец спросил, не сбавляя шага:
– До города далеко?
Ким и Клим посмотрели на него с удивлением – человек-то был трезв, как огурчик. «Ограбили», – подумал Ким.
– Километра три до остановки, – сказал Клим. – «Двадцать пятый» как раз идёт в город. Но даже на последний вам уже не попасть. Ловите попутку. Вам, случайно, не холодно?
Незнакомец усмехнулся.
– А вам? – спросил он.
Конечно, наши герои после битвы с волками тоже имели вид, скажем так, весьма живописный, – Клим шёл без шапки, в разорванном от шеи до пят плаще, который, к тому же, был так пережёван и разодран клыками, что его оставалось только снять и выбросить от греха подальше; Ким был вообще, как мы помним, закутан в тигриную шкуру, которую ему подарил Старый Лис, этим его одежда и ограничивалась.
Итак, незнакомый бородач усмехнулся вторично и, больше не сказав ни слова, пошёл своей дорогой. Ким и Клим смотрели ему вслед.
– Ты видал, чё, – задумчиво проговорил Клим. – Как он идёт-то вообще?
– А что? – не понял Ким.
– Да так. Идёт-то он того… босиком.
Ким прищурился и даже сделал шаг в ту сторону, куда шёл подозрительный субъект.
– Мда-а…
Он сильнее прижал к себе шкуру, вглядываясь в сумрак, и вдруг почти перестал дышать – незнакомец удалялся, превращаясь в странно изменённый светом месяца силуэт – он не уменьшался с расстоянием, а наоборот – увеличивался. Киму показалось, что тот входит в едва угадываемый дверной проём, образованный мерцающей сеткой звёзд. Вот упала одна звезда и дверь словно бы приоткрылась – в свинцовом просвете облаков показалась Комета. И она двигалась. Всё небо пришло в движение: знаки Зодиака и месяц стали колебаться и дрожать и вот медленно поползли в сторону распахнутой двери; остатки тёмных облаков безмолвным прибоем потекли, словно против своей воли, туда же и исчезли, поглощённые тусклым светом Кометы; даже крохотные огоньки самолёта, летящего из аэропорта, замерли на мгновение посреди небесного водоворота и неохотно, но всё же повиновались неотвратимому зову Кометы. Ким был так опьянён этим фантастическим явлением, что только и мог что лепетать нечто вроде «наконец-то я Её увидел, Клим, наконец-то увидел…».
Небо опустело. Оно стало чёрным и пустым, как будто его стёрли и забыли о нём навсегда. Всё замерло. Комета падала в степь.
Всадник уже поднимался на горизонте. На фоне черноты ночи он был виден как серая живая скала, сотканная из дыма городских труб. Огромное серое облако-конь несло своего седока навстречу полураздетому Незнакомцу, который был уже величиною со степную вышку и становился всё выше, словно его, как масло, размазывали между небом и землёй. Незнакомец двигался в просвет двери, за которой была Комета, и Всадник плыл за ним, подхлёстывая своего облачного коня.
Вспышка. Комета упала в степь. И праздничный город весь в кострах и факелах вырос из чёрной пустоты в одно мгновение. Занавес распахнулся. На главной площади Ким увидел сцену, окружённую пьяной толпой, которой, как морю, казалось, нет ни конца ни края. Толпа выла то ли от восторга, то ли от ужаса и вверх вздымала горящие факелы. На сцене Ким увидел себя в костюме скомороха, танцующего и орущего какую-то вакханалию из режущих, как нож, звуков, никак не похожих на его настоящий голос; передний ряд толпы пытался прорваться к нему, то ли чтобы расцеловать, то ли убить, но стража не подпускала никого – дулами автоматов и алебардами она преграждала путь толпе к краю сцены. И, корчась на сцене в своём болезненном трансе, Ким с трудом, с неимоверным трудом оторвал взгляд от толпы, тянущей к нему свои руки, от спин закованных в доспехи автоматчиков и посмотрел вперёд, туда, где поднимался дым из окон пятиэтажек, где за колонной танков громоздились баррикады и пролегали тонкие и острые, как бритвы, трассы пулемётных очередей. Там, на холме, выросшем на месте упавшей телебашни, среди искорёженной мебели, перекрытий, обгорелых каркасов машин скорой помощи и терзаемых ветром обрывков газет, была возведена другая сцена, тоже окружённая огромной беснующейся толпой. Но вместо небоскрёбов аппаратуры и проводов на сцене стоял только один инструмент. Крест. В пять человеческих ростов вышиной. Вбитый намертво. И на этом инструменте под душераздирающий рёв толпы играл Незнакомец. И это был лучший концерт в его жизни.
* * *
Ким стоял посреди заснеженной дороги и смотрел вслед удаляющемуся в сторону автобусной остановки незнакомцу. Холод уже не чувствовался. Ким высунул руку из-под шкуры и зачерпнул пригоршню снега. Снег зашипел, мгновенно растаял в ладони и даже превратился в пар. Ким не поверил своим глазам. Ладонь была суха.
– Как будто бы душно стало, – заметил подошедший к нему Клим. – Или у меня нос заложен? – он шмыгнул носом. – Да нет, вроде. Душно, как в э-э… ну, в общем, как…
– Как в Пирамиде, – закончил Ким.
– Ну, – пожал плечами Клим, – можно сказать и так.
– Как пить дать ОРЗ подхвачу, – медленно, словно во сне, проговорил Ким, – пошли-ка быстрей.
– Пошлить? – переспросил Клим. – Пошлить я умею.
– Идём. Новый год скоро, – Ким развернулся и, не торопясь, направился по дороге в сторону весёлых огоньков посёлка.
Клим ещё постоял, проверяя исправность своего носа, сильнее запахнулся в обрывки плаща и пошёл догонять Кима.
Близилась полночь. Путешествие, наконец-то, подходило к концу. Вот и знакомый дом – огромный, расписанный красным орнаментом белый кирпичный особняк. На втором этаже горела лампа, в окне темнели листья огромной пальмы, росшей у подоконника.
– Ну, что, покурим? – благодушно предложил Клим, когда они подошли к ступенькам, ведущим к двери.
– Я замёрз, как собака, – тихо сказал Ким – он всё ещё пребывал в каком-то сонном оцепенении.
– Да, градусов тридцать есть, – бодро отозвался Клим и достал пачку «Петра». – А мы всё же так, немножко курнём.
Это была традиция: в любое время года сразу не звонить, а немного постоять, посмотреть на окрестности и просто помолчать с дороги.
Прикуривание от одной спички всегда создаёт атмосферу некоего тайного братства, причастности к одному, общему делу. Это разговор без слов. Облака собственных мыслей, окружавшие каждого, за секунды горения спички, начинают тлеть и вдруг вспыхивают общим пламенем, образуя единую атмосферу, сопричастность общей тайне. Поэтому только молчание…
Отсюда в свете месяца был виден изгиб далёкой Оби, видневшейся за полосой редких перелесков, – уже закованной в лёд, белой, а не серо-зелёной, как летом, огоньки ферм внизу у подножия холма и столбики дыма из труб соседнего посёлка, что раскинулся на холме за полем.
– Всё, я щас околею, стучи, – Ким выбросил недокуренную сигарету в темноту. Она описала в воздухе плавную дугу, ударилась об оледенелую ступеньку и взорвалась огнями тысячи городов, рассыпанных где-то внизу.
Клим затарабанил в массивную железную дверь.
И вот затопали хозяйские ноги в коридоре, послышался знакомый бас «иду, иду», загромыхал замок, дверь распахнулась – в электрическом свете стоял улыбающийся Роман.
– О-о-о! Кого я вижу! – заголосил он. – Ну, наконец-то! Я думал, уж не приедете. Давайте в кухню… Ну и наряд!
Едва только за ними закрылась железная входная дверь, и холодная ночь опять осталась в одиночестве по другую сторону, как все настенные часы в посёлке нестройным разноголосым хором принялись бить двенадцать раз.
* * *
Утро было морозное, ясное. А сугробов за ночь намело! Роман, ожесточённо взмахивая лопатой, откидывал снег. Он стоял по колено в сугробе в одном свитере, но мороза не чувствовал. Наоборот, было легко и хорошо. Наконец, появилась собачья будка, которую он и откапывал. Что удивительно – ничто во всём дворе не было так обильно завалено снегом, как шариковская будка. Словно кто-то ночью нарочно подогнал грузовик со снегом и вывалил всё его содержимое точно на будку бедного пса. На этом месте теперь смело можно было бы трамбовать и заливать горку, и она вышла бы не намного ниже той, с которой дети-самоубийцы скатываются толпами у Дворца Спорта. Ах, Шарик, бедный ты пёс!
– Как же его так занесло? – чесал бороду хозяин, переводя дух. – Уж не околел ли он там? Это ж всю ночь под снегом. А я тоже осёл, не вышел, не посмотрел…
Через несколько минут вход в гробницу Шарика был откопан. Роман сел на корточки, потом встал на одно колено, изогнулся и озабоченно заглянул в недра собачьей конуры.
На мягкой подстилке из тёплой, пускающей пар соломы, свернувшись клубком, лежал Шарик и тихонько посапывал во сне.
Роман вздохнул, поднялся на ноги и с удовольствием подставил счастливое бородатое лицо слепящему утреннему солнцу.
Эпилог
Поздней осенью в безлюдном парке, уставленном мраморными плитами и крестами, собрались две маленькие процессии. Два забрызганных грязью «Пазика» стояли на обочине. Водители о чём-то переговаривались и курили у открытых автобусных дверей. Метрах в двухстах от них кого-то опускали в разжиженную глину в деревянных ящиках, кого-то обносили водкой, и те оскабливали глину со своих подошв, чтобы не мараться.
– Ну, вот, Семён, – сказал дрогнувшим голосом старик в ветхом пальто, – и закончилась наша пьеса.
– Бог ты мой… Да что ты в самом деле, Егор, – урезонивал его другой старик. – Закончилась, закончилась… Выпей вон, а то ноешь весь день, как бабка моя.
– Эх, да что с тобой… говорить, пойду я домой.
– Ага, иди, иди, пять километров до города, – прохрипел Семён и стал откашливаться. – Лучше курнём давай, Егор Палч, ещё по одной.
Егор Палч, собравшись уж было идти к автобусу, засомневался, шмыгнул носом и полез за спичками.
– Во бл…, – пробурчал он, – спичек-то нет.
– О. Надо ж, – сказал его собеседник, проверяя свои карманы, – у меня тоже. Эй, Константин Михалыч, – негромко позвал он кого-то в толпе, – Костя, мать твою… Где спички?
– В сумке, в автобусе, – отозвался надтреснутый голос какого-то старика.
– Ясно… Мы, Егор, знаешь что? Пойдём у шоферов прикурим.
Егор Палч замялся.
– Далеко идти.
– Ну, поди, не сломаемся. Хотя… да. Что-то мне уже и курить расхотелось…
– А мож мы… и не будем курить-то, а?
– А и вправду, Палч. Давай-ка лучше хряпнем по чуть-чуть!
– Я тебе давно предлагал.
– Ххэ, он мне предлагал… Это я тебе предлагал!
Редкая рощица наполовину облетевших берёз отделяла одну процессию хоронивших от другой. По тропинке, усыпанной мокрыми листьями, неторопливо шла девочка лет двенадцати. На ней была чёрная болоневая курточка и белые джинсы, на ногах кроссовки. Порывы ветра трепали её непокрытые волосы и швыряли в лицо падающие с берёз листья.
– Эй! – позвал кто-то из глубины рощи.
Девочка остановилась.
– Что ж это вы, – сказала она кому-то невидимому, – позвали на свидание, а сами прячетесь.
– Я не прячусь, – ответил голос, – я просто в Шапке Невидимке.
– Тогда снимайте вашу шапку и дайте её мне – я замёрзла.
– Да пожалуйста, – выходя из-за дерева, сказал мальчик и нехотя направился к тропинке со спортивной шапкой в руке. – Вот, держите. Улучшенная модель.
– Спасибо. А как же вы?
– Ничего, у меня капюшон, – ответил мальчик и надел капюшон своей «Аляски».
– А-а.
– Ну, идём?
– Идём. А куда?
– Просто.
В небе над их головами качались растопыренные пальцы берёз, стремительно проплывали серые облака, подгоняемые холодным осенним ветром. Солнце то показывалось на мгновение, ослепляя глаза, то вновь скрывалось.
– Кого это вы хороните? – спросила девочка.
– Да бабульку одну. Соседка по площадке. Она была режиссёром в нашем ДХТ. Отец, помнится, водил меня как-то давно, когда я был маленьким, на детские спектакли. Мне всегда нравилось. Я, когда вырасту, тоже стану актёром, или режиссёром. А вы?
– А у меня мама умерла…
– Жалко.
– Да.
Дальше они шли молча, не зная, о чём ещё можно поговорить.
– Сегодня так холодно, обещали вечером дождь со снегом, – нарушил молчание мальчик. – Вас как зовут?
– Меня? Анжелика.
– А меня Жора. Но можно просто – Джордж.
Барнаул
1999 – 2006 гг.
ПУТЕШЕСТВИЕ ДО РАССВЕТА
Сказка

Вступление,
или о том, как все началось
Никто в городе не знал, что в эту ночь заканчивается строительство Пирамиды на Снежном проспекте и, скорее всего, ее вершину можно будет увидеть даже из моего окна, конечно, если надеть специальные очки. Тем более, что прошлой ночью, когда я был на крыше, стоя на одной ноге на кончике телевизионной антенны, я видел как копошатся строители на чугунных иглах, венчающих Пирамиду. Им не нужна была подсветка прожекторов снизу, ведь не каждый фотон заберется на такую верхотурину. А освещением служил тот самый молодой и неопытный месяц, который был так криво прибит к небосводу предыдущей бригадой. Я еще немного постоял, посмотрел, как строители проверяли прочность железобетонных зубцов своими стеклянными молоточками, но потом с туманности Андромеды спустилось облако и закрыло от меня ту часть горизонта, где возвышалась Пирамида. Да и к тому же раскинувшийся неподалеку юго-западный ветер все чаще стал задевать меня краешком своей длинной бороды, и было уже не так просто стоять на неуютной антенне. Тогда я полез вниз.
В подъезде было довольно темно, видно Фонарщик опять забыл подлить бензина в факелы этим вечером. Впрочем, каких только странностей не бывает в 30-м доме. Вот и сейчас, я только дошел до площадки шестого этажа, как одна из дверей со скрипом отворилась и на пороге показался Барсук – в темноте едва различались светлые полосы на его пиджаке. Но я сразу узнал его по запаху поздних грибов и опавших листьев. Барсук тоже заметил меня и достал из жилетного кармана свечку, причем, уже горящую (он был мастером на такого рода фокусы).
–
Здравствуй, Барсук, – сказал я.
–
Здрав-Ствуй, – уныло ответил Барсук.
–
А я вот… а я вот на крыше сидел, – сказал я, указав лапой в потолок.
–
И как там?– спросил Барсук.
–
Высоко, – мечтательно ответил я и даже улыбнулся.
–
Наверное, вам было неудобно э-э, – Барсук замялся, – стоять на антенне столько времени?
Тут я споткнулся о ступеньку и от этого чуть не наступил на свой собственный хвост.
–
Немножко, – ответил я.
Наступило молчание.
–
Если вам далеко добираться, – сказал Барсук, – можете переночевать у меня – постояльцев нынче мало и лишняя комната найдется, я думаю.
–
Нет, спасибо, – ответил я, – мне тут недалеко.
–
Что ж, тогда спокойной ночи, – сказал Барсук.
–
Спокойной ночи, – сказал я.
Мы разошлись – я побежал вниз по ступенькам, которые изредка перешептывались друг с другом, а Барсук зашел в квартиру. Но мне казалось, что он тоже хотел посидеть на крыше в последний день строительства Пирамиды. Тем более, некоторые полагали, что в тайне Барсук был самым настоящим Астрономом, и даже больше того, ходят слухи, якобы у него есть Большая Труба, в которую можно увидеть самые далекие звезды. И, как бы в подтверждение моих мыслей, где-то наверху скрипнула дверь одной из квартир, и послышалось шарканье чьих-то ног. "Поди и трубу с собой взял," – подумал я.
Было уже за полночь, когда я вышел из подъезда, отвязал лодку и, широко взмахивая веслами, поплыл по Кирова.
Глава 1. Ворона кидает меня в реку
Ты спросишь, удачно ли я доплыл до дому той ночью? Что ж, ничего такого не произошло, и если принять во внимание, что бури на Некрасова – дело весьма привычное для горожан, то нет ничего удивительного в том, что, замечтавшись, я слегка проплыл свой поворот, а когда до меня это дошло, было уже поздно. Моя лодка попала в вихри тех ужасных штормов, которыми так знаменит перекресток Кирова и Некрасова.
И вот уже пропали дома и улицы, только в черном небе сверкали молнии, приклеенные к мрачным тучам; грохотал гром, доносившийся из мощных динамиков, подвешенных властями города на случай грозы к низким кучевым облакам. Огромные руки волн поднимались из пучин с кружками соленой морской воды и выливали их содержимое в мою кубарем плывущую лодку. Я сначала пробовал вычерпывать воду, но мокрые лапы не слушались, и тогда я упал на дно моей ненадежной посудины и закрыл голову зонтиком, невесть откуда прилетевшим. Конечно, можно было бы попытаться найти пробку на дне моря и выдернуть ее, тогда бы вся вода ушла в водопровод, но, честно признаться, мне уже было все равно. Море все грохотало, волны грозились разбить вдребезги бумажные борта моей лодки, и шум, шум…
Когда я пришел в себя, то понял, что уже давно иду по бескрайней степи, которой нет ни конца, ни края. Где-то далеко справа от меня стояла грузовая машина с огромной выдвижной лестницей, а по ней карабкались какие-то люди в длинных плащах. Заберутся на верхнюю ступельку, посуетятся немного, и опять вниз ползут, а машина за это время отъедет немножко вперед и снова встанет. И тут я разглядел цифру 4 на ее борту и сразу догадался, что это работники четвертого ЖЭУ развешивают звезды в степи. Ведь как только машина тронется с места, в том участке неба на несколько звездочек больше и станет. Я шел и раздумывал над тем, что однажды прочитал в одной умной книжке.



