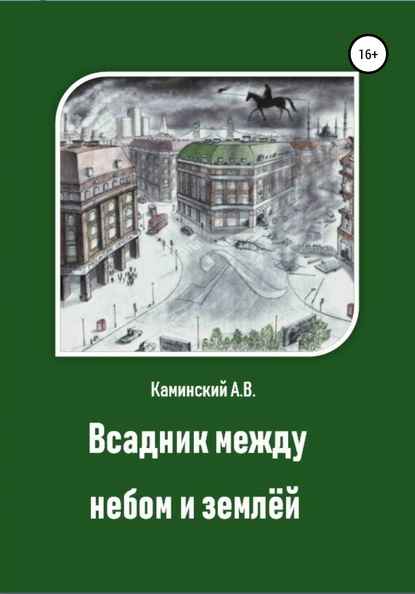 Полная версия
Полная версияВсадник между небом и землёй
– А что, дядя, взгляни на мои бусики! Вон, я какая в них нарядная! Взгляни, дядя!
Ветер в лесу выл так, как будто бы 10 симфонических оркестров играли Вагнера в разных тональностях одновременно! Дверь распахнулась и стала биться о косяки. В комнату влетели сухие листья и в свете молний закружились перед невидящими глазами Акинфия Дмитрича в такт сводящей с ума какофонии невидимых оркестров.
– Взгляни на мои бусики, дяденька! – ходила по кругу девочка, но в самый круг зайти не смела. – Взгляните по-доброму, Акинфий Дмитрич, я ведь вас всё одно достану, мне ведь ваши круги колдовские не преграда. Вы, я гляжу, не только «Записки Охотничка», но и «Вия» читывали! А?!!!
Избушка содрогнулась. Перекрывая бушующую стихию, в чёрной глубине леса послышался глухой звук приближающихся шагов.
– Зря вы так, Акинфий Дмитрич, – покачала головой девочка, – вон ведь какие бусики, как стёклышки, прозрачные!
Акинфию Дмитричу упала на колени железная чашка и со звоном покатилась по полу; другая, вылетев прямо из закрытой печи и вышибив заслонку, летала по комнате над самой головой. Акинфий Дмитрич еле выдавливал из себя несвязные звуки и тыкал пальцем в текст Писания, но слышал, что произносит только одно слово:
– Господи… господи… господи… господи…
Девочка остановилась. У неё теперь были такие длинные волосы, что они обвивались вокруг её ног, устилали пол всей избушки и через бьющуюся дверь выходили наружу. Они, казалось, струились с плеч девочки и, огибая круг с Акинфием Дмитричем, сверкая, всё текли и текли по комнате.
– Хорошо, дяденька. Открою я тебе тайну. Вы ведь хотите узнать тайну, Акинфий Дмитрич?
– Господи… господи… господи…
– Вижу, что хочешь! – не своим голосом произнесла девочка, и черты её лица стали меняться. – Ну так слушай!
В это мгновение потолок избушки стремительно взлетел ввысь, стены задрожали и поехали в разные стороны, окошко вытянулось, словно пыталось зевнуть.
Под каменные своды тёмного зала через узкое окно падал столб лунного света.
– Приветствую тебя, Христиан! – раздался голос, и эхо раскатилось по храму.
Человек с крестами тамплиеров на белом плаще стоял перед самым кругом. Его загорелое лицо было отмечено шрамом, проходившем от переносицы до правой скулы, так что было не ясно – то ли он улыбается, то ли морщится от боли.
– Извини, что не подаю тебе руки, – продолжил тамплиер, – твои руки в кольцах, а мои, как видишь, пусты. Потому смею надеяться, ты не выйдешь из своего круга, иначе, – рыцарь усмехнулся, – мне придётся туго.
– Не бойся, рыцарь, – отозвался Христиан, – я не выйду.
Сказав это, он поднял руки, и на каждом пальце маленьким солнцем сверкнули золотые кольца. Только сейчас он почувствовал, насколько тяжела эта ноша – его пальцы не сгибались, их тянуло к полу, словно они стремились пройти сквозь его каменную толщу.
– Мы не виделись почти восемьсот лет, Христиан, – сказал тамплиер, продолжая ходить по кругу. – В тот день ты так лихо вышиб меня из седла, что, клянусь святым Дунстаном, я думал, что пролечу через всё ристалище прямо в рай.
Христиан увидел, как незнакомец остановился у столба лунного света, падавшего из высокого окна, и на какое-то мгновение ему показалось, что рыцарь опёрся о него, и столб света прогнулся под его тяжестью.
– Да, именно с тех пор, – продолжал тамплиер, – именно с тех самых пор я считаю тебя лучшим всадником в Палестине. И лучшим своим товарищем. Вспомни меня. Я – Малтон из Гилсленда.
– Извини меня, рыцарь, – безнадёжно покачал головой Христиан, – из того, что ты рассказал, я не помню ровным счётом ничего. Я не помню этого турнира. Я не помню тебя. Я не помню даже, как меня тогда звали.
Рыцарь хотел было понимающе похлопать его по плечу, но вовремя отдёрнул руку и произнёс, то ли печально, то ли с усмешкой:
– Я понял.
Он повернулся к алтарю, медленно встал на одно колено, опустил голову и начал так:
– Первая церемония в Пирамиде состоялась 68890 лет назад, когда звезда Вега послала свои лучи прямо во вход Пирамиды. Сама Пирамида была закончена за десять или пятнадцать лет до этого события. Верхние камеры Пирамиды скрывают тайну, восходящую к временам, предшествующим египетскому царству и изобретению иероглифов…
После полудня жара стояла невыносимая. Хотя время от времени со стороны реки и налетало её опьяняющее прохладой дыхание, но тут же от пустыни вдруг накатывала такая волна зноя, что рты невольно открывались, тщетно пытаясь зачерпнуть хоть глоток воздуха.
Запели трубы, и, словно пробуждённая их хриплым рокотом, радостная толпа подхватила Солнечный Гимн, когда процессия подошла к ступеням, ведущим к Вратам между лап Сфинкса.
Впереди шествовал Певец, несущий символы музыки, затем – Астролог, с гороскопом в руке и листом пальмы – символом астрологии. Следом поднимался Держатель Палантина с чашей для возлияния. Христиан не раз видел его на улицах Мемфиса, его звали Камрах, и он знал всё о жертвенных животных, о фруктах, преподносимых богам, гимнах молящихся и процессиях. За ним шёл Пророк, держа открытую вазу с водой. Он был правителем Храма. Далее следовали десять учеников, каждый со своим Наставником. Они замыкали шествие.
От шума толпы и музыки, от ожидания того, к чему он так стремился и чего так боялся, Христиан едва передвигал ноги, перешагивая следующую ступень.
– Надеюсь, ты не собираешься свалиться в обморок в такой памятный день?
Христиан едва поднял голову. Рядом опять появился тот самый ливиец, с которым вчера он столкнулся у торговой лавки.
– Ни в жизнь бы не подумал, что встречу тебя именно здесь, – проговорил Христиан – он был рад, что хоть кто-то отвлёк его от мыслей, дал небольшую отсрочку перед неизбежностью предстоящего.
– Что? – не понял ливиец. – Такой шум, говори громче!
– Я говорю, не знал, что ты тоже… с нами! – оживился Христиан.
– Это не я с вами, – улыбнулся его собеседник, – а вы со мной!
– Что?
Но тут вмешался Наставник Садакх. Он слегка дёрнул Христиана за рукав его белой хламиды, и тот сразу замолчал.
Процессия, наконец, поднялась к Бронзовым воротам. Тайну их замка знали только маги, хотя, говоря по правде, закрывать их не было особой нужды – почтение к святыне и страх охраняли вход лучше любой вооружённой охраны. На небольшой площадке перед дверью ученики и их Наставники опустились на колени. Трубы смолкли. Астролог повернулся к людскому морю, бурлящему у лап Сфинкса, что-то произнёс, и многотысячная толпа оборвала свои крики на полуслове и застыла в ожидании. Стало слышно, как где-то над серо-голубой гладью Нила кричат и дерутся две одинокие чайки.
Дверь открывалась очень медленно. Тоскливый скрип её невидимых петель разносился эхом по всей дельте, вселяя в людей благоговейный трепет перед скрытым за ней Неведомым. Христиан, в отличие от пёстрой толпы внизу, стоял на коленях почти перед самой Дверью, и громовой скрежет её петель, казалось, вот-вот разорвёт его душу на кусочки. Он, как и другие ученики, был бледен, как смерть. Руки дрожали, перед глазами плыл какой-то туман, слова молитвы вылетели из головы, в которой проносилось лишь: «Вот, сейчас, вот… вот… Дверь, сейчас…»
В тот же миг он вдруг начал видеть всё, как будто со стороны: где-то далеко внизу и слева виднелась Великая Пирамида; там, где блестящая на солнце лента могучего Нила совершала последний изгиб перед тем, как выйти в море, колыхалась огромная масса людей, склонившихся перед каменными лапами Сфинкса.
– У нас есть немного времени, чтобы всё обсудить, – сказал учитель Садакх.
– Что обсудить? – пробормотал Христиан.
– Не валяй дурака, – спокойно произнёс учитель. – Я остановил церемонию из-за тебя. Ты идёшь внутрь или нет?
Христиан молчал.
– Пойми. Я не могу просто так растягивать время, дабы тратить его на увещевание таких маловеров, как ты, – продолжил учитель. – Перед тем, как ты опозоришь меня на весь Египет, я хочу, по крайней мере, знать, в чём дело? Ты меня слышишь? Я с кем вообще говорю…
– Прости, учитель, – еле слышно пробормотал Христиан. – Я – дурак, я – трус и … и предатель.
– Не болтай эту маловерную чушь, – оборвал его Садакх. – Я возился с тобой семь лет не за тем, чтобы сейчас развернуться и пойти домой…
– Я просто боюсь, – прервал его Христиан.
– Чего? Что тебе наговорила вчера эта дура?
– Она не дура, – сказал Христиан.
– Хорошо. Что тебе наговорила эта Не дура?
– Она сказала, – с трудом начал Христиан, – если я войду в Дверь, судьба моя будет Непостижимой. Непостижимой и Страшной.
– И?
– И всё.
– Ну, что ж. Типичная дура…, – учитель Садакх начал понемногу терять терпение. – Я знал, что ты будешь трудным учеником, скажу прямо – далеко не самым моим любимым учеником. Но это уж моя вина. Надо было оставить тебя ловить форель и волочиться за девками в Мемфисе.
Христиан молчал.
– Я помню, – продолжил учитель, – с каким рвением ты взялся за обучение, как преуспел в нём, как ждал сегодняшнего дня. Но ты единственный из тех двадцати, которых я сделал воистину бессмертными, кто отказывается умереть и стать таковым! Я учил аккадских царей и магов Вавилона. Я – один из Десяти Наставников прóклятого Материка. Так что же ты скрываешь в себе? – учитель взглянул прямо в душу Христиана. – Что это за единственная тёмная полоса, которую я никогда не мог прочесть в тебе? Что это за полоса? – еле слышно проговорил маг. – Открой её, и я скажу, кто ты на самом деле! Время настало. Арме наус тору а эуто бра…, – вокруг появилась серая стена тумана, – открой её… и я скажу тебе … кто ты такой… открой полосу… тэоро тор бракто ме о куорта… кто ты такой… КТО ТЫ?
Пустой, как провал небытия, безжизненный глаз мага ворвался в чёрный лабиринт и понёсся по его запутанным переулкам. Он увидел огоньки домов и заснеженную дорогу, залитую звёздным светом степь и повисшую над ней Комету. Комета падала в степь. Опять лабиринт и пустота.
– Этого достаточно? – тихо спросил Христиан, когда маг закрыл глаза.
– Да.
Учитель открыл глаза, и в них была… тоска.
– Оракул был прав, – сказал он. – Прав был и я, когда взял тебя. Я рад этому и благодарен за оказанную мне честь.
– Какую честь?
Но Садакх не ответил, а только провёл ладонью по своему взмокшему лбу.
– Так ты идёшь в Храм? Или мы идём домой? – поинтересовался он.
Христиан опустил голову и сжал губы.
– Вот что я скажу, – начал учитель. – Всю свою жизнь мы в ожидании. Мы ждём Гостей. Гостей таинственных и непостижимых, приветливых, как улыбки друзей, и страшных, как россказни старых бабок. Сначала мы ждём их страстно и нетерпеливо, мы требуем их, и это сродни капризу ребёнка, который хочет добраться до спрятанного подарка за неделю до дня рождения. Потом страсть пропадает, и начинается ожидание взрослого – спокойное и счастливое предвкушение надвигающегося вскоре застолья: можно ко всему подготовиться, купить у торговцев всё самое изысканное, разучить песни и заранее оплатить флейтистам и танцовщицам. Но чем ближе срок, тем больше страх. Ты начинаешь сомневаться, начинаешь жалеть растраченной энергии и думать, а не отменить ли всё? Ведь покой, даже покой раба, всегда будет греть жиреющее сердце, как сладкая смерть во сне. А Гости – это само беспокойство, но что ещё хуже – сама тайна, и никогда не знаешь, чем закончится их визит. А страшные Гости – это тайна вдвойне! Это поединок – сражаешься ты Вчерашний и ты Будущий, и место этой битвы – Настоящее. Можно сдаться и остаться таким, как всегда. Но можно и прорвать барьер, переступить порог будущего и взглянуть в самое сердце тайны, ведь Гости приходят как раз за этим. Они – наши друзья и наша смерть. Они идут долго, порой их можно ждать целую вечность, но, несмотря на сроки, они вдруг оказываются перед твоей дверью и стучат в неё, сотрясая стены, или наоборот – еле-еле касаются так, что порой и не слышно. Это как им вздумается, но я тебя уверяю, спроси любого, слышал ли он когда-нибудь подобный стук, и тот кивнёт, не задумываясь. Стук этот – как проверка на прочность. Каждый из нас всю жизнь грызёт стену, в которую вмурован с рождения, чтобы добраться до Истинного Воздуха мира. Некоторые выгрызают всё нутро стены, и достаточно только лёгкого толчка извне, как рухнет последний кусок штукатурки, и Новый Человек вырвется на свободу. Человек свободен, когда знает, какой несвободой он располагает, но пределами Вселенной ограничен лишь тот, кто прошёл сквозь стену. Однако зачастую внутренность стены оказывается не по зубам замурованному в ней, и нерождённый остаётся в её толще. Тогда Гостям не достучаться и не вытянуть его за руку. Они покорно отступают в сторону, и вскоре огромный молот смерти раскалывает стену надвое. Человеческое тело рассыпается на куски, как неудачная глиняная статуэтка. Гости с сожалением разводят руками и идут к следующей стене, к следующей двери. Они – наша последняя надежда и удача, как и единственная помощь. Они делают нас не одинокими в этой битве во сне за глоток Воздуха. Осколки проигравшего закладывают в печь вместе с другими неудачниками, дабы сделать из них нечто-то другое, более прочное. Редкие победители обессиленными выбираются из мастерской, которую они принимали за бесконечность вселенной, и Гости показывают им полную картину Мира – прекрасное и непостижимое разумом творение Демиурга. Тебе, Христиан, друг мой и ученик, осталось только коснуться своей стены, и её пепел унесёт ветер – она изъедена тобой за тысячи лет твоего пребывания в коконе в труху. Дверь открыта. Выйди наружу и сравни кормивший тебя гравий стены с воздухом Мира. Из пленника стань Гостем в его доме!
…Бронзовая Дверь стояла распахнутой, и десять учеников ступили в прохладные своды Храма. Христиан вошёл последним, и Дверь с грохотом захлопнулась за ним.
– 7 -
Первый луч солнца разрезал утренние сумерки. Длинные тени сосен легли на влажную от росы поляну. Через небольшое окошко с обломком стекла, торчащим, как зуб, в избушку просунулась медвежья голова. Обломок стекла со звоном упал внутрь. Медведь с тушкой худощавого зайца в зубах ловко вскарабкался по ступенькам сгнившего крыльца и, косо посмотрев на болтающуюся на одной петле дверь, вошёл в избушку.
В её единственной комнатёнке царил идеальный беспорядок: одна из потолочных балок валялась на полу, стол был перевёрнут, а две его ножки отсутствовали; стёкла, битая посуда, куски бумаги, обрывки грязного тряпья и звериных шкур валялись тут и там, олицетворяя собой первозданный хаос; сверху вся композиция была обильно засеяна золою из открытой печи и сухими листьями, залетавшими в распахнутую дверь избушки из леса. Над всем этим армагеддоном бесцельно кружился комар и тоскливо гундел себе под нос. Положив свой трофей на пол, медведь прошёлся по комнате, к чему-то принюхиваясь, и наконец остановился перед грудой тряпья и мусора за печкой. Он ткнулся туда носом, поковырял какую-то пыльную тряпку, присел на задние лапы, громко чихнул и замотал головой. Сухие листья и пыль поднялись в воздух. Под ними обозначилась человеческая рука. Груда тряпок зашевелилась. Медведь шарахнулся в сторону. Человек с неимоверно длинной бородой, соизмеримой с бородами классиков литературы, уже сидел на полу, опёршись о брёвна стены. Он был чёрен от грязи.
Медведь тем временем, поглядывая в некотором замешательстве на человека, поднял с полу своего зайца и переложил его в центр комнаты. Человек откашлялся и с трудом проговорил:
– Ты, эта… у-убери его… отсэда…
– Воды принести? – спросил медведь.
– К чёрту, я сам, – человек хотел подняться, но не смог.
Медведь подкатил к нему валявшуюся где-то под мусором алюминиевую флягу, в которой плескалась вода. Человек открыл её, вылив большую половину содержимого на свои голые колени, и принялся жадно пить то, что осталось.
– Зачем зайца приволок? – напившись, спросил он.
– Да я того…, – замялся медведь.
– Тащи его на улицу, я его там… обдирать буду, – едва слышно приказал хозяин, – давай-давай, пошёл, мало мне тут и так бардака…
Медведь унёс зайца, и слышно было, как он недовольно фыркает во дворе.
«Ну, вот, – подумал человек, – я и съехал. С медведем своим болтаю». Видно, решив проверить свои опасения, он, не вставая с места, крикнул:
– Слышь, Топтыга! Ты чё, по-человечьи понимаешь, а? Ты где?
Бурая голова зверя просунулась в окно.
– Воды, что ль, свежей принести?
– Да не, – вяло махнул рукой хозяин. – Я говорю, ты чё, понимаешь, чё я… о чём я говорю?
Медведь моргнул своими чёрными, как угольки, глазками.
– Мож всё-таки воды?
Человек опустил голову и вздохнул.
– Ладно, Михаил, ты иди пока, я сам.
Медведь ушёл.
«Я ведь даже не помню, как меня зовут, – размышлял хозяин, сидя на куче мусора, – вот чёрт, а! Кажется, звали меня…Сувлехим. Да, Сувлехим, и я торговал… господи, чем же я… в Дамаске на рынке у дворца этого… Аль-Бусаи или как там его, дьявола. Кажется, я продавал рабов. О, боже…» Он провёл ладонью по грязному лицу, и с него посыпалась пыль штукатурки. «Потом галеры, руки всегда болели, звали меня тогда… м-м… точно помню, что был негром. Вроде, продали меня какой-то мрази, какому-то финикийцу на здоровенный корабль… Да, корабль помню, но как меня тогда звали и почему я был негром – хоть убей. Кажется, этого финикийца я потом прирезал… Так. А чё я делал во дворце фараона? Учился магии. Интересно… Сабилла родила, и магию я бросил, потом бросил Сабиллу, и опять пошли какие-то храмы… Вот что отлично помню, так это турнир в Сен Трюа д’Арк. Со мной были граф Лестер и сэр Томас Малтон из Гилсленда – лучшие рыцари Палестины, клянусь душой Хенгиста! А святыня Монт-Кармельского монастыря – частица настоящего креста Господня!… Как же это всё-таки было давно…» Размышляя таким образом, хозяин избушки поднялся на ноги и, пошатываясь, вышел на крыльцо.
Было раннее утро середины лета. В чистом холодном небе мерцала последняя звезда.
«Нет у меня никакого имени, – подумал человек, – я никто. Хотя, впрочем, я ведь всё-таки жив, значит я… кто-то. А вернее некто… Кстати, сегодня Вега – между Луной и Марсом, Меркурий в третьем доме…или не в третьем?»
Он, прихрамывая, прошёлся по поляне перед избушкой, остановился под тяжёлой нависшей веткой сосны и опёрся рукой о её шершавую кору. На мгновение закрыл глаза и проговорил почти шёпотом:
– Азраэль, ты здесь?
Тень от сосны неестественно изогнулась.
– Я здесь, Повелитель, – произнёс нежный женский голос.
– Слушай приказ. В избе – порядок, снаружи, внутри, везде. Дальше. Поесть. Рыбу, солёных груздей хочу и…
– Сегодня только гречка с мясом, – спешно проинформировал голос, – есть рассольник.
– Нормально, пойдёт. И это, ещё, – Некто замялся, – чё есть из белья, одежда какая-нибудь?
– Век? – спросил голос.
– Ну, век… А хрен его знает. Эй, Топтыга, – крикнул Некто медведю, – какой век нынче? Слышь?
Ответа не было. Где-то в глубине леса послышался медвежий рёв.
– Ладно, – сказал Некто, – давай середину 17-го, джинсы там, эти, кеды, как его – камзол, или там… кафтан, что ли…
– Погода на ближайшее время?
– Ну, давай не выше + 25, там…
– Есть только +16, + 21 и + 28.
Некто задумался.
– Давай по максимуму, давай 28, покупаюсь хотя бы…
– Настроение?
– Моё? А какие есть?
– Агрессия, уровни 1, 2, 3, более 3-х. Меланхолия, уровни 1, 2, 3, более 3-х. Также в ассортименте: созерцательность, удовлетворение, радость, упоение, нега томная, нега классическая, бесконечное удовольствие, трепет юности…
– Так, постой. Бесконечного удовольствия мне пока не надо, трепета юности тоже… Знаешь, пусть будет созерцательность, скажем, 2-го уровня. И удовлетворение… э-э… ну, пусть будет тоже 2.
– Ещё заказы?
– Ещё…, – Некто почесал подбородок. – Побриться! Помыться! Баню, в общем! Ха-ха! Я тут, ну прям как э-э свинья… Построй мне баню!
– Финскую, рус…
– Русскую с веником и всем на свете, чё полагается!
– После бани что будете употреблять – квас, мёд, пиво, вино, водку, баб?
– Баб! С квасом!!! Нет, квас… с бабами! А вообще-то к чёрту баб! Такая погода… Просто квас!
– Квас… Ещё заказы?
– Всё, харэ, – Некто весело махнул рукой.
– Слушаюсь и повинуюсь, – пропел голос. Тень от сосны вновь выпрямилась.
Некто поковылял в сторону избушки (которая теперь стала похожа на сказочный терем) и остановился у низкого крылечка новенькой баньки.
«Забыл я про ногу-то сказать, вот чёрт, – с сожалением подумал Некто. – Теперь до Ильина дня хромать»
Лето было в разгаре. А ягод! Уйма. Обычная картина того времени – Некто лежит в лесу в тени берёзы на мягкой траве и изучает с самого близкого расстояния жизнь букашки, карабкающейся по стволу одуванчика. Протянет руку в сторону – схватит горсть земляники, в другую – ещё горсть. Перевернётся на спину. Хорошо-то как, господи… В зелёных покачивающихся кронах берёз – синее небо, резвые белки скачут туда-сюда да дятел где-то стучит, птахи лесные дерутся, и их трезвон разносится по всему лесу. Ветерок налетит, стрекоз разгонит. А запах-то! Ммм! Дурманит. Жара-а… В общем, что говорить – середина лета.
Купались с Топтыгой на речке, медведь рыбу ловил и жрал её, разумеется, сырой, а Некто жарил на костре. Поблизости – никого. Деревня, что соседствовала с лесом ниже по склону холма, опустела. Даже как-то скучно стало, что и попугать некого. А в остальном жизнь текла своим обычным чередом.
В августе весь домик, да и предбанник, был завален грибами. Девать их, паразитов, было некуда, насушили, насолили целую гору, хоть погреб новый копай. Бычки, к примеру, росли прямо у крыльца. Их Некто не рвал, пусть для красоты будут. Ложится он, бывало, перед ними на живот и рассматривает, как они, сорванцы, растут. На это занятие уходили порой целые часы.
Огород свой Некто полоть не любил, поэтому все грядки стояли заросшими по шею. С земледелием как-то дела не шли, не лежала к этому душа. Питались-то охотой, в основном, да рыбой. В Ильин день Азраэль, конечно, всё устроила, как по путю, и нога зажила. На следующий год Некто решил вообще ничего не садить, а промышлять только охотой да собирательством. Как древние люди.
* * *
В гримёрной стоял полумрак. К потолку неторопливо, словно в замедленном действии, летели, переливаясь в свете единственной свечки, мыльные пузыри. Их пускал Костя, вальяжно расположившись на доисторическом диване. Его усы и седеющая борода были украшены мыльной пеной и тоже блестели, как у Деда Мороза. Какой-то ребёнок сидел рядом с ним и тоже пускал пузыри, повторяя все Костины движения. Возле зеркала, спиной к ним, сидела Анжелика и стригла себе ногти. В центре комнаты двое детей переодевались в костюмы Охотника и Серого Волка. У самой двери на мягком подлокотнике кресла сидела Вика и приглушённым голосом болтала с Настей, сидевшей в кресле и томно обмахивающейся «шляпой Хенаро», – соломенной шляпой, которая была вечным реквизитом абсолютно всех спектаклей. За стеной слышались звонкие детские голоса и радушные аплодисменты зрителей после каждого музыкального номера – шёл спектакль.
– …и вот, ты представляешь, – тихонько говорила Вика, – вижу – на ступеньках «Мира» стоит Анжеликин Генка с цветами! Ты представляешь!
– Боже мой! Неужто Ленка?
– В самую точку! Идёт, смотрю… ну, мы, конечно, с Костей в стороночке, он так их вообще и не заметил, мужики, Боже мой, а я так сразу!
– Ну?
– Ну, и вот. Встречаются. Генка мило дарит ей свой букетик, а меня ещё дня три назад, паразит, спрашивал, сколько цветков должно быть в букете. Я ему говорю, для кого букетик-то? Для мамы? Нет, говорит, подружка у меня есть! Ну, как тебе? Ты представляешь? Седьмой класс!
– Боже ж ты мой… А что Анжелика?
– Да что ей-то? Ребёнок на своё свидание, она – на своё!
– Да-а?
– А ты как хотела. Дело было на той неделе после репетиции. Иду, значит, я по Красноармейскому…
В это время голоса за стеной вдруг зазвенели громче – открылась дверь, зашли Егор и Джордж. Егор остановился посреди комнаты, а Джордж сел к Косте на диван и вытащил откуда-то из темноты игрушечную гитару с единственной струной. Анжелика отвлеклась от своего занятия.
– Когда там конец-то? – спросила она.
– Уже бегут за Охотником. Кстати, Охотник, – обратился Егор к одному из маленьких актёров, – давай на сцену! Щас тебя Шапка звать будет.
– У меня тут ружьё было? – запаниковал мальчишка, заглядывая под стол и тут же под диван.
– Вот твоё ружьё, – Егор поднял с полу какой-то длинный чёрный предмет, действительно, оказавшийся ружьём. – Марш на сцену!
Охотник убежал. Опять воцарилось спокойствие, в комнате парили мыльные пузыри, слышалось воркование Вики и Насти. За стеной, в зале продолжался детский спектакль. Егор подошёл к зеркалу и стал разглядывать свою лысину, что-то напевая при этом.
– Жорик, ты песню написал? – Анжелика продолжила подстригание, но теперь уже на другой руке.



