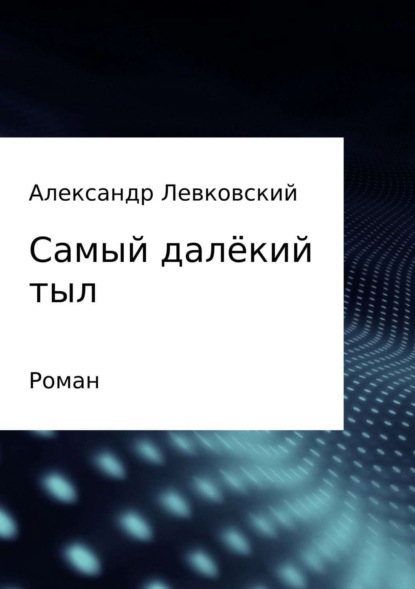 Полная версия
Полная версияСамый далёкий тыл
– Читайте Ленина! Читайте Ленина! – громыхал он на наших сборищах. – Наша беда в том, что мы не верим в то, что этот дьявол провозглашает в своих книгах! Послушайте, что этот бандит пишет: «Хлебная монополия, хлебная карточка, всеобщая трудовая повинность являются в руках пролетарского государства, в руках полновластных Советов, самым могучим средством учета и контроля…» Это – нынешняя Россия; но будущая окажется ещё более устрашающей, поверьте мне!
Никто, как мне помнится, не возражал. Но отец всегда старался повернуть всеобщее внимание от Ленина к Сталину. Он был просто одержим Сталиным. Ещё в 1924 году, когда Ленин умер, он предсказал, что грузинский дикарь найдёт способ захватить власть в Советской России. Отец определённо знал лучше любого из наших гостей, что собой представлял Иосиф Сталин. Перед Первой мировой войной он собирал материалы для своего крупного исторического трактата «Революционные движения на Кавказе в 1900-1910 г.г.». Он был неоднократно в Грузии и Азербайджане, работал в Тбилиси, Гори, Кутаиси, Баку и Батуме; копался в полицейских архивах и старых газетах – и почти везде находил «отпечатки пальцев» революционного гангстера Иосифа Джугашвили, действовавшего под псевдонимами «Сосо», «Коба» и «Сталин».
– Следите за Сталиным! – обращался он к нашим гостям. – То, что он сейчас делает – это точное повторение его кавказских похождений, только в более широком масштабе… Похищения, грабёж, нападение на банки, поджоги и беспощадные казни соратников, заподозренных в предательстве, – это всего лишь неполный список его преступных действий в начале века. Он был воплощением революционера-марксиста, живущего вне общества, не связанного его нормами и являющегося жестоким орудием пролетариата. В 1902 году, например, Коба-Сталин сжёг дотла склады нефтеочистительного завода Ротшильда в Батуме. А потом он использовал это преступление как средство шантажа против других нефтяных баронов. Вот так он и помогал Ленину финансировать большевистскую партию. И то же самое он делает сейчас в нашей России…
В конце двадцатых годов, когда мы были уже в китайской эмиграции, в Советской России началась убийственная коллективизация сельского хозяйства под жестоким руководством Сталина. Сначала тысячи, потом сотни тысяч, а затем миллионы погибающих от голода русских и украинских кулаков (куркулей, по-украински) были сосланы в Сибирь, в тайгу, в тундру – на смерть…
В разгар этой самой варварской страницы в истории нашей любимой России мой отец в состоянии глубочайшей депрессии покончил счёты с жизнью.
Я не присутствовал на его похоронах в Порт-Артуре. Я ничего не знал о его смерти; да если бы и знал, я всё равно не смог бы приехать. Это был 1932 год; Манчжурия была оккупирована Квантунской армией Японии и стала марионеточным государством со странным именем Манчжоу-Го. Порт-Артур попал под японский военный контроль. Я жил в то время в Шанхае, в центральном Китае; и только пять месяцев спустя я получил письмо от моей сестры с роковым известием о кончине отца.
Мне было двадцать, и я был студентом факультета восточных языков Американского университета в Шанхае. К тому времени, к моему удивлению, стало очевидным, что где-то в глубине моего генетического кода таилась удивительная способность легко и свободно осваивать новые, неведомые мне языки – даже такие чудовищные, как китайский и японский. Моя мама давным-давно постаралась сделать мой английский безупречным – и значит, после окончания университета я мог похвастаться знанием четырёх языков, включая мой родной русский.
Я без устали совершенствовал свои писательские способности. Я публиковал статьи, эссе и очерки в русской эмиграционной прессе, в американских и британских газетах, издававшихся в Шанхае, Харбине и в китайской столице того времени, Нанкине. Я мечтал о карьере журналиста. Журналиста-международника. Журналиста, интервьюирующего сильных мира сего. Журналиста со своим собственным агрессивным стилем. Журналиста, работающего на всех четырёх языках, которыми я владел.
Ещё не получив свой университетский диплом, я надел свой лучший костюм (мой единственный приличный костюм, надо признаться), покинул свою комнатушку на седьмом этаже полузаброшенного дома в бедном районе Шанхая и отправился к центру города. С тяжело бьющимся сердцем я вошёл в великолепное здание агентства «Ассошиэйтед Пресс» и положил папку перед секретаршей директора.
– Кто вы и что это? – спросила она, показывая на папку.
– Меня зовут Алексей Гриневский, – сказал я. – Эта папка содержит магнитофонные записи моего трёхчасового интервью с Мао Цзэдуном и его женой Хэ Чзижен.
Она смотрела на меня с нескрываемым изумлением на лице.
– Вы шутите? Вы хотите сказать, что вы смогли добраться до Мао в провинцию Чжианкси, получить разрешение и взять у него интервью?!
– Да. Я был у председателя коммунистического правительства территории Чжианкси-Фуджиан, Мао Цзэдуна, и был принят им и его второй женой. Поверьте мне, это было нелегко…
Так началась моя работа в Ассошиэйтед Пресс. В течение следующего года я опубликовал ещё два интервью: с главой китайской правительственной партии, Гоминдан, генералиссимусом Чан Кайши, и с генералом Мисао Мураока, командующим экспедиционной армии Японии в центральном Китае.
За эти три сенсационных интервью, опубликованных во всех крупных газетах мира, я получил престижную премию Пулитцера, ещё не достигнув двадцати пяти лет…
Глава 14. Алекс. Владивосток. Май 1943 года.
…– Что такое премия Пулитцера? – спросила сестра. – Никогда не слыхала этого имени.
Мы сидели в её кабинете, за её столом, друг против друга, держась за руки. Катины глаза были красными и опухшими. Она рыдала беспрерывно, затем смеялась, потом вновь плакала – с того самого момента, два часа тому назад, когда я сказал ей: «Катя, это я, Алёша…».
Мы уже перебрали наши годы в Манчжурии, вплоть до смерти нашего отца. Она не знала почти ничего о моей жизни в Шанхае и не имела никакого представления о моей жизни в Америке. После самоубийства отца она с мамой ждала ровно один год; а затем они погрузились на советский корабль, который высадил их через пять дней во Владивостоке. Они – это Катя, её муж Андрей, их восьмилетний сын и мама. Они всегда хотели вернуться в Россию – в любую Россию, даже в коммунистическую. А я и отец всегда непреклонно противились этому.
Я рассказал ей о моих шанхайских годах, начиная с годичного посещения школы радистов. Потом последовала моя работа на радиостанциях, поступление в Американский Университет в Шанхае, четыре года в университете – и, наконец, приход того счастливейшего дня, когда главный редактор «Ассошиэйтед Пресс» в Китае объявил: «Алекс, поздравляю! Вы выиграли премию Пулитцера!».
…– Так что такое эта премия Пулитцера? – повторила Катя.
Я вздохнул.
– Катя, ты директор школы, преподаватель русской и мировой литературы – и ты никогда не слыхала о самой престижной западной премии за достижения в журнализме?
– Мы не знаем очень многое из того, что делается на свете. Это только сейчас, когда мы оказались в роли новоиспечённых друзей Америки, мы начинаем узнавать кое-какие крохи из вашей жизни за океаном.
Она встала и подошла к керосинке, стоящей на двух кирпичах в углу комнаты. Налила два стакана чая и сказала:
– Прости, но сахар у меня кончился. Я пью чай с сахарином. – Она помолчала и сказала, вытирая платком слёзы: – Мама была бы безумно счастлива, увидев тебя…
Я взглянул на неё. Её лицо напоминало мне нежное лицо нашей мамы – та же копна чёрных волос, те же высокие скулы, та же задумчивая улыбка. В них обеих ощущалась аристократичность – несомненно, наследие маминых предков, русских дворян Воронцовых.
Я напомнил Кате историю, которую любила рассказывать наша бабушка, – историю о посещении ею усадьбы Ясная Поляна и встрече со Львом Толстым. «Чувствовалось, – говорила бабушка, – что он – истинный аристократ, хотя одет он был просто ужасно, как дворовой мужик». Бабушка, гордая княгиня Воронцова, очень любила подчёркивать свою аристократичность.
– Это были прекрасное время, Алёша, – вздохнула Катя, назвав меня по-старому – так, как я уже отвык называть себя. – Я живо помню, как я была горда в детстве, что мы являемся настоящими русскими аристократами… Но когда мы вернулись из Манчжурии во Владивосток в тридцать третьем и проходили через допросы НКВД в так называемом «Большом Доме», первый вопрос, который задали мне, был: «Это правда, что ваша мать – бывшая княгиня Воронцова?» – Она помолчала. – Отвечая на этот вопрос, я вовсе не чувствовала себя гордой; я была напугана, что я ведь тоже могла считаться бывшей княжной Воронцовой и что меня можно тоже считать «врагом народа».
– И что случилось потом?
Катя налила мне ещё один стакан чая.
– Не случилось ничего такого ужасного, чем вы с папой пугали нас. Нас не преследовали; нас не посадили в тюрьму. В газетах даже появилась статья под заголовком: «Семья бывшей княгини вернулась на родину». – Она засмеялась. – НКВД, конечно, знало и ценило, что мы с Андреем агитировали беженцев в Китае вернуться в Советский Союз. Нам дали две комнатки в коммунальной квартире, где три семьи жили бок о бок, пользуясь одной кухней и одним туалетом. В общем, так же тесно, как мы жили в Порт-Артуре…
– Вы были счастливы?
– Да. Мы, в конце концов, покинули Китай. Мы вернулись в нашу Россию.
– А сейчас? Сейчас ты счастлива?
– Да. У меня прекрасная работа, о которой я могла только мечтать в манчжурском изгнании. Андрей и наш сын воюют на фронте – как отцы и сыновья в каждой советской семье. Разумеется, я нахожусь в состоянии постоянной тревоги за них; но ведь вся страна находится сейчас в состоянии тревоги. Я всего лишь малая частица страны, Алёша. Я помню, как папа негодовал, когда я напомнила ему слова знаменитого американца: «Это моя страна – права она или нет!».
– Была мама счастлива?
– И да и нет. С первого же дня она приступила к преподаванию английского и французского в Дальневосточном университете. И хотя никто в университете – и, наверное, во всём городе – не знал эти языки лучше неё, она так и не стала профессором и даже доцентом. Ведь она была бывшей княгиней Воронцовой. Но она любила свою работу, и студенты её просто обожали. – Катя помолчала. – И не было дня, чтобы она не вспоминала о тебе, Алёша.
Я встал, подошёл к окну и с минуту глядел на улицу, круто уходящую вниз, к заливу. Бухта Золотой Рог – то же название, что и бухта в Сан-Франциско… И улицы здесь, в городе, где я родился, точно так же стремятся вниз, как и улицы в далёком Сан-Франциско…
Катя сказала тихо, как бы стремясь убедить меня спокойствием своего голоса:
– Моя жизнь сейчас имеет глубокий смысл – я преподаю русскую литературу; я внушаю моим ученикам любовь к стихам Пушкина и Лермонтова, к прозе Толстого и Тургенева.
– А как насчёт Достоевского? Внушаешь ты им любовь к Достоевскому?
– Нет.
– А к Бунину?
– Нет.
– А к Набокову?
– Тоже нет… Нам нельзя упоминать их. Они считаются реакционными писателями.
– Но ты ведь знаешь, что это неправда!
Она пожала плечами, не глядя на меня.
– Я ничего не могу поделать. Единственное, что я могу – это учить детей любить литературу, быть честными, быть хорошими гражданами.
– Гражданами новой России, которая бросила нас в маньчжурскую ссылку?
– Гражданами России, какой бы она ни была! Это моя страна – права она или нет…
Послышался лёгкий стук в дверь, и на пороге возникла женщина. Я был уверен, что никогда не встречал её, но что-то в её лице показалось мне знакомым. Что-то в её высокой фигуре, в короткой причёске, в продолговатых голубых глазах напоминало мне об Элис, хотя моя погибшая жена была, вероятно, немного моложе.
– Леночка! – воскликнула Катя, вставая. Она обняла женщину и поцеловала её в щёку. – Познакомься с моим братом-малышом; его зовут Алёша.
Лена улыбнулась.
– А я и не подозревала, что у тебя есть брат. – Она повернулась ко мне. – Ваша мама никогда не упоминала о вас.
– Он живёт в Америке, – промолвила Катя. – Он журналист.
– В Америке?! – Женщина казалась искренне поражённой. – Как же так? Почему мой бывший супруг позволил ему приехать сюда и ходить свободно по улицам – вместо того чтобы быть немедленно арестованным как шпион мирового империализма?!
– О, ради бога! – воскликнула Катя, и в её голосе проскользнула тревога и лёгкое раздражение. – Лена, дорогая, я говорила тебе много раз – будь осторожна со своим языком.
Я попытался переменить предмет разговора:
– Так вы были знакомы с нашей мамой?
Она прошла к креслу и села, расправив на коленях платье обеими руками – тем же гладящим жестом, который был привычен для Элис.
– В течение двух недель мы в госпитале делали всё возможное, чтобы спасти её жизнь…
– Лена – медсестра, – объяснила Катя, протягивая нам по стакану чая. – И она мой самый близкий друг – с тех самых пор, когда мама боролась за жизнь, и ещё была слабая надежда, и Лена проводила долгие часы у её кровати.
С минуту мы молчали, словно держа в памяти образ нашей умирающей матери на госпитальной койке.
Катя прервала молчание:
– Леночка, что привело тебя ко мне в разгар рабочего дня? Опять проблемы с Серёжей?
– Нет, на этот раз не с Серёжей.
– С Мишей?
– Да.
Катя казалась искренне удивлённой.
– У нас никогда не было проблем с ним, – произнесла она. – Он один из наших лучших учеников. Он прочитал все книги на свете. Он прочитал, наверное, больше, чем все в его классе, вместе взятые.
Лена вздохнула.
– В этом-то всё и дело, – сказала она. – Он слишком много читает. И в результате он начал задавать вопросы и выражать сомнения…
– Какие вопросы? Какие сомнения?
Я почувствовал себя лишним в этой беседе учителя с мамой ученика, хотя предмет разговора определённо интересовал меня.
Я сказал:
– Катя, Лена, я бы не хотел прерывать вашу беседу, но мне, пожалуй, надо идти.
Мы с сестрой обнялись и постояли молча, прижавшись друг к другу. Я вспомнил, как она целовала меня, укладывая в постель, когда мне было пять, а ей, моей постоянной няньке, было тринадцать.
Я повернулся к Лене.
– Мне было очень приятно познакомиться с вами, Лена.
Она усмехнулась.
– Приятно? Спасибо вам. Я не припоминаю, когда последний раз незнакомый мужчина сказал мне, что ему приятно знакомство со мной. А те, кто говорили, определённо не были американцами.
Её тихий смех напомнил мне смех моей Элис.
Я пожал ей руку и вышел из кабинета.
Какие сомнения могут поселиться в голове её сына – или любого другого мальчишки, – воспитанного в советской школе такими глубоко патриотичными учителями, как моя сестра?
Глава 15. Серёжка. Владивосток. Май 1943 года.
– Ты болван! – орал я на Мишку. – Полный идиот!
Я вообще-то не орал, а шипел на него сквозь стиснутые зубы. Мы втроём – я, Мишка и Танька – сидели на чердаке нашего дома. Я не мог кричать, потому что чердак был прямо над Танькиной квартирой, и её родители могли бы услышать шум над их головой.
Мишка хотел сказать что-то, но я схватил его за воротник, рванул поближе к себе и прошипел прямо ему в лицо:
– Мама почти плакала из-за тебя, болван! Её вызвали в школу из-за такого идиота, как ты! Она сейчас в школе упрашивает директора не выгонять тебя за нарушение дисциплины – ты знаешь это, дурак набитый?!
– Отпусти его, – сказала Танька. – Пусть он объяснит, что произошло.
Я неохотно отпустил его. Что я хотел больше всего – это врезать ему по его веснушчатой морде, но мама приказала мне раз и навсегда не трогать его пальцем.
– Тут нечего объяснять, – пробормотал я, отдышавшись. – Он просто ненормальный, он просто псих.
– Нет, я не псих, – сказал Мишка. Он отодвинулся от меня и уселся на пол в своей излюбленной позе – колени, подтянутые к груди, и книга в руке. – Я не ненормальный, – повторил он. – То, что я сказал, было чистой правдой. Мне осточертело всё враньё вокруг – вот и всё…
– Какое враньё?! Кто врёт тебе?!
– Наши учителя.
– Кто именно? – тихо спросила Танька. Что я на самом деле любил в ней, – это её спокойствие, её способность рассуждать – без криков и ругани.
– Например, наш историчка, – промолвил Мишка. – Та, которая выглядит, как мертвец. Ты её знаешь.
– Что она сказала такое, что ты распсиховался? – спросил я.
Мишка снял свои очки и начал тереть их своим грязным носовым платком.
– Ну, для начала она сказала нам, что мы должны ненавидеть всех немцев, потому что эти бесчеловечные фрицы напали на нас и разрушают нашу родину вот уже два года.
– Ну и что тут такого? – прошипел я. – Что тут неправильного?!
– Я встал, – ответил Мишка, – и сказал, что мы не должны ненавидеть немцев за то, что они родились немцами. А как насчёт Карла Маркса, и Фридриха Энгельса, и Бабеля, и Либкнехта, и Шиллера, и Бетховена, и Моцарта? Это всё, что я спросил у этой худой дылды, похожей на мертвеца. Они все были немцами; так мы что – должны их тоже ненавидеть?!
Я повернулся к Таньке.
– Теперь ты видишь, что я был прав, когда сказал, что он идиот!
– Потом она сказала нам, – произнёс Мишка, не обращая на меня внимания, – что никакая личность, даже обладающая самой большой силой, не может повлиять на ход мировых событий. Всё в истории, сказала эта дура, «определяется классовой борьбой, а не личностями». Я опять встал и спросил её насчёт Александра Македонского, и Наполеона, и Ленина. Думает ли эта балда, что они тоже не оказали никакого влияния на историю?
– Ты спросил её насчёт Ленина?! – заорал я, забыв, что мы находимся на чердаке над Танькиной квартирой. Я опять схватил его за воротник и приподнял с пола. Он вырвался, подобрал упавшую книгу и снова уселся на полу.
– Да, – сказал он. – И ещё она сказала такую муть, что все великие открытия в науке были сделаны в России. Я спросил её: «А как же быть с Ньютоном, и Коперником, и Дарвиным, и Эдисоном? Они ведь не жили в России».
Я не знал, что мне делать с этим сумасшедшим. Он что – не знает, в какой стране находится? Он что – не знает, что наш папаша сажает людей в тюрягу и отправляет на Колыму за такие вопросы? В самом начале войны один из наших соседей, отец троих малышей, напился, забыл о всякой осторожности и сказал, что у немцев самая лучшая армия в мире. На следующую ночь за ним пришли ребятки из папиного учреждения – и с тех пор никто не знает, где он и что с ним…
– Ладно, ребята, – сказала Танька примирительно, – давайте перекусим. – Глядите, что мой папка привёз из Америки. – Она достала из кармана яблоко и протянула нам.
Я и Мишка глядели – и не верили своим глазам! Яблоки не растут на Дальнем Востоке; и это был, наверное третий или четвёртый раз в моей жизни, когда я видел такой круглый красный плод!
Мишка выложил три бутерброда с салом на кусок газеты. Я зажёг наш новый примус и поставил на него чайник. Танька разделила яблоко на три части, стараясь сделать их одинаковыми, и пару минут мы жевали молча, стараясь продлить невообразимое удовольствие.
Потом мы пили горячий чай с сахарином и откусывали по кусочку от наших бутербродов. Сами эти бутерброды были сделаны из белого хлеба с тонким куском свиного сала. Я не понимаю, почему все так восхищаются американским белым хлебом. Раньше, до того как американцы стали посылать нам продукты, я никогда не видел белого хлеба. У нас не было белого хлеба до войны, и, по правде говоря, я не люблю его. Он выглядит противно, и вкуса у него нет никакого. Прямо как вата. Наша чернушка намного вкуснее. Но чернушка исчезла с началом войны, а без белого хлеба мы бы просто подохли с голоду – это точно.
Пыльный чердак – это место, где собираются пацаны с нашего двора, ну что-то вроде клуба – не такого, как наш школьный Клуб юных пионеров, где мы должны появляться в красных галстуках и петь песни про товарища Сталина, а место, где я, например, собираю свою шайку перед походом на барахолку, и где мы играем в карты и курим американские сигареты, и где Мишка играет в шахматы против пятерых противников одновременно.
Это ещё и место, где Мишка, когда он в настроении, читает вслух пацанам или рассказывает им фантастические истории о приключениях, и пиратах, и войнах, и королях с королевами и любовницами. Он потрясающий рассказчик, надо признать.
Мы поели, забрались через люк наверх и уселись на ржавых жестяных листах, которыми была покрыта наклонная крыша. Мы смотрели молча на красивейший вид нашей бухты Золотой Рог, с Чуркин-мысом слева, и мысом Эгершельд справа, и с туманными очертаниями острова Русский на горизонте.
– А вообще-то Мишка прав, – тихо сказала Танька, обняв свои худые колени. – Так много вранья вокруг – и дома, и в школе, и в наших учебниках…
Мишка добавил:
– И много ненависти, и много жестокости…
Мишке только двенадцать, но он рассуждает абсолютно как взрослый! Конечно, наша жизнь полна ненависти и жестокости. Я подумал о нашем отце, которого я ненавижу. О бывшем Мишкином друге, тихом корейце дяде Киме, которого арестовали неизвестно за что. О Танькиной маме, которая изменяет своему мужу, дяде Васе. О Борисе Безногом, который лупит свою беременную жену и их пацанов. О Генке-Цыгане, который пробовал стащить мой рюкзак и которому я врезал пару раз по морде. О моём хозяине на барахолке, Льве Гришине, которого присудили к расстрелу…
Ненависть, враньё, драки, измены… Что это за жизнь?
Мишка сказал:
– Вот возьмите, например, «Таинственный остров» Жюля Верна. Это история пятерых пленников, сбежавших на воздушном шаре и оказавшихся на необитаемом острове. Их жизнь полна трудностей, но они любят и уважают друг друга! Они не дерутся; они не ругаются; они не оскорбляют друг друга… Они работают и делают свой остров раем. По правде говоря, я бы хотел сбежать отсюда и быть с ними на этом острове до самой смерти. У них там на самом деле были Либертэ, Эгалитэ, Фратернитэ…
Мы с Танькой переглянулись в недоумении. Что это за мудрёные слова, которые звучат по-французски и которые нормальному человеку невозможно произнести? Откуда они влезли в Мишкину голову?
Мишка снисходительно усмехнулся и сказал:
– Эх, вы, придурки! Это значит – Свобода, Равенство, Братство…
Мы молча смотрели на море крыш перед нами. Где под этими крышами живут свобода, равенство и братство?.. Где там любовь друг к другу? Я вдруг вспомнил маму, и меня охватило чувство счастья, что она у меня есть! Вот кого я люблю! Мишка тоже любит её, но он говорит, что моя любовь к нашей маме не такая, как у него. Он сказал мне однажды, что я люблю её не как сын, а как взрослый посторонний человек. Он читал где-то, что у ребят бывает иногда такое чувство к их матерям и что даже есть какое-то научное название для такой странной любви. Это название, сказал он, произошло из древнегреческой пьесы, где один чокнутый на голову король убил своего отца и женился на своей матери.
Я не собираюсь убивать своего батю, но когда он жил с нами, я иногда ночью пытался поймать каждый звук, доносящийся из их спальни. Я прижимал ухо к стенке, закрывал глаза и представлял их в постели, делающих всё то, о чём рассказывали нам пацаны, старше нас на три-четыре года. Я никак не мог представить нашу маму, делающую это. В эти минуты я ненавидел отца лютой ненавистью.
Они были женаты пятнадцать лет. Это семьсот восемьдесят недель. Если у них был секс, скажем, дважды в неделю, то это значит, что моя мама делала это тысячу пятьсот шестьдесят раз.
Тысячу пятьсот шестьдесят раз!!!
Глава 16. Анна. Владивосток. Июнь 1943 года.
НКВД Приморского края был широко разветвлённой организацией, имевшей в своём составе «Большой дом» во Владивостоке (с внутренней тюрьмой в подвале), отделения в Находке, Уссурийске и Советской гавани, шесть тюрем и особую пристань для транспортировки политических заключённых в Магаданскую область по Охотскому морю – в царство вечной мерзлоты.
В этом мрачном списке числился также уютный двухэтажный дом, расположившийся на живописном берегу озера Хасан, в трёх часах езды от Владивостока. Если б существовали в Советском Союзе клубы американского образца, то этот дом, несомненно, был бы одним из самых роскошных. Это был «Дом отдыха НКВД», где высокие чины этого всемогущей организации вместе со своими семьями наслаждались комфортом, невиданным и недоступным для советских людей – особенно во время войны.
Трёхкомнатный номер на втором этаже, с просторным балконом, выходящим на озеро, был в постоянном распоряжении «Хозяина» – начальника НКВД, генерала Фоменко. В течение недели номер был обычно заперт, но в воскресенье генерал прибывал сюда в караване, состоящем из трёх машин, в сопровождении своей супруги, почти задыхающейся от полноты.



