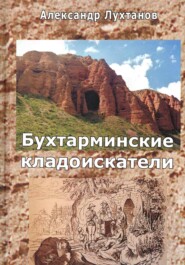 Полная версия
Полная версияБухтарминские кладоискатели
Хотя местные лошади приспособились к местным условиям, а по горам ходить всё равно опасно. Сколько их пропало, свалившись под откос! На высоте всюду щебень и острые камни – хорошо, если лошадь опытная и знает, куда поставить ногу, чтобы не поранить копыто острым осколком или не сломать её, попав в трещину. Всё выше по пути на перевал поднимаются путники, всё чаще на пути каменистые россыпи, и уже давно исчезли чахлые деревца кедров и лиственниц, убитые высокогорьем и морозами. А то ещё встречаются тропы над пропастями, где узкая дорожка вьётся у края обрыва, и с какой осторожностью пробираются даже опытные кони, чтобы не оступиться! И тут гляди в оба, сидя в седле: скала, что сбоку тропы, может сбросить всадника в пропасть. Бывает, каждый неверный шаг грозит всаднику гибелью. А комары и мошки! Да разве только они?
Вот отряд переходит через бурную горную реку. Впереди, преодолевая течение, немного наискось реки идёт самая сильная лошадь, чуть отступив, позади, в фарватер, – вторая, за ней третья. Сообща им легче противостоять напору потока. А бывает и так, что пешком легче пройти, нежели сидя верхом на лошадях. Тут и каменистые крутые склоны, и низменные топкие болота, где лошади с трудом вытягивают ноги из вязкой почвы, похожей на смолу, боясь спотыкнуться и переломать ноги. Горные потоки падали по скалистым уступам, разбиваясь на бесчисленные брызги и превращаясь в белую пену. Читая отчёт путешественника Г. Спасского, Геблер удивлялся, что шум, производимый рекой в Коргонском ущелье, такой, что не слышно звука выстрела из пистолета. Теперь он и сам в этом убедился и привык к нему настолько. что находил в этом грохоте даже успокоение и удовольствие.
Вечером усталый отряд устраивается на ночлег. Казаки готовят ужин, а сам Геблер торопливо заносит свои наблюдения в дневник, и ничто – ни непогода, ни дождь, ни позднее время или смертельная усталость – не может изменить эту выработанную в походах привычку, похожую на ритуал. Иначе зачем весь поход?
Преодолев все препятствия, проводники вывели экспедицию к истокам Катуни, и Геблер увидел прямо перед собой исполинскую гору во всей своей мощи, с ледниками, ледопадами и скалами. Если в предыдущем году он наблюдал высочайшую гору Алтая с расстояния в 20 вёрст, то теперь стоял у самого её подножья. Громадные ледники сползали с крутых склонов: западный давал начало Катуни (впоследствии он был назван ледником Геблера), а восточный – Белой Берели. С обрывистого края ледника (языка) беспрестанно падали камни и текли ручьи. Огромные поперечные трещины рассекали тело ледника от самого основания, обнажая лёд прекрасного зелёного цвета. Глыбы ледяных скал опасно нависали, угрожая обрушиться на любого путника, если бы он попытался пройти в этом ледяном лабиринте. Ниже окончания ледника возвышался овальный моренный холм из камней, обросших ягелем. На вершине его виднелись деревянные шесты, поставленные охотниками-алтайцами (теперь это место туристы называют горкой Геблера).
С помощью угломерного инструмента Геблер измерил высоту Белухи, определив её в 3400 метров, однако сам считал это измерение лишь приблизительным, так как плохая погода и тучи, закрывавшие вершину, не позволили сделать более верное измерение с двух точек базиса (ныне высота Белухи определена в 4500 м). Тем не менее он сделал подробное описание и составил карту всего района. Им же были собраны сведения о 60 видах птиц, в том числе он впервые описал алтайского улара. Им же отмечены факты нахождения на Алтае журавля-красавки, бородача-ягнятника, а также ласточки и домашнего воробья, проникших вглубь гор вместе с русскими переселенцами. Геблеру принадлежит честь открытия подвида длиннохвостого суслика (суслик Эверсмана).
Исследуя высокий хребет, названный им Катунским, Геблер дошёл до реки Аргут и далее до нижнего течения реки Яссатер (Джазатер), откуда Белуха виднелась далеко на западе, причем в профиль она была одногорбой. Проследив восточное продолжение хребта, названного впоследствии Южно-Чуйским, Геблер закончил своё самое плодотворное путешествие, длившееся целый месяц.
О результатах своих исследований Геблер сообщал в бюллетенях Московского общества испытателей природы (МОИП) на французском языке, а обобщённый труд по трём поездкам 1833, 1834 и 1835 годов в верховья Катуни, Берели и на Аргут, названный «Обозрение Катунских гор с их высочайшей вершиной Белухой в Русском Алтае», он опубликовал на немецком языке в Мемуарах Академии наук. Этот труд был удостоен Демидовской премии в 2500 рублей.
В последний раз Геблер побывал на Зыряновском руднике в 1844 году, когда вместе с экспедицией известного геолога Г. Щуровского совершил трудный переход из Риддера через белки Холзунского хребта. В своём главном труде о Катунских горах он писал: «Скалы, болота, опасные переправы через реки, грозы, дожди, туманы, густые леса, комары и мошки делают такие поездки очень трудными, но зато чистый воздух, умеренная температура, превосходная вода и в особенности чудесные виды гор, природы и прекрасная растительность – всё это с избытком вознаграждает за такого рода неприятности».
Исправник с серебряной шпагой
Наконец настал день, назначенный на вскрытие церковной усадьбы. К этому времени от здания остался лишь фундамент на известковом растворе. А день выдался на редкость ярким, солнечным, с бодрящим свежим утром.
– У меня такое впечатление, что мы собираемся на праздник Первого Мая, а на самом деле идем заниматься гробокопательством, – поделился за завтраком Роман с Борисом Васильевичем.
– Ну, молодой человек, не надо так печально и грустно. Как предполагают мои эксперты из краеведческого музея, самая важная персона, покоящаяся на нашем погосте, – это зыряновский исправник, то ли Циолковский Алексей Осипович, то ли Оларовский Эпиктет Павлович, захороненные ещё в 1840–1850-е годы. То есть прошло более ста лет, и теперь это захоронение становится археологическим артефактом, а не каким-то объектом судебной или паталого-медицинской экспертизы.
– В любом случае будьте подальше и ничего не трогайте руками, – забеспокоилась Клавдия Николаевна. – Мало ли что, там может гнездиться инфекция.
– На этот счёт всё предусмотрено, – заверил Борис Васильевич, – там будет работник санэпидемстанции, он примет все необходимые меры. Главное, я думаю, надо действовать сугубо осторожно, чтобы не получилось, как с кладом купца Верёвкина.
– А что там произошло? – спросил Степан.
– А то, что экскаватором раздавили закопанный клад. А там, как на грех, оказался ящик с коллекционной посудой. Естественно, от неё остались одни осколки, и весь клад пропал.
– Да, действительно жалко, – не удержался Роман, всегда остро реагирующий на подобные музейные потери.
– Такой посуды, какая там была, сейчас не делают, – вставила Клавдия Николаевна. – Очень тонкая работа. Борис приносил осколок – одно загляденье! Да вы кушайте, кушайте! – вдруг спохватилась она, накладывая в вазочки сладости. – Это мёд с вашей же пасеки. И варенье малиновое там же варили.
– Да, такого мёда больше нигде в мире нет, – добавил Борис Васильевич. – А самый лучший – дягилевый, горный. И цветок-то так себе и не очень запашистый, этот дягиль, а вот гляди-ка, какой мёд! Мне ещё ваш папа, Пётр Иванович, делился на этот счёт. Любит он это дело – пчеловодство.
– И картошка зыряновская хороша, – вставила Клавдия Николаевна, – и помидоры местные – лучше не бывает. А в общем, нехорошее это дело – тревожить мёртвых, – вдруг снова она вернулась к главной теме дня.
– Согласен, мать, согласен. Но что поделаешь – не закрывать же карьер из-за десятка могилок. Всех перезахороним, как полагается по христианскому обычаю, на кладбище. Вот перенесли же братскую могилу борцов за советскую власть – и мы перенесём. Пора, нам пора! – вдруг заторопился Борис Васильевич.
В конторе их уже ждала сотрудница музея – пожилая женщина, скромно державшаяся в сторонке.
– Наталья Борисовна, – обратился к ней Борис Васильевич, – вот те ребята, что раскопали в тайге клад. Любите и жалуйте!
– А-а, бухтарминские кладоискатели! – живо отреагировала та. – Очень рада познакомиться. Что там у вас? Кузнецовский сервиз? Вот и хорошо. Да, мы возьмём, если вы не возражаете. Денег у нас нет, чтобы заплатить, а грамоту дадим. Оприходуем с резюме: дар братьев… Как? Дементьевы? Будет числиться как ваш дар.
– И ещё надо записать Свиридова. Пахома Ильича, – вспомнил Роман. – А денег нам не надо.
– Хорошо, хорошо, я вас понимаю, – сказала Наталья Борисовна. – Вы когда к себе едете?
– Собирались сегодня. Вот сейчас посмотрим раскопки и пойдём на автостанцию.
– Так зачем, поедем вместе, у меня «газик». Дорога-то есть?
– Есть, хотя и плохая.
– Вот видите, как хорошо всё получилось? – сказал Борис Васильевич и, не глядя на секретаршу, протягивающую ему бумаги, решительно направился к выходу.
– Так, я вижу, все в сборе – едем, не откладывая, на место. А ты, Василий Кузьмич, командуй, – обратился он к начальнику участка, – да предупреди Мартыныча, чтобы поосторожнее действовал, Знаешь, как говорят, опытный экскаваторщик ковшом может гвозди забивать. Пусть метровый слой снимает, а дальше только вручную. Мужики как, готовы?
– Да вот же они стоят с лопатами.
– Вот и хорошо, приступайте.
И, не дожидаясь указаний своего подчинённого, закричал экскаваторщику:
– Мартыныч, копай ювелирно, чтобы ни гу-гу!
– Да не беспокойтесь, Борис Васильевич, всё будет сделано первый сорт.
Громадный экскаватор ожил, заскрипел, ковш пришёл в движение, и через час работы приступили к копке рабочие с лопатами. Через какие-то полчаса лопаты глухо стукнулись о кирпич. Это всех озадачило: почему не дерево? Расчистили – оказалось что-то вроде склепа, в котором и стоял гроб.
– Листвяк, – признал рабочий, опустившийся на колени. – Должно всё сохраниться.
Гроб был из почерневших досок с бронзовыми, литыми ручками.
– Своя работа, – определил рабочий, – местное литьё.
Открыли крышку, рассыпавшуюся на полусгнившие доски. Все молча столпились вокруг могилы.
– Важный чин, – произнёс кто-то из присутствующих, а другой добавил: – В мундире, как военный, и со шпагой.
– Да, так было положено: все имели чины, по образцу военных, – снова сказал первый голос. – Хотя исправник – это полицейский чин, но они в то время представляли собой власть.
Когда все отхлынули, Надя с замиранием сердца и чуть не дрожа от ужаса, тоже заглянула в гроб. Там лежал страшный мертвец в истлевшем мундире, на котором можно было разглядеть ордена и даже шпагу на боку. Пугающе жутким был взгляд пустых глазниц на жёлтом черепе.
Рабочий санэпидемстанции торопливо заворачивал в бумагу перечисляемые музейшиками предметы.
– Не забудьте составить перечень забранных артефактов, – напомнил Борис Васильевич и вдруг, наклонившись,с удивлением произнёс: – А шпага-то, похоже, серебряная! Да, так оно и есть. Не заржавела, хотя и изрядно потускнела. А что, – продолжал он, – Колывано-Воскресенские заводы чеканили свою монету, серебра было навалом – чего им стоило втихаря от Петербурга изготовить такую вот дорогую игрушку? Так что, смотрю, недаром вы, Наталья Борисовна, приезжали к нам. Ценный экспонат, – добавил он, садясь в свой легковой «газик».
Начальник уехал, но до конца дня разрыли и другие могилы – видимо, служителей церкви. К сожалению, не так аккуратно, но предметов нашлось там ещё больше. Кроме останков ряс и одежды были медальоны, называемые панагией, и ещё какие-то блестящие знаки, ни наименования, ни назначения которых никто из присутствующих не знал. Ребятам же запомнилась обувка – штиблеты, видимо, когда-то хорошего качества, с подошвами из нескольких слоёв кожи. Вылезший, чтобы посмотреть на диковинную обувь, экскаваторщик Мартыныч важно и удивлённо произнёс, качая головой:
– Надо же, это для чего столько слоёв? Для скрипа или для гибкости, чтобы легче ходить?
А Станислав, бывший тут же, в задумчивости сказал:
– Где-то здесь похоронен и священник Соколов, и его дочь, разбившаяся при падении с лошади. Но теперь ничего не узнаешь, где их могила. В советское время порушили все надгробия. А ведь ещё француз Ламартин сказал: «На прахе умерших покоится Родина», а у нас повсюду кладбища превратили в парки. Хотя, может быть, это и не самый худший вариант. Сейчас не хотят вспоминать, как год назад чуть ли не посреди карьера раскопали нигде не отмеченное старинное кладбище, о котором не знали даже старожилы города. Из забоев вываливались человеческие кости, сыпалась чёрная труха от сопревших гробов, локоны рыжеволосых красавиц свисали с глиняных откосов. Черепа лежали, разбросанные по полю. Конечно, это было кощунством, но быстро всё кончилось – кладбище-то было небольшое. Это сейчас Борис Васильевич принял меры – выкопанные останки будут захоронены по-человечески.
Егорка
Подхоз, пасеки – всего-то мальчишек и девчонок в школе интерната наберётся полсотни. Все наперечёт, все знают друг друга, но на вкус, на цвет товарищей нет. Кучковались по интересам. К братьям Дементьевым льнули ребята из классов помладше: Егорка и Агафон.
Егорка – белобрысый мальчик лет четырнадцати. Вихрастые его волосы почти белые, с желтоватым оттенком. Из-за них в школе его прозвали альбиносом. Это как белая ворона среди тёмных и чернявых пацанов. Когда Егорка был маленьким, мама ласково называла: «Ты мой блондинчик». Но это давно было – теперь Егорка почти взрослый, и мамка уже не такая ласковая, всё ворчит, всё недовольна, а может и подзатыльник дать.
Сколько себя помнит Егор, вокруг всегда был лес. Лес, изба о четырёх окнах, рядом приземистые сараюшки для скота, которые на Алтае называются стайками. Там, в тёмном хлеву стоит корова Зорька с телёнком. Стоят, пережёвывают жвачку. По утрам мать гремит подойником, бродят по двору куры с крикливым петухом. Молчаливый отец все дни проводит на пасеке, поставленной невдалеке на лесной опушке. Восемь месяцев в году школа в интернате в Столбоухе с отлучкой домой лишь по выходным. Есть у Егорки любимое дело – охота. Да вот времени на неё маловато, да и припасы – дробь, порох – надо добывать. Они денег стоят, а денег в доме всегда не хватает. А ещё у Егорки есть друг – непородистая лайка Байкал. Весёлая, ласковая и, так же, как и Егорка, любительница погоняться за тетерями в берёзовом лесу. Родители ворчат: помогать им всегда надо по хозяйству. А ведь Егорка редко возвращается пустым – то косача принесёт, а бывает, и зайца. Всё родителям подмога, в семье ведь ещё есть младшие брат и сестрёнка. Осенью, в сентябре-октябре, бродит Егорка с Байкалом, гоняет тетеревов в зарослях калины, рябины, шиповника, а как снег в ноябре ляжет – может и из шалаша на берёзах косача сбить или подстеречь с подхода, когда они в мороз под снегом сидят. Конечно, бывает, и рябушки-рябчики попадаются, но так уж они малы, что и заряд на них жалко тратить. Любимые места у Егорки – опушки берёзовых колков по гривам и хребтам над Хамиром или Большой Речкой. Тут уж Егор знает каждый куст, каждую косачиную ухоронку в шипичнике или кисличнике, где они кормятся, пока снегом не засыплет, не заровняет все карагайники. Из всех охотничьих приключений больше всего Егорке запомнился случай, когда он, перебираясь через замёрзший ручей, провалился в яму с водой. Как тогда Байкал сочувствовал ему – скулил и прыгал вокруг, а помочь ничем не мог! В обмёрзшей одежде прибежал он домой и тут уж был руган по первое число, прежде чем разделся и забрался на печь отогреваться.
В школьном интернате ребята все друг друга знают, и хотя Егорка на год младше Стёпы, братья с ним подружились. Рома со Стёпой тоже на косачей хаживали, и тут Егор даже опытнее их. Стёпа весной как-то предложил:
– А что, Егор, ты всё по одним и тем же горам бегаешь, а что если мы летом подальше подадимся? Как ты на это смотришь?
– Это куда ещё и для чего?
– Ну хотя бы побывать в соседних ущельях. Говорят, долина Тургусуна красивая. На Тегерек можно сходить. А ещё мы старину ищем.
– Значит, историей интересуетесь?
– А я думаю, летом надо обязательно в Уймоне побывать, – словно отвечая на вопрос Егора, задумчиво сказал Роман. – Там же был второй центр каменщиков. И не так уж это далеко, надо только Холзун перевалить. Возможно, там лучше старина сохранилась.
– Ура! – обрадовался Егор. – В Уймоне когда-то моя бабушка жила.
– Может, и сейчас там есть кто из родственников? – поинтересовался Роман. – Кстати, у вас в семье не сохранилось что-нибудь из старинных вещей? Иконы, книги?
– Есть самовар медный, утюги чугунные. Какая-то книжка древняя, вся замасленная и потрёпанная, лежит у матери. Но она мне её не даёт.
– Церковная, значит. Возможно, ещё с восемнадцатого века, – высказал догадку Роман.
– Значит, мы тоже живём в стране каменщиков, хотя здесь уже никто не знает об этом и не помнят о своих предках.
– Знают про кержаков, – добавил Стёпа. – Вот, например, Егор наш из кержаков. Правда, Егорша?
– Сам ты кержак! – недовольно огрызнулся тот.
– А-а, извиняюсь, из старообрядцев, – поправился Стёпа. – Совсем забыл, что здесь это слово не любят, даже обижаются.
– А зря, – вступил Роман, – кержаки нормальные люди, и ничего нет обидного в этом слове.
– Такая репутация о кержаках только у нас, здесь, на Алтае, а в России никто бы не обиделся.
Егор, недовольный, произнёс целую речь:
– Кержаки, не кержаки, батька говаривал не раз: «Из местных мы, здесь испокон века обитали». Дед на шахте в Зыряновске робил. Бергал, значит, был. Это уж отец мой крестьянством занялся. Тогда многие из бергалов ушли кто в пчеловоды, кто пахарем – благо земли было навалом. После «горы», шахты значит, земледелие благополучней оказалось. В шахте чахотка губила, ревматизма и всякие другие хвори, а в поле, на пашне, хоть и забот ещё боле, а всё же здоровей на вольном воздухе.
– Я вот что думаю, – сказал Роман, – неплохо было бы поискать следы этих каменщиков здесь у нас на Хамире.
– А как? – не понял Стёпа. – Ни курганов, ни древних руин у нас нет.
– Курганы здесь ни при чём, это древность. Истории каменщиков двести и меньше лет. Следы поселений, землянок надо искать. Расспрашивать стариков. Может, кто что помнит или знает. Ходить, смотреть, искать. Живём и не знаем, что вокруг нас.
– Я люблю бродить, – обрадовался Егор, – особенно с ружьём, а можно и с удочкой.
– Это дело нехитрое – бродить просто так, – а вот заниматься исследованиями куда интереснее, хотя и сложнее.
Филин
Перепрыгивая с камня на камень на броду через Екипецкий ручей и обходя лужи после дождя, друзья подходили к дому.
– Ой, ребята, не поверите, на кого я намедни в лесу наткнулся! – взволнованно сообщил Егорка. – Два дня назад пугало лесное видел. Глазища во-о, клювом щёлкает – не подходи! Вот страсти-то! Рыжий, как наш котяря, и весь растрёпанный. Сам сидит на обломанной лесине, а под ней косточки валяются. Целая куча, и нога заячья в шерсти.
– Ты что, Егорша, неужели гнездо филина нашёл?
Роман заинтересовался не меньше Егорки:
– Сколько хожу по лесу – ни разу не довелось логово пугача найти. Может, ошибся ты?
– Ей-богу, не вру, – божился Егор. – Хотите, сведу самым лучшим образом?
– И далеко ли?
– Далеко, далеко. Екипецким ключом идти, потом логом направо. Там пихтач вперемешку с топольником. Пройдёшь пятипалую пихту, и ещё метров пятьдесят будет.
– Ну и что там, дупло?
– Дупло, не дупло, – настоящее логово на макушке пропащего тополя. Кора лохмами свисает, большой ствол белый, лыко облезло. Филя там сидит, зыркалами своими сверкает. Близко опасно подходить Злой очень.
– Может, птенцы у него? Или яйца…
– Не знаю, я побоялся смотреть. Он сердитый – не знаешь, что у него на уме. Вот образина – немало зайцев передавил. Ночью как гукнет – мороз по телу.
Смотреть Филю шли всей гурьбой. Всем, и даже Петру Ивановичу захотелось увидеть такую диковину. Долго пробирались через чащу, не переставая удивляться удаче Егора. Такое раз в жизни случается.
Ещё издали Егор указал на мощный ствол мёртвого тополя, белеющего среди леса. Макушки у него не было, один корявый ствол с выгнившей сердцевиной.
– Гляньте на развилку. Там вроде норы, в ней этот пугач и обитает.
– Да-а-а, протянул Роман, – там не только Филя. Соловей-разбойник поместится! Оно, вроде как там и укрытие есть. Серьёзная птица! Подходи осторожно, а ну как вцепится!
Однако ничего страшного не случилось – гнездо без хозяев оказалось. Филин, видимо, загодя слетел, услышав шум и разговоры. В нише, образовавшейся от обломленного ствола, сидели три его отпрыска. Три белых пуховых птенца. Они таращили глаза и громко щёлкали клювами, выставляя когтистые лапы.
– Вот они какие, филинята!
Зимними вечерами крики филина из леса слышались постоянно, и что Роман, что Стёпа даже и в мечтах не смели увидеть этого пугача живьем.
– Может, одного возьмём? – неуверенно спросил Степан отца.
– Боже упаси! – замахал тот руками. – Мяса не напасёшься, да и грех такую серьёзную птицу из природы изымать. Чудо-юдо лесное, без него и лес не лес. Ни сказки, ни Лешего, ни Бабы Яги. Гляди, какие красавцы! А что разбойник – так «на то и щука, чтоб карась не дремал».
Агафон
Агафон – веснушчатый, невысокий мальчик тринадцати лет, с лицом, шелушащимся чешуйками, и огненно-рыжими волосами.
– Давай мы тебя будем звать Рыжиком, – предложил Роман. – Ты у нас самый солнечный человек.
– Зовите хоть горшком, только в печку не ставьте, – отозвался Агафон. – А мамка зовёт меня Гошей.
– А у нас в классе есть рыжий мальчик, так его Солнцедаром зовут, – сказал Егор.
– Нет, Рыжик будет получше, – не согласился Роман. – Правда, Гоша?
– Повезло тебе, Гоша, – девчонки, небось, завидуют?
Теперь уже и Стёпа решил обсудить нового друга.
– Завидуют не завидуют, только больно дразнятся.
– А я знаю как, – сказал Егор. – Чего тут не знать: Рыжий, пыжий, волосатый, убил дедушку лопатой!
– Ну и что ты, Рыжик, обижаешься?
– Обижайся не обижайся, сытым от этого не будешь.
– Я смотрю, Рыжик, ты за словом в карман не лезешь, – поддержал Агафона Роман. – Ты на дураков не обижайся. Они потому и дразнятся, что дураки. Скажи лучше, что ты больше всего любишь?
Агафон насупился.
– Только не упоминай про пельмени и шанежки.
– Люблю смотреть, как муравьи живут.
– Муравьи? Нашёл себе занятие!
Егор искренне удивился и даже возмутился.
– Уж тогда бы сказал про пчёл. От них больше толку.
– А мне нравится, как он мыслит,– вдруг заявил Роман, – во-первых, пчёлы – это материальная категория, нажива, богатство, а муравьи – категория духовная, безгрешная. На редкость бескорыстные и нетребовательные существа. Муравья никто не заставляет трудиться, а он вкалывает, себя не жалея. Таскает жратву на благо общества, посмотришь на него – на горбу ноша, тяжелее самого раза в три, и никакого личного дохода. Это же коммунизм в чистом виде. Может, генетики исправят эту ошибку природы – вместо разума вставят нам муравьиные, пчелиные инстинкты?
– Ну это, Роман, ты слишком высоко забрался, – снова вступил Стёпа. – Ты, Гоша, лучше скажи: горилку пьёшь?
– Какую такую горилку?
– Ну брагу, бражку, медовуху. Кержаки ведь все её пьют.
– Никакие мы не кержаки, – возмутился Агафон. – Мамка сказывала, бухтарминцы мы, а папаня ваш, говорит, уймонский.
– Вот придрались к парнишке, – решил закончить дебаты Роман. – Старообрядцы, хотя и гуляли крепко, но и работали так, как нам и не снилось. Гоша, я смотрю, мы с тобой одной крови. Как ты смотришь, чтобы сделать поход на Тегерек, на Нарымку?
– Да я завсегда, хучь на белки, хучь на саму Белуху готов. Была бы ещё рыбалка.
– Рыбалка будет. Не только хайрузов наловим – тайменя вытащим из его берлоги. Дерзайте, граф, вас ждут великие дела!
– А кто этот граф? – не понял Агафон.
– Ну, это образцовый человек, с которого надо брать пример.
– Из всех нас Рыжик самый что ни на есть из графов граф! – вставил Стёпа. – Он даже лося сумел добыть с ногами и головой.
– А лося больше не будешь убивать? – теперь уже подзуживать подключился Егор.
– Вот ещё скажешь! Сам-то ты с ружьём всё бродишь, а у меня и ружья нет.
– Ладно, кончай базар, – прервал начавшуюся перепалку Роман. – Ты, Рыжик, лучше скажи, хочешь ли пойти с нами на Тегерек? Ночевать будем. Костёр жечь.
– Ещё бы, конечно хочу!
– А мамка отпустит?
– Мамка говорит: «Не водись со шпаной, вон братья Дементьевы – хорошие ребята». С вас советует брать пример. Так что, думаю, тут дело не станет.
Голова лося
А с лосем история вышла такая.
На Покрова Марфа решила навестить соседку. Как там Анфиса живёт, не виделись с самого лета. Пасека Шушаковых едва ли не самая дальняя – Большой Медвежий двор. Места глуше не придумаешь – как раз под стать своему названию. Дано оно потому, что медвежий там угол, не раз говаривал Пётр Иванович. И у самого Гордея кулёма всегда на медведя налажена. Иначе нельзя – балуют мишки, ходят вокруг меда. И верно, усадьба вся у Шушаковых почти что огорожена, на проволоке вокруг двора банки жестяные понавешены для острастки зверя. Только тронет, заденет спиной – звон на весь двор стоит и два полкана-волкодава по цепи бегают. Какие-никакие, а сторожа.



