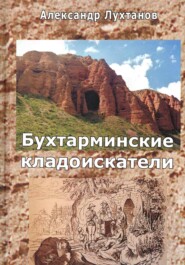 Полная версия
Полная версияБухтарминские кладоискатели
Когда до дороги осталось с полкилометра, сняли мешавшие лыжи и, проламываясь, буровили снег своими телами. За ними тянулась траншея, печальная и трагическая, говорящая о неимоверно затраченных усилиях. Солнце уже село за гору, когда, почти вымокшие, добрались до лесовозной маслянской дороги. Дело уже к ночи, стало подмораживать. Промокшая верхняя одежда обледенела и гремела при каждом шаге, как жестяная. Штаны окаменели, ноги не сгибались. Сесть бы, передохнуть, но холод сразу давал о себе знать. Егор сообразил: останавливаться нельзя – прохватит так, что схватишь воспаление лёгких. Так и плелись по дороге, даже разговаривать сил не было. Домой пришли ночью, получив хороший нагоняй от родителей.
Ах, чарым, чарым! Хорош весенний наст, но обманчив. А для азартных ходоков урок и памятка, что на смену зиме обязательно придут весна и лето.
Рыбалка у залома
В субботу, когда возвращались из школы, Егор сказал Агафону у самой калитки своей избы:
– Айда вечером рыбу лучить!
– Это на залом, что ли?
– Ага, на залом. Там отцовский плот стоит, а сегодня луны не будет, лучить хорошо.
– Так там уж рыбы нет, всю выловили, а новой из Хамира хода нет. Да и холодно сейчас по ночам.
– Скажешь тоже – холодно! Это у огня-то? Мы же для света костёр на плоту будем жечь. А насчёт рыбы не боись. Сорога ловится, а ещё отец сказывал, щука там живёт. Большущая! Никак ему не даётся. Вот бы нам её поймать!
– Поймаешь её шиша два, скорее водяного встретишь. Он хоть и дряхлый, с длинной зелёной бородой, а схватит – не отцепишься.
– А мы его веслом по башке, чтобы знал своё место!
Весеннее половодье наворотило леса и разного древесного хлама поперёк Большой речки. Большая тополевая лесина встала поперёк реки, перегородив её во всю ширину. Следующие деревья поменьше, коряги и даже щепки, уткнувшись в тополь, нарастали куча за кучей, образовав плотину. Вода поднялась вширь, залив пойму, и с шумом срывалась с верха перемычки.
– И бобров не надо, – заметил Егор, когда они под вечер пришли с Агафоном на место. – Настоящая дамба. Теперь её и бульдозером непросто растянуть. Вот рыбам раздолье! Есть где покормиться на мелководье, а потом отдохнуть в глубине. Можно и в корягах укрыться. Здесь у отца плот спрятан, а под заломом лодка. Но он мнё её не разрешает брать – сам бьёт там тайменей. Они идут по Хамиру, упираются в залом. Вот такие попадаются! А сорожка питается травкой, поэтому держится мелководья, ближе к берегу, где пасётся и кормится. А щука и таймень – хищники, они сидят на глубине, высматривая оттуда свою жертву, – объяснял Егор. – А нам сейчас надо хворосту наломать, да побольше берёзовой бересты. Она дюже хорошо и долго горит, и свет яркий даёт.
У Егора опыт – он с отцом не раз рыбу лучил. Пока дрова собирали, потухла заря за горой Мохнаткой. Лес вокруг всё более погружался во тьму. Козодой неслышно кружился, словно делая попытки атаковать. Он то удалялся, то снова возвращался, пикировал, увёртываясь в сторону и взмывая вверх.
Кучу собранных дров погрузили на нос плота, где был постелен лист жести. Острога – металлический трезубец с длинным деревянным древком. Их две – большая для щуки и маленькая для сороги. Сорожка – так на Алтае называют плотву – обычно некрупная рыбёшка в полторы ладони в длину.
– Люблю сорожку, – признался Агафон, – а ещё больше любит её моя бабушка. Как зажарит – ходишь, хрустишь, будто сладким сухариком.
– Будет тебе и сорожка, а может и щука подвернется, – обещает Егор.
– Гляди-ка, луна на воде и звёзды отражаются! – удивляется Агафон.
– Сейчас зажжём – совсем всё по-другому будет. Всё подводное царство осмотрим. Там тебе и русалки, и водяные.
И верно – дно просматривается, а где глубина, белые плети кверху тянутся.
– А что, рыбы спят?
– А как же не спать! И рыба за день устаёт. Поплавай-ка, весь день хвостом помаши!
– А там, гляди-ка, чудище какое!
– Коряга это. Тополевый комель. Здоровенный!
– Да, словно рука во все стороны, корни-то! А так ведь её не увидишь. Водой вымыло, весь скелет деревянный.
Агафон с шестом на корме, Егор на носу с острогой.
– Бери посередь между берегом и глубиной, – командует Егор.
– На глубине её не возьмёшь, а на мели рыба не будет дремать. А посередь самый раз.
– Егор, мы как древние охотники или воины, что с дротиками сражались.
– Ну, не совсем так. Дротики кидали, а я вот, гляди, медленно опускаю острогу, тихонько подвожу к рыбе, а потом раз! Колю с силой. Смотри, какая сорожка попалась!
– Нечестно это, – говорит Агафон. – Как разбойники, ночью спящих бьём.
– Оно вроде бы и так, да уж больно заманчива эта охота.
– А ведь и правда, что это не рыбалка, а охота, – вдруг согласился Гоша. – Смотри, смотри! Вроде как полено белеет на глубине. Однако, щука это.
– Она и есть! – согласился Егорка, держа на изготовке острогу. – Теперь остановись, – шёпотом приказал он и осторожно опустил в воду своё страшное орудие. Весь напрягшись, медленно двигал он острогу к рыбьей спине и вдруг, привстав, с силой вонзил её в глубину. Наколотая на острые зубцы, щучка бьётся и хлещет хвостом, пытаясь вырваться, но заусенцы на концах держат крепко.
– Жестоко! – не удержался Гоша.
– А ты как хотел, это охота! Кидай в садок, пока в воду не упрыгала!
– Тихо, тихо! – вдруг живо зашептал Егор. – Кажись, тальмень! Смотри, спина светлая, словно хлебная булка, а головы не видно. Он её в кусты спрятал – так ему спокойней спать.
Однако таймень сорвался, а может, вовремя очухался, в сторону увильнул. Но у ребят к утру уже было полное ведерко с сорожкой.
Художник из туманного Альбиона
В один из субботних дней у дома Дементьевых остановился молодой мужчина, обвешанный фотоаппаратами. Это был Станислав, пришедший навестить полюбившийся ему уголок за Хамиром.
– Иду на водопады, – объяснил он Петру Ивановичу, встретившему его у калитки. – Нравится мне ваша Большая Речка.
– Нам и самим она нравится, – согласился Пётр Иванович, – живём на ней, видим каждый день, а не насмотримся. А как там Борис Васильевич поживает? Мы ж его ждём – он у нас, считай, каждый год с семьёй отдыхает, иной раз полный отпуск проводит.
– Борис Васильевич? А он не приедет – он уволился.
– Как это? Он же не собирался уходить, и наоборот, говорил, что работает с удовольствием.
– Его уволили.
– Тошно мне! – всплеснула руками подошедшая Марфа. – Хорошего специалиста уволили! Его же и народ любил.
– Народ действительно любил, да вот директору не по нраву пришёлся. Слишком честно работал, на приписки не шёл.
– Вот оно как! – удивился Пётр Иванович. – Значит, честно работать – это плохо?
– Выходит, что так. Начальству ведь надо план выполнять, а как – его не интересует. Давай, и всё тут.
– Да, нам тут трудно разобраться, что и как, – перевёл разговор на другую тему Пётр Иванович. – А что бы вам не пожить у нас с недельку, тем более что наши места вам нравятся? Поговорили бы, вы бы нам рассказали про нашу историю.
– Спасибо за приглашение, я бы с удовольствием, но в моём распоряжении только пара дней. В понедельник мне надо на работу. А переночевать могу.
– Милости просим, – сказала Марфа, – интересному человеку мы всегда рады.
Вечером после чая, сидя вокруг большого стола, все ждали рассказа зыряновского гостя.
– Станислав, я вот задаюсь вопросом: что привлекало путешественников в Зыряновск? – первым делом спросил Пётр Иванович. – Ведь сколько их здесь перебывало!
– Да, действительно, в девятнадцатом веке Зыряновск был центром притяжения многих светил: Гумбольдт, Ледебур, Брем и множество наших отечественных учёных, в основном геологов. А почему именно к нам? А всё очень просто. Приезжали ведь не только в Зыряновск – всех интересовали Колывано-Воскресенские заводы с центром в Барнауле, где был центр технической и культурной жизни всей Западной Сибири. Пётр Петрович Семёнов, известный как Тянь-Шанский, назвал Барнаул сибирскими Афинами за то, что здесь была налажена жизнь европейского склада. Ехали, чтобы познакомиться с горным промыслом, с технически грамотными людьми, ну и, конечно, с природой Алтая.
– Наверное, в первую очередь интересовала именно природа, – вставил Пётр Иванович.
– Да, конечно, вы правы. А что Барнаул, Риддер или Зыряновск – так здесь было удобно останавливаться и получать помощь в людях, в транспорте, да во всём, что угодно. Вы знаете, что поражает, если задуматься? То ли русское гостеприимство, то ли чинопоклонение, то ли заискивание перед иностранцами, но ведь почти все эти визитёры по приезде в Россию становились как бы на государственное обеспечение. Их бесплатно возили, охраняли, давая в сопровождение казаков и проводников. Их всюду принимали, как сейчас бы сказали, первые лица губерний, уездов, рудников и волостей. Да ещё как принимали: задавали пиры и званые обеды! Невозможно себе представить, чтобы так принимали любого русского в Европе. Разве что царя. Вот как всё это, Пётр Иванович, понимать?
– Я думаю, что привечали учёных – это хорошо. Но ведь надо и меру знать! А расточительность – это русская дурь и отсталость.
– Вот именно. А, например, Гумбольдт, серьёзный учёный, страдал от этих званых приёмов и пиров в его честь, но увильнуть от них было невозможно.
– Да, но про кого же рассказать? – Станислав на минуту задумался. – Честно говоря, меня более всего когда-то поразило то, что в наших краях побывал Альфред Брем. Я же вырос на его книгах, в детстве не расставался с томами «Жизни животных» и даже перерисовывал замечательные рисунки из этой книги.
Но я расскажу, пожалуй, о самом необычном путешественнике, побывавшем у нас. Томас Витлам Аткинсон! Довольно странная и противоречивая личность – странствующий художник, подданный английской короны, совершивший гигантское семилетнее путешествие по России.
– Интересно, я ничего не слышал об этом человеке, – признался Пётр Иванович. – Чем же он ещё знаменит, кроме такого большого срока?
– Он известен в Англии и Соединённых Штатах Америки, где до сих пор издают его книги, а у нас о нём мало кто знает. До сих пор нет ни полного перевода на русский язык, ни издания его большой книги в двух томах. А почему – тут можно только гадать. Я, например, считаю, что к этому невольно приложил руку всё тот же П. Семёнов. А дело было так. Когда он вместе с Григорием Потаниным взялся писать книгу «Землеведение Азии по Карлу Риттеру» – а если говорить проще, это географическое описание Сибири, – то никак нельзя было обойтись без Аткинсона. Уж больно обширные путешествия он совершил по Алтаю и Киргизской степи, как тогда назывался Казахстан. Но Аткинсон не учёный, он в большой степени авантюрист, любящий ещё и прихвастнуть. Естественно, Семёнов с досадой написал, что Аткинсону верить нельзя, – вот с тех пор в России и пошла нехорошая слава об этом англичанине.
– Ну а как сейчас к нему относятся у нас? – не удержался Пётр Иванович.
– Пока мало что изменилось. Интереснейший материал, которым можно зачитываться, по-прежнему остаётся неизвестен русскому читателю, и это большая ошибка наших издателей и работников культуры. Кусками материал переведён, причем некачественно, но ведь книга заиграет, если её перевести полностью, снабдив прекрасными иллюстрациями автора. А их множество. Я ещё не сказал, что вместе с Томасом Аткинсоном путешествовала его жена, и она дополнила книгу мужа своим рассказом, который сделал её ещё лучше.
– Вы нас заинтриговали так, что хоть сейчас беги и ищи эту книгу!
– И не найдёте. В девятнадцатом веке был сделан пересказ этой книги на русском языке, но эту книжку не найдёшь даже в Национальной библиотеке в Алма-Ате.
– Ну, раз уж такая редкость, мы с нетерпением ждём вашего рассказа.
– Мой рассказ никак не может передать всё содержание книги. Её надо читать в оригинале, как, например, читается «Робинзон Крузо» или «Путешествие Гулливера». Я могу только в общих чертах пояснить, о чём речь, и высказать свое видение автора книги. Так вот, у меня двоякое отношение к Аткинсону как к человеку в первую очередь. С одной стороны, я восхищаюсь его путешествиями, с другой – не испытываю особой симпатии к его личности. Во-первых, во всём его повествовании выглядывает банальное тщеславие, во-вторых, к своему повествованию он приплёл вовсе не совершённые им маршруты, ну а в-третьих… Я скажу об этом позже, чтобы не испортить общее впечатление.
Какова же цель путешествий Аткинсона – трудных, порой опасных и столь длительных? Сам он пишет, что путешествовал для того, чтобы развеять худую славу о Сибири, ходившую в то время по Европе, но в это верится с трудом. Зачем англичанину, вовсе не учёному, Россия, Сибирь, Киргизские степи, как тогда называли Казахстан? Любознательность? Возможно. Желание познать неизведанное, проверить, испытать на себе то, о чём ходили нелепые слухи в Европе? Вполне вероятно. Но ведь это не баран чихнул – проехать верхом, пройти пешком, проплыть в утлом челноке, и всё это вместе десятки тысяч вёрст. Провести семь лет в чудовищных полевых условиях жары, холода, безводья и так далее – кому такое под силу и стоила ли овчинка выделки?
Тщеславие – великая сила: вроде бы человеческий порок, а ведь оно заставляет людей творить, действовать, быть активными, деятельными. Аткинсон ни много, ни мало, взялся продолжить дело великого А. Гумбольдта в изучении неизведанной Азии. «Он проникнет дальше знаменитого учёного в центр Азии!» Видимо, это был девиз Аткинсона, и он следовал ему все годы своего путешествия. Был он человеком небогатым, рано остался сиротой и сам прокладывал свой путь в жизни. Работал каменщиком, научившись работать с акварелью, стал архитектором и художником. Встреча с Гумбольдтом стала переломным моментом в его жизни. Возможно, перспектива заработать на рисунках и картинах неизведанной страны побудила его приехать в Россию. Запасшись рекомендательным письмом самого царя, он отправился в путь и к лету 1847 года прибыл в Барнаул.
– Центр Колывано-Воскресенских заводов, – вставил Пётр Иванович.
– Совершенно верно. Отсюда он делал разъезды, и в том числе через горы, в сопровождении приданных ему казаков прошёл через горы из Риддера в Зыряновск.
– Интересно было бы прочитать, что он там написал про Зыряновск.
– Да, в Зыряновске он был дважды, но, к сожалению, живо описав горный переход, в том числе по долине Хамира, о посёлке написал скупо. Дойдя до Большенарыма и далее до Зайсана, он повернул обратно. Зимой съездил в Петербург и вернулся с женой Люси, которая была моложе его почти на тридцать лет. И самое интересное выяснилось совсем недавно, – продолжал Станислав. – Оказалось, что в Англии у него осталась другая, первая жена.
– Вот так путешественник, – прокомментировал Пётр Иванович, – ловкач! Попросту двоеженец.
– Да, это тот самый третий секрет, о котором приходится говорить. Но представьте себе, этот факт сыграл самую положительную роль для истории. Забегая вперёд, скажу, что впоследствии рассказ Люси о путешествии дополнил книгу Аткинсона и не только украсил её, но, по мнению многих, она даже превзошла своего мужа в изложении всей этой истории. Никаких дневников она не вела, а издала письма, которые посылала с дороги своей подруге, а они были более правдивыми и зачастую интереснее, нежели повествование самого Аткинсона. Молодая жена оказалась верной ему помощницей, спортивной и закалённой, и главное – преданной. Она с готовностью соглашалась участвовать в самых нелепых и опасных поездках и маршрутах, придуманных её сумасбродным мужем. Трудно себе представить, как она, беременная, решилась отправиться в поездку на границу, где только что организовывался пограничный пункт. Поздняя осень, никаких дорог, неизведанный маршрут и горстка людей верхом на лошадях пробирается через пустыню, наполненную разбойниками, в крохотное укрепление Копал. Никакого жилья, ещё только роют землянки, а у Люси рождается сын. Оригиналы или чудаки, родители называют младенца по полюбившемуся источнику – Алатау Тамчибулак. От всевозможных лишений умирают русские солдаты, и лишь заботливость русских офицеров спасает чету Аткинсонов, и они благополучно заканчивают эту свою авантюристическую одиссею.
– Поразительно всё, что вы рассказываете! – не удивился, изумился Пётр Иванович. – Действительно, приходится только удивляться парадоксам жизни. Недаром говорят «Нет худа без добра».
– Да, и от этого Алатау Тамчибулака пошли отпрыски, и сейчас это большой и всеми уважаемый семейный клан, разбросанный по всему миру. Но я продолжу о самом Томасе Аткинсоне. Слава живущего в Барнауле Ф. Геблера не давала ему покоя. Он сказал себе: «Я не только повторю его маршрут – я превзойду этого немца!»
– И это удалось ему? – спросил Роман, как и все остальные, включая Марфу, внимательно слушавший Станислава.
– Представьте себе, удалось, хотя об этом нигде никто не обмолвился. Я имею в виду учёных. Славы среди них он не заработал, а ведь он совершил восхождение на седло Белухи и сделал это на пятьдесят лет раньше нашего В. Сапожникова. Не заметили этого и наши альпинисты, и до сих пор об этом не знают.
– Да, это странно и обидно для него,– согласились и Стёпа, и Роман.
– После восхождения чета Аткинсонов через Зыряновск вернулась в Усть-Каменогорск и далее в Барнаул, где была основная база путешественников. В Зыряновске управляющий горный инженер Оларовский Эпиктет Павлович тепло встретил путешественников. Удивительно, но Аткинсон, не будучи ни геологом, ни горняком, описал водоотливное устройство шахты. Видимо, сказывалось его ранняя профессия; ведь в молодости он был каменщиком.
Дальше была целая эпопея, длившаяся более полугода, с экспедицией в Семиречье, о которой я уже вкратце упомянул. Но это уже была другая история, к нашим краям не имеющая отношения.
Этот англичанин, как и его жена Люси, не были лишены юмора. А забавные сценки виделись ими едва ли не на каждом шагу. Да это и понятно – ведь встречались люди с разной культурой, менталитетом и на разных ступенях развития. Люси рассказывает про двух русских мужичков, решивших для себя давно занимавший их вопрос: что же за напиток шампанское, что так любят их баре и платят за него баснословные деньги? Наверное, очень уж крепкое – вот бы попробовать! Заработав нужную сумму на золотом прииске, купили-таки бутылку барского вина, стоившую в тринадцать раз дороже водки. Долго не решались глотнуть, но где наша не пропадала – обнялись на прощание, махом опрокинули в глотки и… удивлённо уставились друг на друга: «Ну и дураки наши баре: платят бешеные деньги за воду!»
Сам Томас рассказывает о разговоре с неким султаном, который просил его походатайствовать перед царём о пожаловании ему медали. «Так я же сам чужеземец в России», – сказал ему Аткинсон. – «Но ведь казаки слушаются тебя». – «Слушаются, потому что царь дал мне такую бумагу с распоряжением слушаться». – «Сколько же коней и баранов ты отдал за неё?» – «Нисколько», – отвечал Аткинсон. – «Этого не может быть! – не поверил султан. – Я за бумажку, которая несравненно меньше твоей, отдал в Аягузе пять верблюдов и пятьдесят лошадей. А сколько коней можешь купить ты за свою большую бумагу?» Сколько Аткинсон ни уверял, что ему не дадут ни одной овцы, султан не поверил и продолжал упрашивать о ходатайствовании медали.
Другой султан пробовал торговать у Аткинсона его жену, говоря: «Я тебе дам за неё табун лошадей и много женщин и девушек – в проигрыше не будешь». Сама Люси, наблюдая, как на богатых киргизских тоях женщин не допускают к достархану и они, стоя за своими мужьями, ловят бросаемые из-за спин кости, решила отомстить баям. Устроила богатое угощение, пригласив одних женщин. Когда же пришли мужчины, прогнала их, посмеявшись над ними и укоряя. Что чувствовали «венцы природы» герои-джигиты, можно догадаться.
– А рисунки его сохранились?
– Рисунков сохранилось много – рисовальщик он был замечательный. Правда, и тут надо сделать оговорку: в одних картинах он намеренно фантазировал и искажал реальность, в других был точен и показал себя мастером дела. И тут надо опять вспомнить П. Семёнова: в своих замечательных томах «Живописной России» он использовал его рисунки, но нигде не указал авторство, что не делает ему чести. Много рисовал он и в окрестностях Зыряновска, но эти рисунки трудно выделить из общей массы картин Алтая. Рисовал он Бухтарму, Иртыш, тайгу, животных, людей, и есть два неопознанных рисунка, в которых я подозреваю авторство Аткинсона. Это очень хорошие картинки перевозки зыряновской руды на Верхнюю пристань на Иртыше и рисунок тарантаса по горной дороге, где явно угадывается нынешний Осиновый перевал.
Лесные колдуны
У Петра Ивановича был принцип в работе: кончил дело – гуляй смело. Рома и Стёпа знали это и потому рассчитывали после сдачи экзаменов в школе хорошо отдохнуть. Оба – отец и мать – были не прочь отпустить сыновей на несколько дней в давно задуманный ими поход на белки. Егорка и Агафон тоже отпросились, и Роман, напирая на допотопные местные слова, шутливо их строго допрашивал, особенно малолетку Гошу:
– Ты, я вижу, подчимбарился. Чирки, онучи есть? Мамка затирухи на дорогу насушила, шанежек напекла? А картошки? Всё есть? А ну как на подножный корм придётся перейти?
– Да ладно тебе, слишком умный стал! Говоришь какую-то ерунду. Я вот тёплой травы на дорогу нарвал, – огрызнулся Агафон.
– Это ещё что за трава?
– Такая, что положишь в сапоги – тепло, и ноги не натрёшь.
У Егорки своя забота:
– Ноги – оно, конечно, важно. Мне мамка от комаров в сумку тоже какой-то травы положила. Пахнет хорошо, а будет ли толк – не знамо. Ух, злющие они сейчас!
Сумки – это холщовые мешки, подвязанные лямками, как у рюкзаков. Разъезженная лесовозная дорога вьётся меж лесистых гор вдоль сверкающего студёными водами Хамира. Колея, рытвины, торчащие валуны, ямы и лужи такие, что если ненароком попадёшь, окунёшься едва ли не по пояс в грязную воду. Ходят по ним страшные «КрАЗы» – лесовозы. Подметая дорогу, тащат хлысты – целые пихты от самого комеля до макушки, – а за ними тянутся облака пыли, и сами железные чудища окутаны непробиваемым грязным облаком. Но даже эти ужасы цивилизации не могут заслонить красоту лесного края. Через шумные речушки Громотушки и Быструшки мостков нет, но Тегерек – это уже серьёзная река, не уступающая по водности самому Хамиру, а может, и превосходящая его по мощи. Странные здесь названия, часть из которых явно джунгарского, ойратского, калмыцкого происхождения: Тегерек, Тургусун, да и сама Бухтарма. Другие – русского, в том числе Масляхи и Маслянки. «Маслянки – это оттого, что земля наша, чернозём, такая добрая да жирная, что кажется, будто по речкам плывут масляные пятна, – объясняла Марфа.
Рано или поздно пыльная дорога кончается, и дальше путь идёт через лесные дебри. Бредёшь, проламываясь сквозь травяную чащу, будто пловец, разгребаешь в стороны бурьянные космы. Не видя под собой земли и делая шаг, осторожно ставишь ногу, в любую минуту ожидая, что провалишься куда-нибудь в тартарары, и думаешь о том, когда же кончится весь этот зелёный ад? Чертыхаешься, сердишься, спотыкаясь, а иногда и падая в какую-нибудь промоину или споткнувшись о камень или корягу. Бывает, растянешься во весь рост, попав в травяную петлю из ежевики, да и другие травы могут устроить ловушку. Иной раз проклянёшь это продирание сквозь травяную стену, и вдруг… что это? Неожиданно выскочит бурундучишка, с любопытством оглянет, да и даст стрекача, стремглав взвившись на макушку рябины. Зверёк кроха, а чудесное видение – что бальзам на душу. И куда делось всё недовольство на чертоломину под ногами, забудешь обо всех буераках и с умилением глядишь на рожицу симпатичного зверька. А он ещё и не торопится исчезать, а продолжает одаривать случайного путника своим лучезарным взглядом.
Был конец июня, кричали кукушки, пели соловьи, но уже без того азарта, что бывает у них в начале месяца. С веток ивы на голову падали капли личинок пенниц, паутина цеплялась, липнув к лицу. Истошно кричали слётки-воронята и карагуши – чёрного цвета лесные сарычи. В кронах берёз щебетали синицы. А то ещё встретится рябчик. Невидимый в густой пихтовой хвое, лесной петушок вдруг громко встрепыхнётся, а для чего выдаёт себя – загадка. Егор сердито прокомментировал:
– Смеётся над нами, да ещё и в ладоши хлопает!
– Чего ж тут не понять, – отозвался Роман. – Рябчик подаёт сигнал тревоги. Увидел – предупреди остальных. А они всегда стайкой.
– Роман, а что у нас на ужин?
– Рябчиков не будет, хлебово наварганим с картошкой. А вы, я вижу, на курятинку засматриваетесь. Рябчик-то, он сладкий, мясо нежное. Совсем не то, что у косача, – сухое, на зубах в толокно растирается.
Агафон не согласился:
– А бабушка говорит, что самое пользительное белое-то мясо, косачиное.



