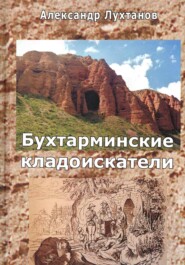 Полная версия
Полная версияБухтарминские кладоискатели
Ну вот и пришли, – сказал Станислав, когда, выбравшись из кустарниково-травяных дебрей, они вышли на каменную площадку, выгрезенную на склоне горы. – Когда-то была государственная копь по добыче пьезокварца, теперь, считай, моя собственность, – добавил он с некоторой усмешкой, – поскольку никому не нужна, никто сюда не ходит и, как видите, всё здесь заброшено.
– Здесь хорошо, – оглядывая окружающий простор, сказала Надя. – И далеко всё видно. Город, отвалы вашего карьера, горы. Смотрите, виден Холзун и даже наша гора Громотуха.
– Да, и мне здесь нравится и в первую очередь тишина и полное уединение, – делился с ребятами Станислав. – Ничто здесь не мешает работе, люди сюда не ходят. И я, забыв обо всём на свете, могу по целому дню копаться, особенно если дело идёт на лад.
Едва ли не всё лето после того я ходил на эти заброшенные хрустальные копи – вот тогда и обнаружил в забое тонкую жилу, заполненную красной глиной. Именно в ней попадались лучшие кристаллы, а иногда и целые друзы – сростки нескольких кристаллов, чистые, ровные, не изъязвлённые отвратительной коррозией камня. Углубляясь с помощью длинной отвёртки, я прорыл длинную и очень узкую штольню, так, что наружу торчали лишь ноги. Измазанный глиной, я вылезал наружу лишь для того, чтобы осмотреть очередную находку, а затем торопливо возвращался в свою нору. Я не хотел терять ни минуты. А однажды вот так вылезаю из своей норы и глазам своим не верю: прямо напротив стоят две косули и смотрят на меня. Вот, наверное, удивились: откуда такой чудик взялся!
Как-то я пришёл сюда со своим другом. Он всё оглядел, а увидев мою закопушку, говорит: «Эх, сюда бы взрывчатки! Заложить бы в щель да трахнуть. Какой бы забой обнажился!»
Но я предпочитал работу без грохота взрывов и рёва механизмов. Моя жила была н чем иным, как занорышем – подземной пустотой, погребком, в котором выросли минералы, обволакивая стенки щёткой кристаллов. Занорыш, жеода, погребок – все эти слова пришли с Урала от старателей копей с самоцветами. Все они – всё равно что ларцы с драгоценностями. В моей жиле встречались лишь обломленные друзы и отдельные кристаллы, не сросшиеся со стенками погребка. Но это было даже удобнее, так как отколоть друзу бывает ох как нелегко! Все они были для меня сокровищем. Радостно ёкнет сердце, когда в монолите нащупаешь податливую мякоть, а рука вместе с орудием проваливается в пустоту. Лихорадочно ковыряешь, убирая накопившийся за тысячелетия ил, а в темноте уже проступает загадочный, стеклянный блеск камня. Сколько миллионов лет понадобилось, чтобы вырастить эти друзы? В хаотическом беспорядке торчали стрельчатые столбики, ромбики с коническими макушками, стеклянные «гвоздики», «спички» с заострёнными концами, чаще по отдельности, а иногда образуя так называемые «щётки».
– А ведь верно: когда-то в детстве мы говорили, что камни растут, – вспомнила Надя. – Значит, действительно растут.
– Да, кристаллы растут, вернее, большинство когда-то росли. Когда остывала расплавленная земная кора на заре существования нашей планеты Земля. Из растворов вырастали кристаллы.
Каждый нашёл здесь себе занятие по душе. Станислав, показав свою добычливую штольню, предоставил её в распоряжение ребят, а сам занялся заполнением своего дневника. Надя бродила вокруг, любуясь полевыми цветами и слушая пение птиц, а Роман и Степан по очереди, сменяя друг друга, работали в штольне, не замечая, как бегут часы. Время от времени они прерывали свое занятие возгласами радости, если случалась удачная находка.
Здесь привлекало всё: полное умиротворение природы, негромкое пение птиц, гнездящихся в море кустарника вокруг, азарт поиска и радость находок. А как приятно было после нескольких часов работы спуститься вниз к речке и, слушая плеск волн, отмывать гранёные обломки, с волнением всматриваясь в добытые сокровища! Разложив добычу на берегу, лучшие кристаллы завернули в обрывки газет, специально припасённых на этот счёт. Тело ломила приятная усталость. Рядом порхали роскошные большие бабочки с бархатными чёрными крыльями. Разморенные дневной жарой, они садились на влажный прибрежный песок и сидели там, лишь изредка шевеля крыльями. Домой шли, каждый обогащённый горсткой сияющих кристаллов и делились впечатлениями хорошо проведённого дня.
– Станислав, а что за архивные сведения вы привезли из Барнаула? – задал давно интересовавший его вопрос Роман.
– Да, ребята, было грешным делом такое, – не очень охотно признался Станислав.
– А почему грешным?
– Да потому, что больной это вопрос для меня. Можно сказать, даже рана. А история эта такая. Как известно, наш карьер разрабатывает самую старую часть Зыряновского месторождения, где подземные работы велись более ста пятидесяти лет. Понятное дело: всё тут пронизано подземными горными выработками, как пчелиными сотами. Где-то пустота заложена, где-то стоит, ждёт, когда в неё кто-то провалится. Естественно, для карьера эти пустоты представляют опасность. Их надо гасить, а для этого надо знать их месторасположение. Конечно, большинство подземных пустот нам было известно, и числилось их ни много, ни мало – целый миллион кубометров. И кроме этих были ещё и неизвестные. А так как центром горнорудной промышленности в то время был Барнаул, то туда посылались копии планов подземных работ. Вот за отысканием недостающих у нас графических и иных материалов я и поехал. Приезжаю: батюшки, архив в старой деревянной церкви! Такой дряхлой, что любая спичка, окурок, замыкание электрическое – и всё вспыхнет, ничего не спасёшь. Но это полбеды (а может, благо), хранителем там был не менее дряхлый старичок. Он над своим богатством трясся, как Кощей Бессмертный. И это понятно: архив богатейший, в отличие от российских, хорошо сохранившийся, а хранитель – человек неравнодушный. Болел за них, чуть ли не у себя за пазухой держал. Три дня я ходил за ним, а он ни в какую, меня не подпускает к своим сокровищам – не доверяет. Потом уж, куда денешься, пустил. А я, как увидел все эти кипы бумаг, переплетённые в кожаные обложки, прочитал некоторые из них и так весь и затрясся: это ж какое богатство! Хранилище истории с такими тайнами, перед которыми меркнет любая фантазия писателей, пишущих детективы.
Да, ребята, там настоящий клад, по сравнению с которым золото – ничто. Драгоценный металл – это фикция, условный материал, на самом деле имеющий ценность не бóльшую, чем бумажные купюры. А тут сокровища, хранящие тайны веков, дающие ответы на многие вопросы и истории, и нашей жизни.
– Здорово, интересно ты, Станислав, всё это рассказываешь, – похвалил Роман, – хоть книгу пиши.
– Ну что ты, какая книга! Я не писатель, я работник рудника, хотя история меня всегда интересовала. Это же куда увлекательнее выдуманных детективов. Жизнь вообще интереснее любой выдумки. Знаете, ребята, что мне ещё показалось интересным? Оказывается, у великого немецкогого поэта Гёте имелась коллекция зыряновских минералов и руд, и она до сих пор хранится в Веймарском музее поэта. А передал ему их работавший врачом в Барнауле Фридрих Геблер. Этот Геблер – интереснейший человек. С отличным образованием доктора медицины, в 1808 году приехал из Германии в Россию – можно сказать, на заработки. Устроился врачом на Колывано-Воскресенских заводах в далёком Барнауле. Алтай, местная природа, служба – всё здесь понравилось молодому Геблеру. Он показал себя отличным специалистом и так прижился, что остался здесь жить и работать до конца жизни. Женился на местной уроженке, и так увлёкся научными изысканиями, что вскоре стал известен всему научному миру как исследователь Алтая и энтомолог – специалист по жукам. В 1828 году он был утверждён инспектором медицины и фармакологии всего горного округа, и это было очень кстати, так как, объезжая подведомственные предприятия, он знакомился со многими уголками Алтая, и, конечно, это помогало ему изучать полюбившийся край.
Ребята, как зачарованные, слушали Станислава, а тот, видя это, предложил:
– Оставайтесь у меня ночевать – расскажу про Геблера более подробно.
– И откуда вы всё это берёте? – не выдержал Роман.
– Источники есть, жаль только, что на немецком языке и до сих пор не переведены. Книги Карла Ледебура, статьи того же Геблера. Интересная открывается картина, когда читаешь. Между прочим, история наших краёв.
– Вы знаете немецкий?
– В том-то и беда, что нет. Кое-как переводил с помощью словаря. Много и неясного осталось. А история такая.
Рассказ о барнаульском докторе, ставшем известным учёным
8 августа 1826 года на Нижней пристани в Усть-Каменогорске, куда на специальных судах привозили зыряновскую руду, царило оживление. Здесь собралась компания знатных людей, и прибыли они сюда с сугубо деловыми целями. Вовсе не вельможи, хотя один из них – Пётр Козьмич Фролов – был облечён большой властью: он занимал пост главного начальника Колывано-Воскресенских заводов и одновременно был Томским губернатором. Такое необычное совмещение доверено ему было царской властью за особо плодотворную хозяйственную деятельность на ниве горно-металлургической промышлености. Пётр Козьмич Фролов был яркой личностью, имевшей не только большие заслуги по развитию горнорудного производства, но, будучи высокообразованным человеком, уделял много сил развитию культуры края. Его интересовала история края, этнография, а собранные им предметы старины, вместе с коллекцией Геблера, стали основой организованного им музея. В Барнауле он основал горно-заводское училище, бумажную фабрику, библиотеку, метеостанцию. Местный поэт, перефразируя слова царя, выразился о Фролове так: «Там, где Фролов, закон не нужен. И не был край при нём сконфужен». Фролов отличался тем, что проводил неожиданные проверки на страх мздоимцам и казнокрадам, посему ими была сложена поговорка: «Не боюсь ни огня, ни меча, боюсь Петра Козьмича». По словам Ледебура, «он своим образованием и любовью к искусству дал жизни и вкусам барнаульцев совершенно иное направление». Имелись в виду прогрессивные нововведения в разных сферах жизни.
Кроме Фролова здесь были Павел Григорьевич Ярославцев – шихтмейстер, знатный барнаульский механик, служащий Колывано-Воскресенских заводов, имевший большие заслуги по конструированию и строительству сложных гидротехнических сооружений на рудниках и фабриках; Геблер, главный врач тех же заводов, к тому времени выполнявший и инспекторские функции заводских и рудничных госпиталей.
Это была деловая, плановая поездка по рассмотрению состояния дел на подведомственных предприятиях, и она же одновременно и инспекторская. Загруженный многими заботами, Пётр Козьмич мог позволить себе некоторую поблажку и короткий отдых на природе во время неспешного плавания по Иртышу, ведь тот же путь до Зыряновского рудника они могли проделать в два раза быстрее сухопутным путём по дороге.
– Господа! – обратился Фролов к собравшимся. – В нашем распоряжении четыре лодки. В каждой лодке размещаются по два пассажира. Мои коллеги знакомы с этим видом транспорта, а я поясню для нашего дорогого гостя господина Ледебура. Как вы знаете, он приехал из Петербурга путешествовать по Алтаю и изучать нашу флору. Карл Фёдорович, – обернулся он к высокому человеку явно нерусского вида, в высоких сапогах и походном сюртуке, – вы, наверное, читали про индейские пирóги, выдолбленные из цельного дерева? Так вот, мы поплывём на таких же больших лодках-пирогах из тополя, в каждой из которых размещаются целых восемь человек: два пассажира, пять гребцов с шестами и один кормчий.
– Где же нашлись такие великолепные деревья, что оказалось возможным сделать такие гигантские лодки? – спросил Ледебур, действительно удивлённый не только мастерством плотников, но и величиной тополей.
– Эти лодки выдолблены из стволов деревьев, растущих на берегах Бухтармы близ Зыряновского рудника. Лодки, в которых мы поедем, далеко не самые большие. Хорошие мастера могут делать лодки длиной в пятнадцать аршин. Называются они обнабоенными, то есть обделанными по бортам досками, и такие лодки свободно перевозят тарантасы даже через реку Обь. Чтобы лодка была пошире, при изготовлении борта её распирают подпорками, пока дерево сырое. Работа непростая, и стоимость такой лодки немалая: до семидесяти рублей. За эти деньги можно купить три лошади. Надеюсь, что тент над головами предохранит вас от солнца или дождя, и желаю всем счастливого плавания.
Ледебур не остался в долгу, в ответ сказав не только явный комплимент, но и искренне удивился:
– О-о, это великолепно! Вас можно поздравить, господин Фролов, с тем, что у вас есть такие искусные мастера и что в ваших краях растут такие замечательные деревья! В Европе мы ничего подобного не видели.
– А к вам, Фёдор Васильевич, – обратился Фролов к Геблеру, – у меня особая просьба. Препровождаю вам и вашим заботам господина Ледебура. Вы его знаете лучше меня – прошу любить и жаловать. В лодках на сиденьях как раз можно расположиться двум человекам, так что вдоволь наговоритесь о своём любимом царстве богини Флоры.
– Очень рад, Пётр Козьмич! – искренне отвечал Геблер. – Без всякого сомнения, мы найдём общий язык с господином Ледебуром.
И это была абсолютная правда. Они были знакомы: любитель-естествоиспытатель и путешествующий по Алтайским горам профессор ботаники из Дерптского университета. Для обоих это была редкая возможность так тесно общаться и говорить на родном для них немецком языке. На русском Геблер говорил свободно, хотя и с акцентом, а Ледебур его не знал.
Плавание оказалось необычайно приятным. Вначале молчаливые, а потом распевшись, дюжие молодцы, раздетые до пояса, толкали лодку шестами, всё время держась мели вдоль берега. Когда же позволяли местность и берег, гребцы становились бурлаками и тянули лодку на канате. Почти сразу за Пригонной сопкой близ окраины Усть-Каменогорска кончалась степь, и Иртыш входил в скалистые берега. Каменные стены стискивали реку, береговые утёсы, один другого выше, стояли по обе стороны Иртыша. Эта величественная картина реки с нависающими гранитными кручами была знакома большинству плывущих, Ледебур же с жадностью вглядывался в открывшуюся панораму, на глаз описывая геологическое строение берегов. По рассказам, об эти береговые скалы, называемые быками, разбилось немало сплавщиков. Иртыш, зажатый горами, течёт быстро и особенно стремителен там, где река, меняя направление, огибает выступающие скалы. Лучше всех знал Иртыш сам начальник Колывано-Воскресенских заводов, он же и организовавший здесь судоходное движение, и помнивший все названия быков, мелей, островов и опасных мест. Наибольшей известностью пользовалась отвесная скала чёрного цвета, получившая название Петух или Петушиный Гребень, наиболее же опасным местом считались Семибратские скалы, где имелось очень быстрое и сильное течение. Если лодка попадала в струю этого течения, то её несло от одной скалы до другой, и вырваться из-под власти его было невозможно. Ещё большей мрачной известностью пользовалась протока между берегом и островом уже вблизи Усть-Бухтарминска, получившая за узость прохода название Собачья нора.
– Самая коварная эта сучья нора, – комментировал Пётр Козьмич, – почему и прозвали её так. Сколько плауков, карбасов с рудой на ней разбилось! Но вы, господа, не тревожтесь, такое случается при плавании вниз. Зазевался кормовой – вот и тащит карбас или плот куда не надо.
По вечерам путники с комфортом устраивались на берегу, жгли костёр, ужинали, ночевали в специально устроенных палатках. На всём пути лишь в одном месте стояла изба, где сплавщики руды могли остановиться, переждать непогоду или переночевать. И разговоры, рассказы без конца. Фролов рассказывал, как, будучи совсем молодым, исследовал фарватер Иртыша на предмет сплава по нему зыряновской руды. Выигрыш в затратах на перевозку водным путём по сравнению с гужевым транспортом оказался огромным. Он же сконструировал суда,называемые карбасами, и вот уже 20 лет на них возят руду, преодолевая расстояние в 150 вёрст вниз по реке до Усть-Каменогорска за один, в худшем случае – за два дня. Ярославцев делился планами устройства водоотлива на Зыряновском руднике, являвшегося главной проблемой у заводского начальства.
– Уже заканчивается строительство шестивёрстного водоподводящего канала на реке Берёзовке, – хвалился он, – вода будет крутить трёхсаженные водоналивные колёса. Теперь думаем, как передать энергию колёс к шахтным насосам.
– Вы там поторопитесь, – вмешался Пётр Козьмич, – шахта ждать не будет, ей работать надо, а вода подпирает, людям уже по колено.
– Пётр Козьмич, вы же знаете, что даже в Европе подобные задачи решать не умеют, – отвечал Ярославцев. – Зело неудобно передать энергию на гору.
– А что нам до Европы, вот наш Ползунов опередил и Англию со своей огненной машиной. Что же нам, так и держать сотню лошадей на откачке воды?
– Будет, Пётр Козьмич, будет готово к следующему вашему приезду.
Ледебур рассказывал об экспедиции этого года по Алтаю, делился планами на продолжение путешествия.
– Надо добраться до Белухи, этого алтайского Монблана, называемого Катунскими Столбами, и наконец разгадать тайну самой высокой и загадочной горы Алтая, – говорил он своим слушателям, самым внимательным из которых был Геблер. – Интересно побывать и на горячих ключах, о которых рассказывают бывалые люди.
– Каким путём вы думаете идти? – спросил Геблер. – Левобережье верховьев Бухтармы находится в китайских пределах, в иных местах путь преграждают высокие хребты.
– Воспользуюсь путём, которым шли и расселялись ваши беглые люди, называемые каменщиками, – отвечал Ледебур: – Сенная, Коробиха, Фыкалка. Даст Бог, успею до холодов и осеннего ненастья.
Геблер жадно слушал, всё более убеждаясь, что и он должен внести свою лепту в изучение Алтая и пополнить когорту его исследователей. Чуть позже к этому его подталкивали и встречи с великим Александром Гумбольдтом, приезжавшим на Алтай в 1829 году. Тогда знаменитый учёный дважды наносил визиты в дом Геблера.
Так плыли целых три с половиной дня, прибыв на Верхнюю пристань в полдень 11 августа. Дальше до Зыряновского рудника добирались сухопутным путём в тележках.
Зыряновск представлял собой невзрачный посёлок с приземистыми домами, мало чем отличающимися от деревенских изб. Выделялись лишь бревенчатые копры шахт и горы отвалов руды и горной породы. Здесь каждый из приезжих занялся своим делом.
Осмотрев лазарет в сопровождении местного лекаря, неказистого человека лет пятидесяти, и поговорив с лежащими в нём бергалами, Геблер в который раз отметил жалобы больных рабочих на малярию, ревматизм, на боли в суставах, на желудок. Потом знакомились с так называемым больничным садом. После знакомых в детстве садов Германии этот огороженный плетнём от скотины садик производил жалкое впечатление. «Какой же это сад? – думал про себя Геблер. – Всё это скорее можно назвать огородом. Эти сибиряки представления не имеют, что такое настоящий сад. Настоящий сад – это яблони, груши, сливы, абрикос. А тут из деревьев одна черёмуха, да и та больше похожа на кусты. Да, но в то же время этот Алтай – настоящий кладезь лекарственных растений, правда, ещё пока плохо изученных. Впрочем, что это я, – спохватился Геблер, – сад – это название условное, и предназначается он для выращивания самых обычных и простых лекарственных растений: подорожника, пустырника, зверобоя, мать-и-мачехи. И надо признать, что местные жители знают и иные алтайские травы, которыми лечатся».
– Да, батенька, тут у вас не очень порядок, – сделал он замечание хозяину «сада». – Всё-таки это больничное заведение, а у вас все вкривь и набекрень, и скот захаживает. И растений мало. Смородина, малина, чистотел – это хорошо, а где ревень? Иркутский аптекарь господин Сиверс специально ездил в ваши края, чтобы искать корень лекарственного ревеня, а у вас в саду его нет, хотя ваши крестьяне-сибиряки очень его уважают.
– Так это, ваше благородие, что его садить, когда выйди за село, там его полно. Да и мало он помогает. Даём его нашим чахоточным больным, а толку нет. А вот что будем делать с ревматиками – бергалы сплошь болеют после сырой шахты?
– Слышал я, что некто Рахманов нашёл в ваших краях целебные минеральные источники.
– Так это ж не дай бог где, у чёрта на куличках! Туда и здоровый если доберётся, больным станет, а больной и вовсе умрёт. Очень он, этот арашан, далеко, за горами, за тридевять земель.
«Дойти, проверить, выяснить свойства. Очень может быть, что это второй Карлсбад, – думал Геблер. – А там и Белуха недалече, в тех же краях. Ледебур вернётся, всё расскажет».
Ледебур вернулся в Барнаул, но не с теми сведениями, что ожидал Геблер.
– Дошёл до Фыкалки, посетил китайский пикет в Чингистае, а дальше сельский старшина отговорил идти, – рассказывал он. – Конец августа, говорит, время позднее. Может непогода, снег зарядить на неделю, а в высокогорье это опасно. В общем, не решился я.
– Да-да, – согласился Геблер, – непогода в наших краях непредсказуема, а в высокогорье уже в августе может выпасть снег и стукнуть мороз, – а сам же подумал: «Не знает этот иностранец характер русского человека. Может, он и прав, а может, и нет, этот сельский староста. Вполне возможно, слукавил, чтобы самому не идти в проводниках. Но верно, если я решусь, то выйду пораньше, и точно знаю, что пойду из Зыряновска, – решил про себя Геблер. – Дорога проверенная, хотя и не простая, и нет бомов и прижимов, что на Катуни».
Решение о сроках подтвердил и опыт другого исследователя и коллеги Геблера Александра Бунге, в 1829 году пытавшегося добраться до подножья Белухи. Слушая рассказы бывалых людей, первопроходцы-исследователи того времени пытались подобраться к величайшей горе Алтая с юга, из Зыряновска, да, кажется, они и не знали иного пути подхода к ней. Даже опытный А. Бунге, разглядывая панораму высоких гор с севера, не сразу догадался, что снежные вершины у реки Аргут – это вовсе не Белуха, и её ещё надо искать в путанице хребтов. Учёный-ботаник, как и Геблер, устроившись врачом в Змеиногорске, делал вылазки в горы для изучения растительности Алтая. Почти тем же путём, что и Ледебур, в июне месяце, выйдя из Зыряновска, через Фыкалку он прошёл на Катунь и был остановлен мощным разливом реки. Это было летнее половодье, часто случающееся на реках Алтая из-за таяния снега в горах и обильных июньских дождей.
«Есть хороший шанс быть первым, – думал Геблер. – Сам Бог велел, хватай птицу удачи за хвост, пока она не улетела. – Этим поговоркам Геблера выучила русская жена Александра Степановна, верная его помощница, да и дети его уже говорили по-русски лучше, чем он сам, и частенько поправляли отца. – Конечно, это не главное – приоритет. Главное – надо продвигаться вперед и изучать край, где живёшь».
Не сразу, постепенно шёл Геблер к своей цели.
Очередную свою инспекторскую поездку по рудникам и заводам в 1833 году Геблер совместил со своим служебным отпуском, который он намеревался использовать для экспедиции в район загадочных горячих источников, о которых слава распространялась по всем Колывано-Воскресенским заводам. В кармане его лежало предписание зыряновскому приставу Циолковскому о всемерной поддержке его предприятию вместе с небольшой суммой денег, отпущенной для этой цели администрацией в Барнауле. Но мало этого – Геблер знал, что ему по мере возможности в Зыряновске помогут и без этого. Грешно пользоваться, но он уже испытал на себе русскую традицию (а может, и не только русскую) угождать инспекторам, исполняя любые их требования и просьбы. Чинопоклонение, подобострастие перед начальством на Руси процветало испокон веков, а что говорить о ревизорах – перед ними трепетали. Геблер недовольно морщился от этого угождения, похожего на раболепие, но, как говорится, «Со своим уставом в чужой монастырь не ходят» – надо жить по существующим здесь правилам. Тем более что в данном случае пристава он уважал. Алексей Осипович Циолковский был просвещённым человеком, интересующимся историей края. Он даже производил раскопки древних курганов на берегах Иртыша. Причём делал это по собственной инициативе из одного интереса к истории.
Геблер имел уже достаточный опыт путешествий по Алтаю и удачно выбрал время для своего путешествия: вторая половина июля отличается устойчивой сухой погодой, в это время усмиряются не только горные реки, вошедшие в свои нормальные русла, но и комары – этот страшный бич в таёжной глуши.
На этот раз Зыряновск встретил его сухой жарой и скрипом, временами переходящим в визг. Это работала новая штанговая водоотливная машина – та самая, о которой рассказывал Ярославцев во время плавания с Ледебуром. Через весь посёлок протянулась система деревянных штанг из брёвен длиной в целую версту. Посредством шатунов она передавала энергию от громадных водоналивных колёс диаметром в 6 метров к насосам, откачивающим воду из подземных выработок. Этот шум, что ночью, что днём не давал жителям Зыряновска спать, и они прозвали эту адскую машину Сварливой Ведьмой. К обычным запахам конского пота и навоза прибавились ароматы дёгтя, которым обильно смазывались шарниры шатунов и штанг.

