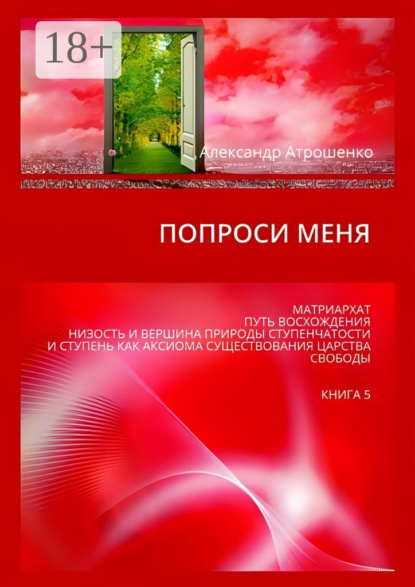
Полная версия:
Попроси меня. Матриархат. Путь восхождения. Низость и вершина природы ступенчатости и ступень как аксиома существования царства свободы. Книга 5
Духоборы составили так называемую «Животную книгу». Большую часть ее занимают «псалмы» – их 373. Каждый псалом – либо пересказ псалма из Библии, либо пересказ Евангелия или пророков. Особую группу составляют «оборонительные» псалмы, в которых помещены вопросы – ответы по всем важным вопросам веры духоборов. Интересно, что в ней под «детьми Каина», понимаются «зараженные сребролюбием» господа – «попы, дьяки, князья, неправедные судьи». «Дети Авеля», – наоборот, т.е. кто соблюдает первую заповедь – «питаться трудом», – это сами духоборы.
Впоследствии вся история духоборов – это история создания и распада целого ряда религиозных «коммун». Принцип «общности имущества» и отказа от института власти духоборы пытались осуществить на практике. Была введена совместная обработка земли и равный дележ урожая, созданы общественные стада и магазины. В «коммунах» возникла теократическая форма правления в виде «совета стариков», возглавлявшаяся религиозными руководителями духобор. Но все «коммуны» оказались не жизнеспособными и распадались. Интересно, что, несмотря на неудавшиеся духоборческие эксперименты по окоммунистичеванию общества, известный в свою пору жизни русский писатель Л. Н. Толстой – зеркало русского мистического настроения, где человек человеку брат и во главе этого братского общества находится самая любвеобильная личность – полубог-получеловек, – очень симпатизировал духоборам.
В XVII – XVIII вв. широкое распространение в России получило еще одно течение, молокан. Их предки относятся к русскому крестьянству и некоторым народностям Российской империи (малороссам и мордве). Приобщая себя к греко-российской церкви они не признавали поклонение мертвым деревянным, каменным и другим изображениям Бога, выполненным по замыслу и представлению отдельных мастеров. Они исповедовали веру во всемогущего и вездесущего Бога, обитающего в живом человека, объясняя, что такие вещи как икона и крест, исполненные руками человека, не есть божество – а лишь вымысел людской, что поклонение таким бездушным вещественным изображениям как крест и икона, является идолопоклонством, отступлением от истинного Творца неба и земли.
На учении молокан в период его формирования сказались влияние западного протестантизма (особенно баптизма), которые отвергали церковь с ее атрибутами и священнослужителями.
Учение молокан утверждает, что православная церковь отошла от заповедей И. Христа, и, что истинная Христова Церковь существовала только четыре века, пока Вселенские соборы и учителя церкви произвольным толкованием Библии не извратили Христово учение и не смешали его с язычеством. Учение утверждает, что истинную Христову Церковь составляют только духовные христиане, которые не приемлют ни преданий, ни постановлений Соборных, ни писаний церковных учителей, а исповедуют лишь то, чему учит Библия.
Молокане призывали стремиться к достижению нравственного совершенства, поклоняться только Духу Божьему, ибо Бог есть Дух, призывали не выполнять законов, противоречащих Слову Божьему, особенно избегать рабства, войны, военной службы и всего того, что создает насилие над человеком. Они не признавали святых, не имели церковной иерархии, клира, не употребляли в пищу свинину и спиртное. Основатели молоканства остались неизвестными. Распространителем ее в среде крестьянства, а затем мещанства и купечества, стал Семен Уклеин из Тамбовской губернии. Оттуда молоканство быстро распространилось в Саратовскую, Воронежскую, Пензенскую, Астраханскую и др. губернии. Таких верующих первоначально именовали иконоборцами. Впоследствии их стали называть молоканами за то, что они признавали только Библию, ссылаясь на ее метафору «духовного молока» (1 Петра 2: 2), нарушали требования православной церкви во время постов, употребляли молоко, как наиболее доступный крестьянам продукт питания.
В XVIII в. ростки просвещения в России естественным образом стали прорастать. Появились такие ученые, как М. В. Ломоносов, В. Н. Татищев, М. М. Щербатов, И. Н. Болтин и др., которые из них в своих наблюдениях начали приоткрывать законы устройства мира, на что, с одной стороны, церковь сразу посмотрела предосудительно, видя в этом для себя большую озабоченность, поскольку факты и выводы наблюдений часто противоречили ранее бытовавшим религиозным мировоззрениям, с другой, и ранее не будучи сильно религиозны русские мыслители-ученые становились еще более консервативны во взглядах относительно религии, тем более отечественной, все более становившаяся для них символом невежества. Заражая своим отношением и взглядами на религию окружавших их людей, те, в свою очередь, видя пример грамотного, просвещенного, всеми уважаемого человека, начинали блуждать между православным суеверием, переходящее в мистерию, и прельщающий слух терминами зарождающейся науки.
Екатерине были близки взгляды Вольтера, т.е. она не принимала грубый материализм, но верила в сверхъестественные силы, совмещала материализм с мистерией. Все это она подводила под православие, в котором более интересовалась мистическими сторонами. Вообще, даже немного грамотный народ в России больше увлекала мистика и наука, как своеобразная мистическая истина вещей, простолюдины же оставались верны своему церковному, перемешенному с языческим суеверием миру. Сама Екатерина удивлялась, несмотря на ее огромную работу по просвещению общества, видя охлаждение людей друг к другу, предававшие публичному позору личность, которая «добродетелей ищет в долгих молитвах… наблюдает строго дни праздничные; к обедни всякий день ездит; свечи перед праздником всегда ставит; мясо по постам не ест»27 (из комедии императрицы Екатерины II «О время!»)
В это время черту русского просвещенного сознания направленное на мистерию ярко демонстрирует известный поэт Г. Р. Державин (1743—1816) в своей оде «Бог». Поэтический дар художника передает непосредственное восприятие мира общества своего круга. Вся в то время спорная особенность этого произведения состоит в непривычном, научнопродвинутом взгляде на бытие. Многое в его выражении даже сейчас умно и прогрессивно, точно так же как и во взглядах Д. Бруно, но стоит помнить, что этот прогресс был достигнут заигрыванием с мистикой, ее философией. У ревнителей православия ода вызвала протесты, но большинству образованным современникам произведение Державина не могло не показаться гениальным, так, что друг А. С. Пушкина В. К. Кюхельбекер поэт, декабрист, позже отметил у себя в дневнике: «У Державина инде встречаются мысли столь глубокие, что приходишь в искушение спросить: понял ли сам он вполне, что сказал!»28 В своей оде Державин иллюстрирует непостижимую природу Бога, соединяющий всё, и загадочную противоречивую сущность человека, поставленного между земным и духовным, который одновременно преклоняется перед Богом и провозглашает себя богом: «О, Ты, пространством безконечный, – Живый в движеньи вещества, – Теченьем времени превечный, – Без лиц, в трех лицах Божества! – Дух всюду сущий и единый, – Кому нет места и причины, – Кого никто постич не мог – Кто все Собою наполняет, – Объемлет, зиждет, сохраняет, – Кого мы называем – Бог!.. – Себя Собою составляя, – Собою из себе сияя, – Ты свет, откуда свет истек… – Светил возженных миллионы – В неизмеримости текут: – Твои они творят законы, – Лучи животворящи льют… – Ты есь – и я уже не ничто! – Частица целой я вселенной, – Поставлен, мнится мне, в почтенной – Средине естества я той, – Где кончил тварей Ты телесных, – Где начал Ты духов небесных, – И цепь существ связал всех мной. – Я связь миров, повсюду сущих, – Я крайня степень вещества, – Я средоточение живущих, – Черта начальна Божества; – Я телом в прахе истлеваю, – Умом громами повелеваю; – Я царь – я раб; – я червь – я бог!..»29
P.S.: Сознание образованного русского общества тянуло дальше, к постижению тайн мироздания, поэтому увлечение «научной» мистикой было ответом на невежественность своей церкви и продолжением той мистики, которая находилась внутри нее. Ожидали большего, втягивались дальше в надежде открыть что-либо необычайное, полезное, благословение «Неизвестностью», невиданные источники «Силы Света», и, в конечном итоге, не найдя ни чего благодатного за пределами сознания, в «тонком» мире, «спустились» на землю, но не отступили, как неотступно от своего православие, и, наконец, в продолжение общей тенденции нашли-таки «настоящий» источник мудрости и благословения в соединении земного и мистического, – мистическую философию – благодатность в полной самостоятельности, в полном отторжении Бога…
Вступив на престол, Екатерина II торжественно заявила – «самовластие, не обузданное добрыми человеколюбивыми качествами в государе, владеющим самодержавно, есть такое зло, которое многим пагубным следствием непосредственной бывает причиной». «Слова не составляют вещи подлежащей преступлению»30 – декларативно афишируется в первое время, что запрещение даже «очень язвительных» сочинений ничего иного не произведет, как «притеснение и угнетение», усилит невежество, отнимет охоту писать.
Однако сама цензура не была ликвидирована, но получила следующее задание: «Слышно, что в академии наук продаются такия книги, которыя против закона, добраго нрава, нас самих и российской нации… Надлежит приказать наикрепчайшим образом академии наук иметь смотрение, дабы в ея книжной лавке такие непорядки не происходили, а прочим книготорговцам приказать ежегодно реестры посылать в академию наук и университет московский, какие книги они намерены выписывать, а оным местам вычернивать в тех реестрах такия книги, которыя против закона, добраго нрава и нас»31. Уже на втором году царствования издается указ о запрещении продавать «Эмилия» Руссо, Мемории Петра III и много других подобных книг.
В 1769 г. Екатерина приступила к изданию журнала «Всякая всячина», намереваясь воспитать читателей, руководя ими. Развитие литературной и журнальной деятельности в России вынуждало императрицу отдавать много времени цензуре. Функцию цензоров исполняли различные чиновники, но высшим цензором оставалась сама императрица.
Идя навстречу общественным потребностям, 1 марта 1771 г. Екатерина разрешает иностранцу Гартунгу завести типографию для печатания иностранных книг32. 22 августа 1776 г. дает разрешение Вейтбрехту и Шнору печатать в их типографии русские книги, но поручает полиции строго смотреть, чтобы книги были «непредосудительны Православной Грековосточной церкви, ни Правительству, ниже добронравию»33.
15 января 1783 г. издан указ, позволяющий «каждому по своей собственной воле заводить оныя типографии, не требуя ни от кого дозволения, а только давать знать о заведении таковом Управе Благочиния того города, где он ту типографию иметь хочет»34. Это событие одновременно сопровождалось указанием полиции, что она должна запрещать те книги, в которых найдется «противное законом Божием и гражданским». «О виновных же в подобном самовольном издании недозволенных книг сообщать, куда надлежит, дабы оные за преступление законно наказаны были»35.
Как полиция ни придиралась, как бы сама императрица ни выражала неудовольствие Фонвизину за его неуместное «свободоязычие» в известных «Вопросах» (1783), указ 1783 г. дал возможность частной инициативе выбросить на рынок массы книг, создать читателя в столице и провинции. Число книг в 80-х годах быстро растет: так, если в 1762 г. вышло 95 названий, то в 1785 г. – 183, а в 1788 г. – 439; беллетристических произведений в 1762 г. – 43 сочинений; 1785 – 66, и в 1788 – 248.
Любопытен один случай, связанный с цензурой. Московский губернатор запретил после первого представления 12 февраля 1785 г. трагедию «Сорена и Замир» известного в то время писателя Николая Николаева. Зрители плакали над судьбой супругов, разделенных коварным царем Мстиславом, но внимание главнокомандующего привлекли строчки: «Исчезни навсегда сей пагубный устав, – Который заключен в одной монаршей воле! – Льзя ль ждать блаженства там, где гордость на престоле? – Где властью одного все скованы сердца, – В монархе не всегда находим мы отца»36.
Задержав дальнейшее представление, губернатор отослал рукопись со своими пометками верховному цензору. И получил ответ Екатерины, который красноречиво свидетельствовал о понимании ею своей роли в государстве. «Удивляюсь, – писала императрица, – что вы остановили представление трагедии, как видно принятой с удовольствием всей публикой. Смысл таких стихов, которые вы заметили, никакого не имеет отношения к вашей государыне. Автор возстает против самовластия тиранов, а Екатерину вы называете матерью»37.
С 1785 г последовали длинные факты расследований, гонений, запрещений, как отдельных книг, так и писателей. Так началось дело против Новикова. Н. И. Новиков (1744—1818) сын среднепоместного дворянина, недолго служил в Измайловском полку. С 1769 г. организует издание сатирических журналов: «Трутень», «Живописец», «Кошелек». В своих изданиях Новиков не останавливался перед тем, чтобы называть конкретных объектов критики – «придворных господ, знатных бояр, дам, судей именитых и на всех»38, и именно ему принадлежит изречение: «Крестьяне такие же люди, как и дворяне»39. Екатерина в журнале «Всякая всячина» сама боролась с такими человеческими пороками, как жестокость (по отношению к крепостным), казнокрадство, взяточничество, но отстраненно, не называя конкретных имен с моралью – «не обижайте никого», «полюбовно мириться» с теми, кто вас обидел – сатирой в «улыбчевом духе». Новиков же описывал действительность порой закамуфлированным, но острым языком. Например, в одном из выпусков «Трутня» появляется сатирический портрет издателя «Всякой всячины» под именем «прабабки». Эта «пожилая дама» не знает русского языка, но «так похвалами избалована, что теперь и то почитает за преступление, если кто ее не похвалит», было не трудно в этом портрете узнать Екатерину. Наконец, терпение императрицы на пределе, она ужесточает цензуру. Журналы «Трутень» и «Живописец» были закрыты. В 1779 г. Новиков переезжает из Санкт-Петербурга в Москву, где берет в аренду на 10 лет университетскую типографию и создает прибыльную «типографскую компанию», после чего сумел организовать книжную торговлю в 16 городах России. С. Н. Глинка дал оценку его деятельности: «Умный, деятельный, предприимчивый Николай Иванович Новиков, далеко опередивший свой век изданием Ведомостей Московских, Живописца, других многоразличных книг и искусным влиянием на умы некоторых вельмож, двигал вслед за собою общество и приучал мыслить среди роскошнаго и сладострастнаго обояния»40. Пожалуй, масон Новиков первый во всеуслышание заявил, что Россия полна пороками. (P.S.: Зато «истинное» православие молчало…)
В январе 1786 г. Екатерина приказывает допросить Новикова. В марте издается указ о запрещении содержателям вольных типографий печатать книги «наполненныя подобными странными мудрованиями, или лучше сказать сущими заблуждениями, под опасением, не только конфискования тех книг, но и лишение права содержать Типографию и книжную лавку, а при том и законнаго взыскания»41. В июле следующего 1787 г. Екатерина запрещает вольным типографиям печатать книги церковные. Немедленно были обысканы все книжные лавки, напечатанные книги опечатаны и сожжены, несмотря на то, что это было противозаконно. В 1788 г. Фонвизину запрещено печатать журнал «Друг честных людей или Стародум». Издается указ не заключать московскому университету с Новиковым контракт на содержание им университетской типографии. Напуганная событиями французской революции в 1790 г. обрушивается на Радищева на его издание «Путешествие из Петербурга в Москву».
А. Н. Радищев (1749—1802) родился в Москве в семье помещика. Во время восстания Пугачёва крестьяне не выдали семью Радищева, спрятав их по своим дворам, что характеризует их человеческие качества. А. Радищев обучался в Пажеском корпусе, в 1766 г. в числе 12 одаренных детей был направлен в Лейпцигский университет, где все свое свободное время посвящал изучению работ французских просветителей. В 1771 г. возвращается на Родину, становится протоколистом Сената, военным прокурором. В 1775 г. выходит в отставку в чине секунд-майора, в 1777 г. – помощник управляющего, а затем управляющий таможней в Санкт-Петербурге. К времени издания «Путешествия» Радищев уже был известен читателям, причем в его некоторых публикациях имелись, по оценке Е. Р. Дашковой «выражения и мысли, опасные по тому времени», но пока все сходило с рук. В мае 1790 г., изданная за счет автора тиражом 600 экземпляров, без указания авторства выходит в свет «Путешествие из Петербурга в Москву». Цензура, не вникшая в содержание какого-то путешествия, распространенного в эту пору жанра, одобряет книгу, по выпуску быстро раскупающуюся. Книга доходит до Екатерины. Прочитав ее, императрица «с жаром о чувствительности» воскликнула, что автор «бунтовщик, хуже Пугачова», «мартинист» (т.е. масон, с его идеологией равноправия всех людей), увидела в книге «разсеивание Французской заразы, отвращение от начальства»42. Трагическая картина крестьянской жизни в книге вызвала в Екатерине притворное удивление. Она прекрасно знала негативное общественное мнение по поводу крепостничества, которой даже дала оценку специальная Комиссия, созванная в Москве еще в 1767 г., для составления нового Свода законов. Однако, не желая этого признавать открыто, она, пометками на страницах книги, которые затем передала Шешковскому, выразилась по поводу крестьянской жизни: «неспоримо, что лучшее судьбы наших крестьян у хорошего помещика нет во всей вселенной»43. В своей книге Радищев остро показал чудовищную аморальность сословного разделения общества, а эпиграфом он взял слова из поэмы Тредиаковского – «Чудовище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй»44 – намекая на сравнение русского царизма, его строя с огромным злобным псом.
В начале своей книги Радищев объявил о своем желании увидеть мир таким, каким он есть: «Я взглянул окрест меня – душа моя, страданиями человеческими уязвлена стала»45. Чужеземец в родной стране, он обнаруживает рабство, в котором живет крестьянство, питающее рабовладельцев-помещиков. «Звери алчные, пиявицы ненасытные, – обращается он к дворянам – рабовладельцам, включая в их число и себя, – что мы крестьянину оставляем? то чего отнять не можем, воздух. Да один воздух. Отъемлем нередко у него, нетокмо дар земли хлеб и воду, но и самый свет. – Закон запрещает отъяти у него жизнь. – Но разве мгновенно. Сколько способов отъяти ее у него постепенно! С одной стороны почти всесилие; с другой немощь беззащитная. Ибо помещик в отношении крестьянина, есть законодатель, судия, исполнитель своего решения, и пожеланию своему, истец, против котораго ответчик ничего сказать несмеет. Се жребии заклепаннаго во узы, се жребии заключеннаго в смрадной темнице, се жребии воля в ярме»46.
Автор «Путешествий» показал, что в России добрых помещиков нет, по крайней мере, он их не встретил в своем путешествии. И более того, помещик фактически приравнивается к положению вора, грабившего свой народ. «Богатство сего кровопийца ему непринадлежит. Оно нажито грабежом, и заслуживает строгаго в законе наказания. И суть люди, которые взирая на утучненные нивы сего палача, ставят его в пример усовершенствования в земледелии. И вы хотите называться мягкосердыми, и вы носите имена попечителей о благе общем. Вместо вашего поощрения к таковому насилию, которое вы источником государственнаго богатства почитаете, ознаменуйте его яко общественнаго татя [вора], дабы всяк его видя, нетолько не гнушался, но убегал его приближения, дабы незаразится его примером»47. Автор не уточняет, но сама подача своей мысли как бы намекает на неминуемую последующую расправу над своими угнетателями. «Сокрушим скипетр жестокости, которой столь часто тягчит рамена невинности; да опустеют темницы, и да неузрит их оплошливая слабость, нерадивая неопытность, и случай во злодеяние да невменится николе»48.
Еще нет никакого Маркса, а русские уже «потирают» руки, как они будут расправляться со своими хозяевами и всеми притеснителями. Поэтому марксизм станет лишь научным воплощением русской атмосферы злобности справедливости, оправданием крушения всего, что связано с культурой царизма, – православной церкви, дворянства, зарождающейся буржуазии.
Время появления «Путешествий» совпало со временем американской и французской революциями. Главной причиной гнева императрицы стала дерзость автора «Путешествия», обнаружившего и «раскол» и критиковавшего верховную власть за ее неспособность устранить его и даже прямой призыв к бунту. Она восприняла книгу Радищева как личную атаку на себя. А между тем, в «Антидоте» она сжато, но точно определила причину невозможности освободить крестьян – этого не хотят помещики. «Нет ничего более трудного, чем менять что-то, где общий интерес сталкивается с частным интересом большого количества индивидов»49. Только государство, высказывало императрица свое убеждение, может найти способ сочетать общие и частные интересы. «Правительство, – подчеркивала она, – вот уже не менее ста лет поощряет, как может, общество»50. Примерно полвека спустя Пушкин признавал правоту Екатерины, соглашаясь с тем, что «правительство все еще единственный европеец в России»51.
«Путешествие из Петербурга в Москву» появилось в конце царствования Екатерины II, в то время, когда основные административные реформы, были завершены. Одинокий голос Радищева не был услышан и не мог быть услышан, ибо выражал взгляды ничтожного меньшинства. Книга Радищева стала известна только после ее публикации в 1858 г. Герценом в Лондоне. Но и здесь круг читателей был узким. Первое полное издание «Путешествия» появилось лишь в 1905 г. Но только когда большевикам понадобились благородные предки, Радищев был превращен в «революционера», «отца русской интеллигенции», стал иконой.
Екатерина в обличительных страницах книги видит «яд французской1», призыв к бунту крестьян против помещиков, вызов против начальства, проповедь вольности, «опорочивание всево установленнаго и принятаго2», в знаменитой оде видит «явно и ясьно бунтовской, где царям грозит плахою», «страницы криминальнаго намерения, совершено бунтовские3…» Ее особенно интересует эта ода: «спросить сочинителя, в каком смысле и кем сложена4», и вопрос, «много ли выпущены экземпляров и куда девались5»52.
В июне 1790 г. Екатерина предписывает графу Брюсу взять Радищева под стражу и изъять из продажи его «зловредную книгу». В начале августа Сенат постановил сжечь «Путешествие», автора же «наказать смертью, а именно: по силе воинскаго устава 20-го артикула отсечь голову»53. Екатерина, как добродушная игуменья, или, как расчетливый трезвый гуманист, желая соединить «правосудие с милосердием», заменила смертную казнь ссылкой в Сибирь, в Илимский острог, «на десятилетнее безисходное пребывание…»54
Расправившись с Радищевым, Екатерина вернулась к другому «мартинисту», к Новикову. В 1792 г. отдается приказ обыскать подмосковную, взять под стражу и допросить Новикова, под видом, неизвестно кем и где изданной, противозаконно напечатанной церковной книге «История о отцах и страдальцах Соловецких», как бы, что эта книга выпущена Новиковым. Начались сыски и конфискации, опечатывание частных книжных лавок, где были найдены запрещенные в 1786—1787 гг. издания или напечатанные без цензурного разрешения. Новикова арестовали и заключили в Шлиссельбургскую крепость на 15 лет. Над книгопродавцами, нарушившими указ 27 июля 1787 г., назначен был суд. Но ни одна из крутых мер не оказалась приведенной в исполнение за изданием указа 2 июля 1796 г. о прощении всех книгопродавцев по случаю рождения великого князя Николая Павловича. Правительственные гонения ярко отразились на книгоиздании: так в 1788 г. было отпечатано 439 названий книг, а в 1797 г. только 165; беллетристского произведения в 1788 г. вышло 248; а в 1797 – 56. 16 сентября 1796 г. Екатерина издает указ, которым уничтожились все частные типографии, «тем более, что для печатания полезных и нужных книг имеется достаточное количество таковых [т.е. казенных] Типографий»55; в Санкт-Петербурге, Москве и других крупных городах учреждается цензура.
Екатерина царствовала, ей нужна была слава, «нужны были громкие дела, крупные, для всех очевидные успехи, чтобы оправдать свое воцарение и заслужить любовь подданных, для приобретения которой она, по ее признанию, ничем не пренебрегла»56 (Ключевский). «Внешняя политика, – продолжает В. Ключевский, – представлялась для того наиболее удобным полем действия при внутренних средствах России и при том положении, какое она заняла в Европе по окончании Семилетней войны»57. Поэтому «внешняя политика, – резюмирует В. Ключевский, – самая блестящая сторона государственной деятельности Екатерины. Когда хотят сказать самое лучшее, что можно сказать о этом царствовании, говорят о победоносных войнах с Турцией, о польских разделах, о повелительном голосе Екатерины в международных отношениях Европы. С другой стороны, внешняя политика была поприщем, на котором Екатерина всего удобнее могла завоевать народное расположение: здесь разрешались вопросы, понятные и сочувственные всему народу; поляк и татарин были для тогдашней Руси самые популярные недруги. Наконец, здесь не нужно было ни придумывать программы, ни искать возбуждений: задачи были готовы, прямо поставлены вековыми указаниями истории и настойчивее других требовали разрешения. Потому наибольшее внимание императрицы было обращено в эту сторону»58.



