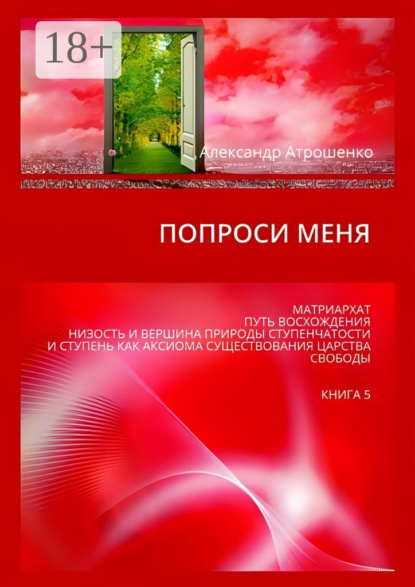
Полная версия:
Попроси меня. Матриархат. Путь восхождения. Низость и вершина природы ступенчатости и ступень как аксиома существования царства свободы. Книга 5
7) Нечто убавить из «продолжительных церковных обрядов», «для избежания в молитве языческого многоглаголания», «отменить множества в поздные времена сочиненных стихир, канонов, тропарей и пр.», «отменить многие излишние праздничные дни; вместо вечерен и всенощных назначить краткие молебны с полезными (!) поучениями народу».
8) Прекратить содержание монахам… Монашества не было в древней церкви…
10) Разрешить духовенству ношение «более приличного платья» (!).
11) Не благоразумнее ли совершенно отменить обычай поминовения усопших? Подобный обычай только доставляет духовенству лишний повод к различным вымогательствам…»10
Православие перестало бы быть православием, если бы предложенные Мелиссино «Пункты» были бы воплощены, и на защиту его встали все мистифициронные силы русской старины. Историк русской церкви А. Н. Карташев о происшедшем свидетельствует: «Характерно, что в делах Синода не осталось ни строки о каком-либо официальном рассмотрении этого сенсационного предложения обер-прокурора. Очевидно, члены Синода отложили официальное рассмотрение всего проекта, как они поступили бы в том случае, если бы „стряпчий по делам государственным“ внезапно сошел с ума при исполнении своих обязанностей… Вскоре (24.Х.1768 г.) Мелиссино был уволен»11. P.S.: Россия обожествлялась
Со времени религиозной реформы Петра I официальная церковь окончательно застывает в одних и тех же рамках мысли и организации. Духовно под ней тяготеет неподвижная утонченная схоластика семинарий и академий: все, что ищет живой мысли, не укладывается в прокрустово ложе апологетических рассуждений, уходит из кругов клира в светские круги, переходит от схоластики к светской науке. Такова была судьба Ломоносова и многих его товарищей, ушедших из Заиконоспасской бурсы (духовная семинария при монастыре) в Санкт-Петербургскую академию, такова была судьба многих других семинаристов и академиков, ушедших с церковного поприща на светскую службу.
Религиозные искания и церковные новообразования с начала XVIII в. сосредотачиваются исключительно в диссидентских кругах, среди старообрядчества и сектантства. Великая религиозная и церковная борьба конца XVII в. создала аморфную и еще более хаотичную массу церковных отщепенцев. Проклятые клятвами собора 1667 г. пошли «раскольники» в изгнание, в лесные пустыни и степи родной страны и за польский и за турецкий рубеж. В изгнании началась дифференциация и кристаллизация различных направлений раскола, сообразно двум главным социальным слоям, на которых раскол базировался: из посадских элементов раскола сложились чисто буржуазные организации, из крестьянских выработались разнообразные формы, и чисто старообрядческие, и так называемые сектантские. Эти последние сливаются с потоком крестьянской «реформацией», – притом реформацией особенного свойства, русского, реформаторского нонсенства, направленного в язычество, – не только не прекратившимся в XVIII в., но получившим еще новую силу под влиянием усиления крестьянского ига. Под казенными неблагозвучными кличками, которыми синодальные миссионеры окрестили различные старообрядческие и сектантские толки, скрывается отнюдь не мертвечина, но необыкновенное богатство народной религиозной мысли и разнообразие церковных форм.
Проще всего и яснее всего стоит вопрос о так называемой поповщине – так называется в официальных документах та ветвь старообрядчества, которая ни одной минуты не могла себе представить, как можно существовать без регулярно совершаемого культа и его квалифицированных отравителей. Старообрядческие общины, придерживающиеся таких взглядов, состояли почти исключительно из посадских элементов. Первая община такого рода и сложилась из двенадцати купеческих семейств, выселившихся из Москвы в Стародубье под предводительством попа Кузьмы от церкви Всех Святых на Кулишках. Но в Стародубье эмигранты остались недолго, т.к. московское правительство не оставило их в покое; вскоре они перешли через польский рубеж и поселились на пустынном острове Ветке посредине р. Сожа (неподалеку от современного Гомеля). Вслед за ними на Ветку переселился целый ряд других купеческих семейств. В колонии переселенцы занимались тем же, чем и в митрополии, и захватили в свои руки нити торговли между левобережной Украиной и Белоруссией. Однако разлагавшееся польское государство не могло охранять вятковских переселенцев от русского правительства: Ветка двукратно подвергалась разорению русскими войсками, и, в конце концов, при Екатерине II прекратила свое существование. Но колонисты Ветки остались теми же купцами и промышленниками и на новых местах, куда пришлось вновь переселиться. Большинство из них подались обратно в Стародубье; там сразу появились торговые слободы и суконная мануфактура.
Другие ячейки «поповщины» находились на Керженце, левый приток Волги. Здесь в пустынной, болотистой и лесистой местности, образовалось 77 раскольничьих скитов, переполненных беглыми попами и монахами. Керженские скиты, находившиеся по соседству с такой важной торговой артерией, как Волга и соседняя Кама, естественно, стали опорным пунктом восточной старообрядческой колонизации. Эмигранты из центра шли на Керженец; крестьяне оставались там, пробиваясь охотой и подсеками, а купцы, захватив с собой попов, шли дальше и постепенно образовали ряд общин по берегам Волги вплоть до Самары. Все речное судостроение и вся хлебная торговля оказались вскоре в руках старообрядцев. С Волги волна старообрядчества пошла по Каме на Урал, там они захватили на заводах торговлю «всеми харчами» и умели проникать на должности ответственных заводских приказчиков.
«Великие промыслы и торги» старообрядческой буржуазии, российской и зарубежной, не оставались, конечно, тайной для Санкт-Петербургского правительства. Но оно не могло продолжать попросту уничтожать буржуазное старообрядчество, поскольку в его кошельке могли оказаться богатые ресурсы для казны. При Екатерине II последовал ряд мер, облегчавших положение русских старообрядцев, а зарубежным было дозволено вернуться, прочим были отведены земли в Саратовском Заволжье, по р. Иргиз. Старообрядческая буржуазия всемерно пользовалась новыми льготами. Пустынные берега Иргиза застраивались торговыми старообрядческими монастырями и слободами, тянувшимися к монастырям: средства дали московские и волжские старообрядцы. Московская поповщинская община, до тех пор вынужденная «таиться», в 1771 г. организовалась легально. Москву посетила в этот год чума. Воспользовавшись ею, московские поповцы выпросили разрешение построить за Рогожской заставой чумный карантин и кладбище; на кладбище был выстроен храм, поставлены богадельни и жилые дома. Окруженное каменной стеной, оно было как бы особым мирком, старообрядческой Москвой рядом с синодской Москвой. Улицы, примыкавшие к Рогожской заставе, начиная от Таганки, сплошь были застроены домами старообрядцев. Здесь скопилось наиболее влиятельное и наиболее богатое старообрядчество; тут была и торговая биржа, устанавливавшая цены на хлеб и на мануфактуру, и своего рода старообрядческая «курия», указаниям которой беспрекословно подчинялись все русские поповщинские общины: «что положат на Рогоже, на том станет Городец, и на чем Городец – на том и Керженец», говорили на Волге, а с Иргиза подтверждали: «на Рогожской дохнут – на Иргизе попа дадут».
Наличие попов – вот отличительный характерный признак для всех старообрядческих общин, для которых была законом Рогожа. Остаться без попов – значило остаться без культа; между тем целый ряд гражданских правоотношений у поповцев был связан с культом. Прекращение культа означало прекращение крещений, браков, погребения, т.е. нарушение всех имущественных и торговых отношений, связанных с рождением, браком и наследованием. Поэтому целью поповского посадского старообрядчества было создание прочной церковной организации с правильным культом и своим собственным клиром. Вопрос о священстве более всего занимал посадское старообрядство в XVIII и в первой половине XIX в.
Первое время недостатка в попах не было. Во время проведения Никоновской реформы масса попов не захотела подчиняться и ушла в раскол. Были и архиереи, державшиеся старой веры, но они все раскаялись и вернулись в официальную церковь. Тогда остался только один, Павел Коломенский, который продолжал выступать против Никоновских нововведений. Павел за непокорство был заточен в монастырь и умер в заключении, не успев рукоположить себе преемника.
Между тем, клирики старого до никоновского рукоположения постепенно вымирали, а новых попов рукополагать было некому. Перед посадским старообрядчеством возникла дилемма: или последовать примеру крайних раскольников, обходившихся без правильного культа и без священников, или получить клириков из Никоновской церкви. Но первое казалось невозможным; крестьяне, и ранее чаще обращавшиеся к помощи колдунов, чем к посредству попов, могли и сами себя и в «Ердани» крестить, и изюмом причастить: для честных буржуа такой исход был совершенно немыслим. Оставалось второе средство. Нашли оправдание его у Аввакума, который в одном из своих посланий, между прочим, писал о попах Никоновской церкви, переходивших к старообрядцам: «Аще поп тот приклинает никоновскую ересь и службу их и всею крепостию любить старину, по нужде, настоящего ради времени – да будет поп. Как миру быти без попов? И к тем церквам приходить»12. А среди никоновских попов желающих «возлюбить старину» оказывались немало, в особенности со времени введения рекрутских наборов: так как посвященье в священники избавляло от рекрутчины, то всякий, кто только мог, старался уйти от этой тяжелой повинности посредством посвящения в попы. Никогда не было такого обилия безместных, бродячих попов, как в начале XVIII века. Не находя себе «хлеба куса» в господствующей церкви, все более и более сокращавшейся в тисках Петровских штатов, безместные попы «бежали», как тогда выражались, на Керженец, к старообрядцам. Там принимали их с распростертыми объятиями и, подвергнув «исправе», отправляли на места. «Исправа» заключалась в том, что переходивший в старообрядчество поп проклинал «никоновскую ересь» и получал «перемазывание», т.е. над ним, как над раскаявшимся еретиком, вторично совершалось миропомазание. Чин «исправы» устанавливался не сразу. По этому поводу было немало споров, и, в конце концов, остановились на указанном чине, отвергнув чин простого проклятия ереси, как слишком примирительный, и чин вторичного крещения, как смывающий благодать священства. Керженец исполнял функции перемазывания до основания иргизских монастырей; после того как «засияло солнце православия» на Иргизе, исключительное право перемазывания было предоставлено иргизским монастырям, по постановлению собора 1779 г.
Другой вопрос поповцев заключался в нахождении для себя архиерея. Клир у посадского старообрядчества был. Но сами старообрядцы осознавали, что он весьма ненадежен и по своим качествам, и по своему положению. Переходили в старую веру, конечно, не лучшие представители клира; но и тех старообрядцы всегда могли лишиться, как только правительство «издумало бы» принять против беглых попов строгие меры. Вполне независимый и доброкачественный клир мог бы явиться у старообрядческой церкви только в том случае, если бы ей удалось найти для себя архиерея. Эта задача была необычайно трудна для разрешения, поскольку было очевидно, что из синодской церкви ни один архиерей не пойдет к старообрядцам добровольно и с раскаянием; идти же на примирения, чтобы получить архиерея ценою признания главенства над собою Синода, старообрядцы не хотели. Приходилось искать архиерея в других местах.
Искания начались еще в самом начале XVIII в. и продолжались все столетие. Старообрядческие тузы потратили много денег и хлопот, но в результате получались одни сплошные скандалы или анекдоты. Искатели архиерейства становились жертвой различных проходимцев из юго-западного края, и, в конце века от разрешения задачи старообрядчество было также далеко, как и в его начале. Часть старообрядцев пришла к отчаянию, и пошла на примирение с господствующей церковью: после долгих переговоров с правительством, в 1800 г. было учреждено единоверие; единоверцы признали главенство синодных архиереев, а за это получили клир, обязавшийся служить по старым обрядам. Но старообрядческая масса с рогожскими тузами не потеряла надежды, и, впоследствии, полвека спустя, поиски архиерейства увенчались успехом.
Вся энергия посадского старообрядства ушла на организацию. Идеология у него была готовая, старая идеология Стоглавого собора, с точки зрения которой уклонение от освещенных чудотворцами таинственных обрядов было злой ересью. В противовес синодской церкви, нашедший новую веру в дебрях умозрений Киевской схоластики, посадское старообрядчество строго держалось национальной веры, как она сложилась до Никона, и себя считало единой истинной церковью, а официальную церковь – еретическую.
Антихристова идеология получила в поповщинских кругах оттенок не эсхатологический, а умалительный, вожди официальной церкви считались «антихристами» постольку, поскольку они гнали старообрядчество, по аналогии с Римскими императорами, мучивших христиан. Поэтому посадские старообрядцы были далеки от мысли, что в мире воцарился антихрист, и что нет более истинной церкви. Напротив, считая царя «еретиком» поповцы считали долгом ему повиноваться и поминали его за богослужением; в иргизских монастырях поминали даже и губернаторов. Стараясь жить в мире с гражданской властью, посадское старообрядчество расчищало свободный путь для своих организаций: теологические споры были не для нее, эту сторону они предоставили другой ветви старообрядчества, окрещенной именем беспоповцев.
Беспоповщинские организации отличались от поповщинских тем, что обходились без священства, но, кроме этого, внешнего пункта, содержались еще внутренние точки различия. Социальный состав всех беспоповщинских организаций первоначально был крестьянский: сообразно с этим и идеология их была чисто эсхатологической. В мире царит антихрист, благодать священства взята на небо, не будет более ни правильного богослужения, ни правильных таинств до кончины мира, а она «не закоснит». Чтобы сохранить чистоту души и веры до момента страшного суда, надо уйти от антихриста, уйти из мира в «лесовальную» пустыню13. Эта идеология, однако, не осталась неизменной. Крестьянские общины старообрядцев пережили процесс социальной деформации: параллельно процессу социальных перемен шла и эволюция идеологии.
Такая эволюция наблюдалась, прежде всего, в самом типичном беспоповщинском согласии, поморское. Центром согласия была община, основанная двумя братьями, князьями Андреем и Семеном Мышецкими-Денисовыми, на р. Выге. За исключением основателей и руководителей первоначальный состав общины был почти полностью крестьянский. Выговцы всецело разделяли эсхатологическую идеологию и пред лицом ожидавшегося ими страшного суда организовали общину на аскетическо-коммунистических началах.
Все было объявлено общим, и проведено строгое разделение труда; общая трапеза, общие запасы одежды и инвентаря. Такой строгий коммунизм диктовался и тяжелыми условиями существования в глухой северной тайге, где приходилось завоевывать себе право на жизнь тяжелыми усилиями и трудами. В одном только отношении пришлось отступить от коммунизма: первоначально общий для мужчин и для женщин скит был разделен на два общежития. Для женщин построили скит на р. Лексе, недалеко от Выги, т.к. несмотря на требования строгого воздержания от полового общения, «сено от огня» уберечь оказалось невозможным. Для Лексы были выработаны и особые правила, еще более ограничившие коммунистический принцип. Женщины не могли исполнять для своих потребностей пашенную и другую «мужицкую» работу: пришлось прислать на Лексу особых «служителей», которые стали делать для сестер всю работу, кроме приготовления пищи и шитья.
Климат этого края отличается суровостью. Тайга давала пушной и лесной товар, но была скупа на хлеб; в северном климате хлеб родился плохо, не случайно выговцы голодали уже в первый год основания общины, пока их было еще немного, и стали ощущать регулярный недостаток в хлебе по мере того, как состав общины все более увеличивался приходившими с юга беглецами. Пришлось «промышлять хлеб и деньги», и постепенно Выговская община превратилась в крупное рыбное и лесное промышленное предприятие на артельных началах. На «Низ» везли рыбный и пушной товар, с Низу – хлеб и другие предметы потребления, которых нельзя было достать на севере. В Выборге, Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Вологде, Москве и Нижнем Новгороде появились выговские конторы и агенты; и в самой общине рядом со «скитниками» появились наемные «работные люди». Так не удалось уйти от «мира». Напротив, в мир пришлось вернуться и привязаться к нему самыми тесными узами.
Вступив с «миром» в экономическую связь, выговцы должны были признать и его гражданские правоотношения. Но для этого приходилось уже пересматривать идеологию. И, когда в 1739 г. на Выг приехала правительственная комиссия производить следствие о выговской общине, те же самые Андрей и Семен Денисовы, которые ревниво оберегали своих «детушек» от антихриста, теперь стали во главе партии примирения с «антихристом». Эта партия после жарких прений одержала верх, и выговцы приняли все условия «мира» – и двойной оклад, и рекрутчину или откуп по 120 руб. с рекрута, и молитву за царя. Принятие последнего было мотивировано Семеном Денисовым в самых недвусмысленных выражениях, знаменовавший полный разрыв со старой идеологией: надо молиться за царя, «ибо мы живем на его земле, он охраняет нас от врагов, печется о внутреннем порядке, ограждает имущество и личности наши от чужого произвола». Меньшинство, не хотевшее измены прежним воззрениям, откололось от Выга, не желая более иметь ничего общего с теми, кто «зверевы указы паче евангелия облобызали», и пошло своею дорогой. Поморская же идеология продолжала эволюционировать все далее и далее в том же направлении.
Центром поморского согласия со второй половины XVIII в. стало Монинская Покровская община, сгруппировавшаяся вокруг московского купца Василия Емельянова, принадлежавший ранее к Федосеевцам. Название же свое согласие получило от имени родственника Емельянова Монина, на имя которого была куплена последователями Емельянова земля и дом под молельню. В этой общине выработались новые воззрения и новая практика культа. Раннее, пред лицом вечности, поморцы говорили, что благодать Божия взята на небо, и культ прекратился вплоть до второго пришествия. Теперь поморцы стали рассуждать иначе. Законная иерархия пресеклась, но пресеклась временно, как пресекалась ранее в эпохи арианства и иконоборства; возможно, что она и восстановиться. Монинцы опять интересовались исканиями архиерейства, предпринятыми с рогожцами, и участвовали даже в общем соборе поморцев и рогожцев 1765 г., созванного специально для разрешения вопроса об отыскании архиерея. Собор кончился ничем; был предложен только один фантастический проект – рукоположить архиерея рукою мощей митрополита Ионы, причем положенные молитвы вместо мертвеца должен был читать рогожеский поп. Но поморцы не хотели признать правильность рогожеских попов, да и весь проект показался большинству участников настолько сомнительным, что от него отказались, а другого способа не придумали. Монинцам пришлось остаться при том культе, который у них выработался «по нужде». Выборный наставник совершает в домашней молельне богослужение, состоявшее в чтении и пение молитв; из таинств совершалось только крещение, которое «по нужде» может совершаемо и мирянами. Больным оставался вопрос о браке. С тех пор, как поморцы стали жить в мире с «миром» и начали трудиться для прочного жития, а не для близкого страшного суда, заповедь воздержания от брака падала сама собой. Брак нужен, но кто же будет совершать таинство брака? Жить «без закона» нельзя, а «по закону» – нет возможности. Из затруднений поморцы вышли путем чисто рационального рассуждения. Брак установлен нерушимой заповедью Божей о размножении рода человеческого – заповедью, данного еще первым людям. До установления таинства брака в христианской церкви браки совершались и были правомерны, ибо использовалась заповедь Божия; значит и теперь, когда таинство брака совершаться не может, брак, как учреждение, все-таки может существовать. Был выработан особый «Брачный устав», стремившийся заменить церковную церемонию гражданским браком. Центр тяжести обряда был перенесен на традиционные домашние церемонии благословения жениха и невесты; за этими церемониями следовало, в качестве придатка, благословение наставника в часовни. Практика жизни вскоре заставила пойти еще дальше, когда явился вопрос о смешанных браках. Тут, под условием епитимии, было разрешено даже венчаться у православного священника и по православному обряду. В результате, поморское согласие превратилось в чисто буржуазную церковную организацию, несколько напоминающее протестантские общины. Сходство дополнялось тем, что, следуя авторитету Андрея Денисова, многие поморы придавали основное значение вере, а не обрядам и провозгласили «вольную волю» каждого человека в вопросах религии: каждый «самовластен» выбирать себе «путь спасения», какой хочет.
Такая же судьба постигла другую общину беспоповцев, образовавшуюся в Москве одновременно с Рогожской и таким же способом – общину Преображенского кладбища. (P.S.: В России, вообще, по большей части вера в состоянии кладбищенского умирающего спокойствия, кладбище – как символ состояния церкви, как символ состояния души человека). Преображенская община была основана так называемыми федосеевцами. Основателем федосеевского согласия стал дьячок Крестецкого Яма Феодосий Васильев. В 1696 г. он вместе со своей семьей и приверженцами уходит в Литву, где возле города Невель основывает первую общину. В общине проживало около 600 мужчин и 700 женщин. Феодосий призывал своих последователей уходить из мира в обособленные общины. «Побегайте, и скрывайтеся во имя Христа» – говорил он. В 1709 г. община Феодосия была разграблена польскими войсками, и он принимает решение возвратиться в Россию. Побывав на Выге, Феодосий разошелся с выговцами во взглядах, находя их позицию слишком примирительной. В противоположность умеренным поморцам, федосеевцы хотели быть крайне чистыми, наподобие пуритан. Их «Устав польский», содержащий правила принятия в общину, проникнут духом крайней нетерпимости к «внешним», т.е. всем лицам, не принадлежащим к федосеевским общинам, каких бы религиозных взглядов они не держались. Московская община должна была организоваться на тех же началах. Основателем ее был московский купец и заводчик Илья Алексеевич Ковылин. В разгар чумы он выступил с обличительной проповедью среди московских федосеевцев, упрекая их за отступление от «православной веры» и объясняя чуму, как наказание за грех отступничества. «Кто православную веру усердно соблюдает, – говорил Ковылин, – того она прославляет и от бед избавляет, по преселении же от временный царствия небеснаго сподобляет и с Богом соединяет»14. Москвичи и федосеевцы, и «внешние», во время чумы были охвачены сильной паникой, что хватались за всякое средство спасения – и проповедь Ковылина имела огромный успех. Умиравшие крестились у него и завещали ему свое имущество. Таким путем в его руках образовался большой капитал, который он употребил на учреждение общины. Прошение об учреждении за Преображенской заставой больницы, богадельни и карантина было подписано, кроме Ковылина, 18 купцами и 7 оброчными крестьянами, записанными в двойной оклад. Так появилось Преображенское кладбище, организация чисто буржуазная, но с аскетическими требованиями. Противоречия между этими требованиями и социальным составом общины определило ее трагическую судьбу.
Называя вновь образованную общину «монастырем», Ковылин и требования поставил перед ее членами чисто монастырские. Супруги, вступившие в общину, должны были оставлять друг друга, а холостые и девицы давали обет целомудрия. Но, несмотря на эти требования, за стенами общины царил разврат, на который основатель общины смотрел сквозь пальцы. Общение с «внешними», даже в употреблении пищи – воспрещалось: но достаточно было отбыть епитимию поклонами, лишним днем поста или молитвами, чтобы загладить даже самый тяжелый грех общения с «внешними». Запрещение общения «с внешними» мотивировалось тем, что весь «внешний» мир, находящийся за стенами Преображенского кладбища, есть царство антихриста. Но в то же время сам Ковылин устраивал у себя торжественные обеды в честь московских властей и щедро раздавал им подарки. Конечной целью общины было спасение душ ее участников на предстоящем в ближайшем будущем страшном суде; но имущество поступавших в общину членов отбиралось Ковылиным в собственность общины «на вечные времена»; а так как страшный суд все не приходил, то Ковылин составил новый устав для общины, по §14 которого попечителям Преображенского кладбища разрешалось употреблять капитал общины на «торговую коммерцию». Таким образом, из орудия спасения душ Преображенская община превратилась в орудие обогащения заправлявших ею купцов; устрашая кончиной мира робких людей, позволявших в суеверном страхе себя обирать и принимавших на себя чисто монашеские обеты, заправилы общины выбрали на свою долю «просторные дома, прекрасные и светлые покои, многоценную трапезу и различные напитки, мягкия постели, красныя одежды, частые разговоры, седания и ласкательные друг к другу помавания»15. А когда монинцы с негодованием обличали фарисейское лицемерие преображенцев, в особенности в половом вопросе, преображенцы отвечали знаменитым в русской среде софизмом, автором новой доктрины своего течения которого будто бы был сам Ковылин: «не согрешишь – не покаешься, не покаешься – не спасешься»16. При таких условиях община смогла существовать только до тех пор, пока находились наивные люди, шедшие со своим капиталом на приманки Ковылина. Раньше всего началось разложение филиальной Санкт-Петербургской общины, где федосеевцы бросили комедию и вступили в самостоятельное общение «с детьми антихристовыми», а в 1821 г. целый ряд наиболее влиятельных членов Преображенской общины в Москве откололся от нее и перешел к монинцам. После этого, в течение XIX в. община влачила довольно жалкое существование.



