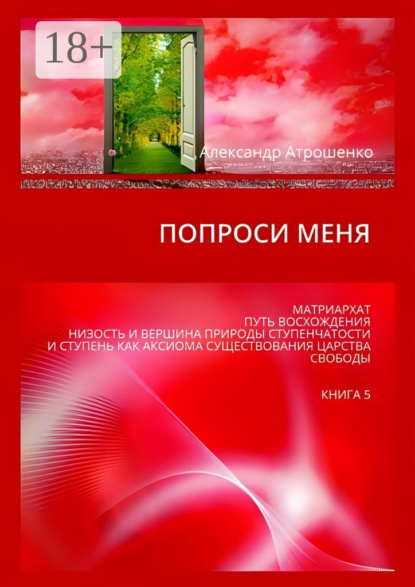
Полная версия:
Попроси меня. Матриархат. Путь восхождения. Низость и вершина природы ступенчатости и ступень как аксиома существования царства свободы. Книга 5
В принципе внешней политики Екатерины II отразились внутренние потребности по распространению собственного рынка, вопроса сохранения и утверждения крепостного права и защита от враждебных коалиций. Екатерину II обыкновенно называют «дворянской царицей», поскольку она обязана первенствующему сословию своим престолом, и поскольку ее внутренне законодательство диктовалось интересами и выгодами дворянства, на этом сходятся все историки, даже самого противоположного направления. Несомненно, потому, что и ее внешняя политика, в первую очередь, была продиктовала выгодами и соображениями господствующих классов. Недаром она встречала среди них всеобщее сочувствие и поддержку. С ее помощью Екатерина сумела себя укрепить на престоле и успокоить недовольную дворянскую массу. В самом деле, ее социальная политика превратила дворянство в привилегированное сословие, в руки которого было отдано распоряжение трудом и жизнью крестьянина. Но дворянство, осев на землю, подняло ценность ее и ее крестьянского труда. Одновременно стало чувствоваться дворянское малоземелье, особенно в центре и на западных окраинах. Помещик жаждет земли – его внимание привлекал богатейший чернозем юга, а, прибрав его в свои руки, он избавился бы и от «убежища» беглых крепостных, которые своим бегством наносили ущерб хозяйственным интересам. Для решения этого вопроса нужно было избавиться от, тоже не без основания претендовавшие на чернозем, крымских кочевников и скрывавшихся за их спинами турок. Обезопасив же себя от турок и татар, тогда и запорожцы станут ненужными, и запорожских казаков с их землями можно будет прибрать к своим рукам.
Следующее, на что было обращено внимание дворянства, это слабая Речь Посполитая. Ее латифундии давно манили к себе и волновали воображение русских магнатов. Срединное положение Речи Посполитой было очень выгодно для вывоза сырья, в то же время, в самой Польше находили себе убежище беглые российские крепостные, согласно правительственным обещаниям, в случае добровольного возвращения они не отдавались тем помещикам, у которых жили до бегства в Польшу.
Агрессивная политики правительства в сторону Польши и Турции вполне соответствовала и интересам купеческим, ставшего с половины века конкурировать с дворянством если не в борьбе за власть, то в стремлении обратить на себя благосклонное внимание власти и направить ее политику хотя бы только отчасти в ее собственных интересах, заявленных в наказах 1767 г. Купечество тянулось к Чёрному морю, к его портам для расширения экспорта в южную Европу и Азию. Даже такой фантастический проект, как Греческий, т.е. мысли о восстановлении Византийской империи под державой внука Екатерины, великого князя Константина Павловича, и тот вполне соответствовал их интересам, для которого крайне было важно, чтобы проливы находились в руках русского правительства и были свободны для прохода русских судов. И захват Польши, с точки зрения торговых интересов и путей сообщений, представлял собой большие удобства. В руки России попадали тогда такие важные пути, как р. Днепр, Кама и Неман, которые могли стать торговыми артериями для сношения, как с Западом, так и с южной Европой – Венгрией и Балканским полуостровом. Вместе с тем, всякие попытки со стороны Швеции усилиться на Балтийском море рассматривались не только как угроза государству, но и как серьезный ущерб торговым интересам на Балтике. Поэтому дальнейшее ослабление Швеции и приведение ее в такое состояние, при котором она в будущем не могла проявить никаких агрессивных намерений по отношению к России и угрожать захватом в свои руки Балтийского торгового пути, составляли ближайшие задачи внешней политики Екатерины II.
Но интересы руководящих классов России встречались с интересами ее соседей, благодаря чему обнаруживалась невозможность ведения внешней политики без учета этого фактора. В польском вопросе с Россией сталкивались Австрия и Пруссия, имевшие свои собственные виды на Польшу. Ясно было, что оба эти государства не заинтересованы в усилении России и, вместе с тем, они претендуют на части территории Польши. На юге интересы России не сталкивались прямо с интересами других держав. Но чрезмерное усиление ее было нежелательно ни с точки зрения политического равновесия в Европе, ни со стороны ее могущего быть впоследствии коммерческого соперничества. Неудивительно, что державы, имевшие свои экономические интересы в Турции, прямо или косвенно поддерживали ее и мешали всячески усилению России.
Главным противником России в 60-е годы была Франция. «Все, что в состоянии ввергнуть эту империю в хаос и заставить ее вернуться во мрак, выгодно моим интересам!»59 – говорил Людвиг XV. В адрес России французская дипломатия в предшествующее время дважды использовала свое влияние, чтобы столкнуть Швецию и Османскую империю в войну с Россией. Страна, которая соединяла два крайних звена «Восточного барьера» Франции была Речь Посполитая, находившаяся в это время в состоянии упадка и позволявшая сильным соседям вмешиваться в свои внутренние дела. Для России это было опасно, т.к. этим могли воспользоваться ее недруги.
Польша представляла собой конгломерат феодальных владений, находившихся в руках могучих магнатских семей, преследовавших свои личные интересы, искавших союзников в Париже, Вене, Берлине, Стамбуле. Центральная власть потеряла возможность управления государством. Сейм был парализован необходимостью принятия только единственных решений «Liberum veto», право каждого шляхтича голосовать против любого законопроекта, открывало широчайшие возможности подкупа голосов, разрушало государство.
Речь Посполитая насчитывала во второй половине XVIII в. 11 млн жителей, занимая обширную территорию, превышающую территорию Франции и Испании, но королевская армия насчитывала 12 тыс. человек. Многие магнаты имели в своем распоряжении более многочисленные вооруженные отряды.
Дни престарелого короля Речи Посполитой Августа III были сочтены и многие страны занимал вопрос, кто окажется на польском троне. Чтобы добиться Речи Посполитой, находящуюся в сфере русского влияния, Россия пошла на союз с Пруссией, которая, в свою очередь, охотно шла на эту сделку в надежде на территориальные приобретения за счет земель Речи Посполитой.
Смерть Августа III в октябре 1763 г. ускорила события, в марте 1764 г. между Россией и Пруссией был заключен союзный договор. Он открывал широкие возможности для вмешательства во внутренние дела Речи Посполитой, вместе с тем, предусматривал решительное противодействие любым попыткам ликвидировать «либерум вето».
Еще до смерти Августа III, в начале 1763 г. в Польшу и Литву вступили русские войска; когда началась «выборная кампания», они подошли к Варшаве. 6 сентября 1764 г. пять тысяч пятьсот восемьдесят четыре шляхтича на элекционном сейме выбрали королем Речи Посполитой Станислава Понятовского – Станислава-Августа. Русские войска из деликатности отошли на три мили от луга, на котором собирались избиратели. Порядок охраняла милиция могущественного клана Чарторыжских, родственником которого был Станислав. Екатерина II говорила насчет избрания Понятовского: «Из всех претендентов на польскую корону он имеет менее всех средств достигнуть того, а через то кажется далек от нея, следовательно будет более других считать себя обязанным тем, из чьих рук получит корону»60.
Главные усилия могучих соседей Речи Посполитой были направлены на сохранение старой «анархической республики»: принимались все меры, которые мешали проведению реформ. Станислав-Август и Чарторыжские были готовы провести реформы, которые усилили бы центральную власть, причем готовы были это сделать под русским протекторатом. Вели, например, дискуссию (впрочем, с давних времен) об ограничении или отмене «либерум вето». Соседи не хотели реформ, они предпочитали слабое польское государство. Россия и Пруссия выступили защитниками свободы, защитниками прав шляхты, не желавшей отказаться от «либерум вето». С.-Петербург и Берлин объявили себя защитниками прав «диссидентов». Слово, которое приобрело мировую известность в 70-е годы XX в. обозначало «врагов советской власти», во второй половине 70-х годов XVIII в. обозначало протестантов и православных – граждан Речи Посполитой. Они пользовались всеми гражданскими правами и религиозной свободой. Екатерина и Фридрих потребовали для них всех политических прав наравне с католиками. Этого не было, конечно, ни в самой России и Пруссии, не было этого также и в Англии, Франции, Испании.
Никита Панин объяснял русскому послу в Варшаве Николаю Репнину: вопрос диссидентов отнюдь не должен быть предлогом для распространения в Польше православной или протестантской учений, он должен быть единственно инструментом приобретения для России сторонников. Это было очевидно для Екатерины. Число беглецов из России в Польшу постоянно росло по мере ужесточения крепостного права. Расширение свобод для православных в Польше могло только привлечь новых беглецов. Вопрос о диссидентах вызвал обострение разногласий между магнатскими кланами в Польше, ослабляя страну. Кроме того, Екатерине чрезвычайно нравилась роль (этого мнимого) борца за «свободу», тем более что за это еще и очень хвалили властители дум XVIII в. – французские философы. В 1768 г., например, Вольтер поздравлял Станислава-Августа с появлением русских войск в Польше: «Российская императрица не только утвердила универсальную терпимость на просторах своего государства, но послала армию в Польшу, первую такого рода в истории человечества, армию мира, которая служит только защите прав граждан и заставляет трястись от страха их врагов»61.
Русский историк Георгий Вернадский в 1927 г. изложил события, последовавшие за избранием Станислава-Августа, коротко и совершенно недвусмысленно: «Польский сейм отвергнул петицию о правах диссидентов… Русские войска были введены в Варшаву, и вожди крайней латинской партии были арестованы. Тогда сейм согласился издать закон об уравнивании диссидентов в правах с католиками (1767). В ответ образовалась (в городе Баре) конфедерация крайней латинской партии»62. В 1801 г. видный русский дипломат многолетний посол в Лондоне, Семен Воронцов объяснял в письме Александру I, что произошло в Польше: «Берлинский Двор не хотел, чтоб и финансы пришли когда-либо в порядок в стране, которую он желал привести в разстройство, чтоб овладеть частью ея, то он пригласил графа Панина, под иным предлогом, отменить улучшение, введенное в Польше и, для полнейшаго ея потресения, склонить этого министра потребовать, чтобы все Польские диссиденты были допущены ко всем государственным должностям, что было невозможно без не употребления против Поляков крайних насилий. Эти насилия были употреблены, что и подало повод к образованию конфедераций, число которых тщательно скрывали от Императрицы. Епископы, сенаторы, были арестованы в полном присутствии Сейма и сосланы в Россию. Наши войска вошли в Польшу, все опустошили, преследовали конфедератов даже в Турецких областях, и это нарушение границ вызвало войну, объявленную нам Турками»63.
Барская конференция начала войну с Россией. В октябре 1768 г. российские войска разгромили конфедератов под Слонимом, но в следующем году потерпели три поражения. В июне 1770 г. в районе Мяделя, Радошкович и Минска начал действовать отряд Косаковского, который вскоре был разбит под Новогрудком. В сентябре 1771 г. на сторону конфедератов перешел великий гетман литовский М. К. Огинский, но его отряд потерпел поражение от отряда А. В. Суворова под Столовичами.
Начало военных действий против конфедератов (члены польских временных союзов вооруженной шляхты или ее частью) послужило сигналом для волнения гайдамаков (движения украинских крестьян 18 века против польской шляхты и католического духовенства, сильнее всего обрушившихся на еврейское население). С апреля 1768 г. в гайдамацком движении наступила новая, наиболее ужасная фаза, получившая название «Колиивщина». Она достигла апогея в трагической Уманской бойне. Во главе стал запорожец Максим Железняк, действовавший по призыву православного монаха Мелхиседека (Значко-Яворский), главного организатора Колиивщины. Деятельное, хотя и неофициальное, участие в подготовке движения приняли также православные киевские монастыри. Железняк производил страшные разрушения от имени императрицы Екатерины II, якобы выдавший монаху Мелхиседеку, явившемуся к ней за свидетельством, «Золотую грамоту», даровавшую право ни избиение поляков и евреев; хотя нельзя отрицать и того, что Екатерина не могла рассчитывать в борьбе с конфедератами на содействие гайдамаков. Народ верил этому охотно и содействовал гайдамакам. С лозунгом истребления всех евреев «от Нухима до Боруха» и всех поляков, грабя и убивая их, гайдамаки напали на Жаботин, Черкассы, Смелу, Корсунь, Канев. Особенной жестокостью отличалось нападение на Лысянку: гайдамаки повесили в костеле рядом ксёндза, еврея и собаку с надписью «лях, жид и собака – все вира однака»64. Нападению подверглись также Тетиев, Чмань, Тульчин, Павлович, Рашков, Липовцы, Погребищи, деревня Медничка и др.
Из всех встретившихся на пути городов и местечек уцелела одна Белая Церковь, сильно укрепленная и отдававшаяся под подданство России. Однако с тем большей силой обрушилась ярость гайдамаков на Умань, в то время крупный центр правобережной Украины, служивший как бы столицей всего Заднепровья. Этот город, принадлежавший графу Потоцкому, привлекал своим богатством и высокой концентрацией польского и еврейского населения. Надеясь на городскую крепость, многие евреи и поляки убежали в Умань. Кто успел, расположился в городе, остальные массами укрылись за его стенами. Губернатором Умани был Младонович, а отрядом надворной казацкой милиции командовал сотник Гонта, на которого жители возлагали все надежды. Но 18 июня 1768 г., когда Железняк подошел к Умани, Готна с казаками перешел на его сторону, и, избив всех, стоявших за стенами, немедленно напал на город. В то время как шляхтичи почти совершенно бездействовали, евреи под руководством землемера поляка Шафранского отчаянно защищали город, пока он не был взят. Гайдамаки уверили губернатора, что они поляков не тронут, и, действительно, начали сначала с евреев. Избив всех, кто встретился им на улицах, они бросились к синагоге, где собралось свыше трех тысяч евреев. Некоторые пробовали защищаться и нападали на гайдамаков, но те поставили у входа пушку, и перебили всех, кто находился там. Три дня (5, 6, 7) гайдамаки под предводительством Гонты, резали еврейское население, не щадя ни женщин, ни стариков, ни детей. Затем они взялись за поляков, подвергая их той же участи. Жестокость гайдамаков во время этой бойни поставила Уманскую резню в один ряд с самыми страшными массовыми преступлениями. Всего было убито около 20 тыс. человек. Гонта запретил хоронить убитых, трупы были оставлены на съедение собакам.
Другие отряды Гонты проделывали в это время то же самое в других городах и поселках – Теплике, Дашове и др. Особой жестокостью отличался один из предводителей гайдамаков, участник Уманской резни – Василий Шило, отряд которого преследовал евреев, укрывшихся в городе Балте (наполовину принадлежавший тогда Турции). Уцелевшие евреи бежали в Бендеры, но и здесь часть из них убили, другие утонули или погибли от голода и лишений.
Вскоре после Уманской резни гайдаматчине приходит конец: против них выступают польские войска, а вместе с ними русские войска и даже Запорожская Сечь. Польский граф Браницкий обратился за помощью для усмирителю Барских конфедератов к русскому генералу Кречетникову, который подошел к лагерю Железняка и Гонты, находившемуся еще у Умани. Генерал хитростью овладел городом и взял гайдамаков в плен. Большинство их он отдал полякам. Поляки отомстили Гонте: его четвертовали, предварительно живьем содрав с него кожу. Свыше семисот гайдамаков, попавших в руки полякам, были повешены по всему пути от Умани, Винницы, Брацлава до Львова. Железняк как русский подданный был сослан в Сибирь. Уцелевшие отряды гайдамаков были уничтожены польским начальником Стемпковским.
Тем временем Россия воевала с польскими конфедератами. Для их подавления Екатерина II направляет войско во главе с генералом Кречетниковым, которое 5 марта 1768 г., преследуя конфедератов приступом переходит польско-турецкую границу, сжигая слободу Балта, турецкой части города, в которой укрылись конфедераты.
Русские войска, воевавшие с конфедератами, вначале использовали помощь гайдамаков, возбуждая православных против латинян, но Екатерина ни в коем случае не хотела возбуждать крестьян против помещиков, даже если крестьяне были украинцами, а помещики – поляками. Негласный союз между гайдамаками и русскими войсками распался очень быстро: совместными действиями царских и королевских сил восстание было жестко подавлено. Но до этого гайдамаки, 16—18 июня, преследуя бежавших евреев и поляков, нападают на Юзефград, а затем на Балту, беря его турецкую часть приступом, как и в случае с генералом Кречетниковым, были вновь убиты и разграблены многие жители.
Екатерина не заинтересованная в данный момент осложнениями отношений с Турцией, дипломатическим путем старалась разрешить происшедшие инциденты. Ей не верили в искренности заявлений, видели только затруднительное положение и желали скорее использовать данный момент.
Султан Османской империи Абдул-Гамид I, внимательно следивший за событиями в Речи Посполитой, и не желавший усиления России, вместе с тем намеревавшийся сам отторгнуть от Польши земли на южных ее окраинах (морально поддержанный Англией и Францией), осенью 1768г. предъявил России ультиматум: вывести войска из Польши и отказаться от покровительства православным (диссидентам). Россия отвергла ультиматум. Турция объявила войну.
Екатерина была поставлена перед выбором продолжать борьбу с Барской конфедерацией или отказаться от нее под угрозой войны с Турцией, и императрица, подчеркивая, что войны не хочет, решила выбрать «меньшее зло». «Нет намерения нашего, – разъяснялось в новой инструкции 26 марта 1768 г. послу в Турции А. М. Обрезкову, – доходить умышленно до неприятностей и до разрыва с Портой; но не скрою я однакож вашему превосходительству, что лучше и скорее поступим мы на одни и на другой, нежели допустим испровергнуть воздвигнутое нами на последнем сейме здание дисидентскаго возстановления, новаго польской конституции учреждения и вечной гарантии, как на оную, так и взаимных владений, ибо тут в высшей степени интересованы честь, слава и достоинство Ея Имп. Величества с истинными и непременными принципами политической нашей системы»65.
В октябре 1768 г. разрыв России с Портой стал свершившимся фактом. 4 ноября было собрание приближенный к Екатерине лиц, на котором рассматривался ряд вопросов. Было постановлено вести наступательную войну и при заключении мира поиметь выгоду, т.е. получать свободу мореплавания на Черном море и позаботиться о построении там же крепостей или порта. Таким образом, турецкая война сразу превращалась в решение экономических задач – освоение берега Чёрного моря, необходимого для развития торгового мореплавания.
Турецкая войны осложнилась ведением боевых действий на 2 фронта – против барских конфедератов, собравших сильную армию, и против турецкой армии, насчитывавшей теоретически 600 тыс. бойцов, не считая вспомогательных татарских войск. Русская армия в 1767 г. насчитывала 187 тыс. человек, в том числе 150 тыс. пехоты. Кроме того, имелись нерегулярные казачьи отряды. Мобилизация после объявления войны дала еще 50 тыс. солдат.
Екатерина II, принцесса из маленького немецкого княжества, заняв Российский престол и возложив на себя «шапку Мономаха», унаследовала все мечты и фантазии русских царей. В том числе мечту о Константинополе. Мысль о Москве – Третьем Риме – рождается после падения Византийской империи и женитьбы Ивана III на Софье Палеолог. Хорватский богослов Юрий Крижанич сформулировал в XVII в. теорию, что в основе всех славянских народностей лежит Русь, которая вследствие этого является империей всех славянских земель, включая византийские владения, принадлежавшие в то время Оттоманской империи. Пётр I, начав войну против Турции в 1711 г., приступил к практике реализации проекта. Неудача Петра, Прутская катастрофа, лишь задержала реализацию мечты. В 1762 г. фельдмаршал Миних писал Екатерине, только что занявшей трон: «Я могу доказать твердо обоснованными доводам, что с 1695 года, что когда Петр Великий впервые осадил Азов, и до часа его смерти в 1725 году, в течение тридцати лет, его главным намерением и желанием было завоевать Константинополь, изгнать неверных, турок и татар, из Европы и возстановить таким образом греческую монархию»66. Старый фельдмаршал рассчитывал, что молодая императрица поручит ему новый поход. Отказавшись от услуг Миниха, Екатерина приняла в наследство планы Петра. Фантастические, казалось бы, в момент их рождения совершенно нереальные планы всегда играли важную роль в русской внешней политике.
Со второй половины XVIII в. Османская империя утратила былое могущество. Ее экономические и материально-технические ресурсы оказались слабее, чем у России. Полной неожиданностью турецкой стороны стал выбор главного удара России в сторону Дунайских княжеств, Молдавии и Валахии, а также снаряжение морской эскадры в Средиземное море для нанесения удара туркам в тыл. Уже в 1769 г., несмотря на вялые и безынициативные действия А. М. Голицына, командующего 1-й армией на Днестровско-Бугском направлении, русскими были заняты Хотин, Яссы, Бухарест и другие крепости дунайских княжеств. Христианское население и правительство Молдавии встречали русских с восторгом. С их приходом у молдаван появилась надежда на освобождение их от турецкого ига. Точно так же русским помогали и валахские вельможи, также надеясь освободиться от турок.
В 1770 г. русская эскадра, обогнув Европу, появилась в Средиземном море. 25—26 июня под Чесмой, руководимая А. Г. Орловым и адмиралами Г. А. Спиридоновым и С. К. Грейгом, одержали полную победу. Запертые в бухте все турецкие корабли, за исключением одного были сожжены. П. А. Румянцев, командир 2 армии на Днестровско-Бугском направлении в июне 1770 г. нанес крупное поражение Крымскому ханству у урочища Рябая Могила, а в июле – чувствительнейший удар при впадении реки Ларги в Прут. Турки решили взять реванш, подтянули главные силы визиря к реке Кагул. В месте очередного сражения османская армия использовала 150 т. человек и 150 орудий, в то время как у Румянцева было 27 т. человек и 118 орудий. Тем не менее, русские войска нанесли османам сокрушительное поражение. Победителям досталось 138 пушек и весь обоз противника. Потери в живой силе у русских составили 914 человек, у турок около 20 тысяч. За разгром главных сил турецкой армии под Кагулом П. А. Румянцев получил звание фельдмаршала.
Используя новую тактику ведения боя, расчленение линейных боевых порядков на более маневренные каре (боевой порядок пехоты в виде единого или нескольких квадратов, прямоугольников) русскими вскоре были заняты крепости Измаил, Килия, Аккерман, Браилов, Бендеры. В кампании 1771 г. русские войска заняли Крым. Средиземноморская эскадра блокировала Дарданеллы.
Становилось очевидно, что цель, с которой Порта начала войну – принудить Россию к смягчению своих позиций, не будет достигнута. Более того, теперь ей самой предстояло пойти на существенные уступки, Россия требовала независимость Крыма, независимость Валахии и Молдавии, свобода плавания российских судов по Чёрному морю, передача России одного из островов Эгейского моря, все это сильно били по амбиции Порты.
Блестящие успехи на всех фронтах позволяли не придавать особого значения внутренним трудностям. В 1770 г. в Россию из армии проникает чума, которая прочно свила себе гнездо в Москве. В начале лета 1771 г. в Москве умирало по 400 человек в день. Вспыхивает чумный бунт населения, считавшего себя обреченным. Главнокомандующий Салтыков бежал: народ обвинил в беде врачей, а архиепископ Амвросий, приказавший увезти чудотворную икону, к которой стекались толпы людей, отчего зараза сильно развивалась, был убит. Только энергия генерала Еропкина положила конец бунту. В сентябре Екатерина посылает в старую столицу для наведения порядка Г. Орлова. Но эпидемия ослабла и в октябре прекратилась.
Едва погасло эпидемия чумы, на востоке вспыхнул пугачёвский бунт, потрясший империю. Война с мятежниками, в добавление к трем внешним фронтам, требовала колоссальных жертв. Екатерина увеличивает прямой налог в 1,3 раза, а расходы каждой живой души на питье спиртных напитков увеличивается все царствование более чем в три раза: «В великорусских губерниях, где до сих пор еще по старинке пробавлялись пивом и брагой, а теперь была одна водка, вдруг появилось страшное пьянство, и в мире народных поверий возник и сложился образ Ярилы, бога водки, великорусскаго Бахуса…»67 – констатирует И. Прыжов, автор «Истории кабаков в России в связи с историей русского народа». Но эти меры все равно не принесли желаемого результата по наполняемости бюджета, и Екатерина приступает к выпуску бумажных денег. В 1787 г. Австрийский император Иосиф II говорил: «Императрица единственный монарх в Европе, действительно богатый. Она тратит много и везде и ничего не должна; ея бумажныя деньги сто́ят, сколько она хочет»68.



