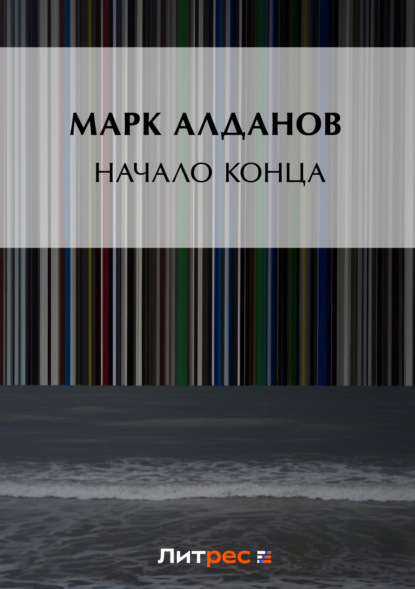 Полная версия
Полная версияНачало конца
С необычной быстротой он перебрал все свои прежние отношения с ними за последнее время и за все времена. «Нет, кажется, ничего такого нет», – подумал он, едва передохнув. Но теперь никак нельзя было сказать, что, собственно, такое и что не такое. Карьера Кангарова по службе и в партии шла в разное время в разных комбинациях; были среди них и комбинации, которые теперь, очевидно, никак нельзя было считать похвальными. В его уме пронеслись ужасные мысли: «Вытащат «Бесстыдники, опомнитесь!», снимут с должности, вызовут в Москву! Теперь кого снимают, того сажают в тюрьму, – в тюрьму это еще в лучшем случае! Если уж тех он не пощадил! Отказаться, подать в отставку, стать невозвращенцем?..» На мгновение он было даже подумал о том, как к нему отнеслась бы эмиграция. «Собственно, лично против меня они ничего иметь не могут…» Подумал и о денежных делах – на какие же тогда средства жить! Дикость этих мыслей поразила его. Он долго, смертельно бледный, сидел в ванне. «Что же теперь делать?» Делать было нечего. По характеру московских событий они никакого отклика с его стороны не требовали. «Партия! Остается партия!» – подумал он и попытался настроиться на солдатский тон, как в 1918 году: партия всегда права, партия требует, все для партии… Но сам почувствовал, что настроение старого капрала и прежде удавалось плохо, а уж теперь совсем не удается.
Кангаров вдруг вспомнил о Надежде Ивановне. Ему тотчас стало ясно, что все остальное: партия, карьера, приемы у королей, чисто спортивное удовольствие от удачных дипломатических ходов – все второй план. Настоящее было только одно: Надя. «Да, влюблен, совершенно влюблен, все для нее брошу и жить без нее не могу. Ничего мне другого не надо, лишь бы только там, где она…» По сравнению с этим отпадали и карьерные соображения, и страх перед тем, что могло его ждать. «Вызовут, поеду, если она поедет! Но ведь там живо разлучат…» Он с полной искренностью подумал, что в самом деле для него высшим счастьем было бы поселиться с Надей на небольшом участке земли, построить виллу, сажать цветы. «К чему эта мишура, министры, речи, аудиенции? Если я и стремился ко всему этому прежде, то имел этого достаточно, дальше идти некуда, какая еще может быть карьера, и зачем она мне?»
Несмотря на горячую ванну, зубы у него стучали. Он опять все мысленно перебрал, обстоятельнее, точнее: «Нет, такого ничего нет, даже если начнут с «Опомнитесь, бесстыдники!». Могут погубить только, если он захочет погубить. Но ведь в этом нет ничего нового! И они в опале тоже не со вчерашнего дня, меня, однако, не трогали…» Весьма важен был вопрос, как московские события отразятся на положении народного комиссара. О нем тоже можно было рассуждать разно: с одной стороны, по одной комбинации партийных, служебных и, главное, личных отношений у народного комиссара все как будто было в полном порядке; но, с другой стороны, по другой комбинации, этого никак нельзя было сказать. Кангаров подумал и о прочих своих товарищах по ведомству. Положение некоторых из них было хуже его собственного. Это немного его успокоило.
Он вышел из ванны и, завернувшись в простыню, стал говорить по телефону. Говорил он необыкновенно бодрым голосом, как ни в чем не бывало, и отвечали ему тоже как ни в чем не бывало и тоже необыкновенно бодрым голосом. Никакой речи о московских событиях не было, Кангаров лишь вскользь задал вопрос о здоровье народного комиссара и тут же подумал, что благоразумнее было бы теперь такого вопроса не задавать. Народный комиссар, как оказалось, был вполне здоров. Разговор этот успокоил Кангарова. «Нет, при чем же тут я?» – решил он и стал одеваться. Из другой телефонной беседы выяснилось, что дела очень много и что ему, вероятно, придется съездить в Амстердам. Это тоже его утешило: очевидно, никто и не думает, что в его положении произошла перемена. Когда пришла Надежда Ивановна, Кангаров был уже спокоен. Увидев ее, он опять почувствовал, что все остальное не так важно, лишь бы она находилась тут и вот так говорила: «Чудный город, чудный, но наша Москва, право, лучше!» Он одобрительно кивал головой.
Затем началась работа, деловые завтраки, приемы. Никаких тревожных событий не было; грозу, очевидно, пронесло. В своем кругу они даже вскользь, очень осторожно, обсуждали события – «кто бы мог ждать от людей такого падения?». А еще через несколько дней Кангарову пришлось выехать в Амстердам. Взять с собой туда Надежду Ивановну он никак не мог и, уезжая, поручил ее Тамарину. «С ним, по крайней мере, можно быть спокойным: не будет никакой хамской выходки, – подумал Кангаров и шутливо добавил: – Вы, Ваше Превосходительство, Командарм Иванович, держите ее строго, в случае чего в угол ставьте». Надя сделала детское лицо. «Я его живо отошью», – подумала она.
Отшивать командарма, однако, оказалось совершенно ненужным. К большой радости Надежды Ивановны, он тотчас сказал ей, что по утрам работает, а с семи часов вечера «весь к ее услугам». Надя целыми днями бегала одна по Парижу, осматривала по путеводителю разные кварталы города, достопримечательности, музеи. На каждом шагу останавливалась перед витринами магазинов, вздыхала, составляла всякий раз новые бюджетные планы и нерешительно входила в магазин. Но чем больше вещей она приобретала, тем яснее становилась необходимость покупать еще. «Бездонная бочка, тут и сотни тысяч уйдут незаметно, беда», – сокрушенно думала Надежда Ивановна. Сотен тысяч у нее не было.
Все в Париже нравилось ей чрезвычайно: улицы, здания, музеи и особенно Galeries Lafayette. Она с чувством обиды видела, что московское с этим нельзя сравнивать, и радовалась, когда вдруг находила что-либо такое, что в Москве было лучше. Так, парижская подземная дорога не была облицована мрамором, и это было очень приятно; но было бы еще много приятнее, если б в Париже вообще не оказалось подземной дороги. «А что у них она в десять раз длиннее, то ведь социалистическое строительство началось всего так недавно, – думала она и, встречаясь с Тамариным, неизменно с задором (хоть он нисколько не спорил) говорила: – Да, да, очень много интересного, но у нас гораздо лучше, гораздо!» – «Многое, конечно», – поспешно соглашался Тамарин. «Не многое, а решительно все».
В России все было гораздо лучше потому, что там была своя жизнь: хоть гадко, но весело. В Москве в Надежду Ивановну влюблялись четыре раза серьезно и семь раз так. Молодые люди приставали к ней с бескорыстным нахальством мухи: знает, что тотчас сгонят, если сядет на нос, и все-таки лезет. Сама Надя была тоже влюблена два раза – не то чтобы уж очень, но влюблена. «Если б хотела выйти замуж, то в два счета: Сашке Павловскому достаточно было бы мигнуть – он сошел бы с ума от радости». Здесь никто, кроме старичков («положительно, это трагедия!»), не сходил с ума от любви к Надежде Ивановне. Сослуживцы, точно назло, оказались людьми неприятными или уж очень безобразными, как Эдуард Степанович. Надежда Ивановна, вслед за другими женщинами, нерешительно говорила, что для мужчины красота никакого значения не имеет; в действительности ей нравились только красивые мужчины, но она это тщательно скрывала, как черту постыдную и ненормальную. Все же Эдуард Степанович явно злоупотреблял мужским правом быть некрасивым. С «европейцами» же Надежда Ивановна не познакомилась, и тайные надежды ее не сбылись: европейцы у ее ног не толпились. «Нет, они тут прозябают, задыхаются в своем богатстве, а у нас строится новая жизнь…» Она горько сожалела, что добивалась и добилась продолжительной командировки за границу: дни текли нерадостно, ей казалось, что она дурнеет, одну ночь она проплакала без всякой видимой причины: жизнь уходит, без людей везде тоска. Она и от самой себя скрывала, что ей очень скучно в этом прославленном Париже.
Тамарин заходил за Надеждой Ивановной в семь часов. Они вместе обедали, затем отправлялись в театр, в кинематограф или в кофейню. Разговоры командарма были скучноваты, но уютно-скучноваты; можно было вдобавок не очень слушать: если она отвечала невпопад, он, в отличие от Кангарова, требовавшего к своим речам напряженного внимания, не обижался – даже тогда, когда она в середине его рассказа внезапно вставляла соображения о том, настоящий ли котик у дамы за соседним столом. Между тем и в кофейню, и в театр удобнее было ходить в обществе мужчины, притом столь осанистого, воспитанного старого человека. Наденька думала, что их все принимают за отца и дочь. Это ее забавляло; она невольно и обращаться стала с Тамариным почти так, как с отцом. Вот только платила она всегда за себя сама. Это правило Надежда Ивановна установила с первого же их посещения кофейни – Тамарин тогда даже вспыхнул: «Что вы, как вам не совестно?» Но Надя настояла на своем: так было удобнее, да и денег, она догадывалась, у командарма было не очень много. Со второго дня они сговорились «раз навсегда»: везде платил Тамарин, а Надежда Ивановна затем ему отдавала свою часть, причем, принимая деньги, он всегда конфузился и старался произвести расчет так, чтобы на ее долю выходило меньше. «Нет, еще по крайней мере франк, вы «начая» не считаете, Константин Александрович». – «Какой пустяк! Неужели вам не стыдно?» – «Нисколько не стыдно».
Вначале Тамарин по восемнадцатилетней привычке разговаривал с Надеждой Ивановной сдержанно и осторожно, как со всеми. Потом стал несколько откровеннее, особенно когда узнал, что Надя – дочь профессора, что у них было небольшое имение и что ее отец был дворянин (она как-то вскользь шутливо об этом упомянула). Все это решительно ни в чем никакой гарантии не давало. Но общее впечатление Тамарина от Наденьки было таково, что понемногу он стал смелее: прежде упоминал о начальстве не иначе как с достойно серьезным видом, потом – с легкой улыбкой, которую можно было понимать разно, а еще позднее заговорил почти откровенно: ясно почувствовал, что эта не донесет. Стал рассказывать ей и о прошлом, о своей прежней жизни, о своих родителях. Надя слушала без особого интереса, но не без любопытства: приблизительно так, как могла бы читать «Домострой» или летопись Нестора.
Когда Кангаров вернулся, Надежда Ивановна с преувеличенным жаром ему сообщила, что командарм о ней заботился прямо как родной: «Удивительно милый старик, удивительно!» В знак признательности Кангаров пригласил Тамарина на свой обед. «Да, он очень достойный человек и прекрасный беспартийный спец…»
XIII
Тамарин тоже был доволен Надеждой Ивановной. До ее приезда ему случалось проводить по нескольку дней подряд, не разговаривая ни с кем, кроме лакеев и лавочников. Это, впрочем, его почти не тяготило. Много лет он не чувствовал себя так хорошо, как теперь в Париже: ежедневно благословлял бога за то, что досталась командировка, и с ужасом думал, что, быть может, скоро придется вернуться в Москву. При всей своей честности и служебной добросовестности он, сам почти того не замечая, немного затягивал работу, для которой был командирован.
Вставал он в шесть часов утра и часа полтора работал дома натощак – чай готовить по его системе было тут невозможно, да во Франции надо пить кофе. Обычно он завтракал в кофейне, отчасти из экономии – в гостинице дороже, – отчасти потому, что утренняя прогулка по Парижу доставляла ему большое удовольствие. В восьмом часу выходил из дому и направлялся в боковую улицу, к писчебумажной лавке. Газеты можно было купить и ближе, но писчебумажная лавка казалась ему более надежной: кроме французской газеты, он покупал русскую, эмигрантскую, и это удобнее было делать внутри лавки, чем в киоске на улице. Клал газеты в карман так, что видна была только французская, и отправлялся в кофейню, всегда одну и ту же. Там его уже знали в лицо. Гарсон, особенно приветливый в этой кофейне, после радостно-певучего «Bonjour, Monsieur», не спрашивая заказа, приносил ему кофе и корзинку с круассанами и сам уже знал, сколько надо налить кофе, сколько молока. При этом обычно говорил: «Fait beau aujourd’hui, hein?»[78] – или что-нибудь такое. Никто здесь не знал ни его имени, ни национальности, ни положения, и Тамарин понимал, что если он скоропостижно умрет в кофейне, то и приветливая хозяйка, и приветливый гарсон нисколько не огорчатся – разве только пожалеют, что стало одним клиентом меньше. Но в самых формах этих, в радостных улыбках, в «Fait beau aujourd’hui» была человеческая приветливость, от которой он совершенно отвык в Москве. Люди здесь были равнодушны, но не отравляли друг другу жизни, не доносили, не служили секретными сотрудниками полиции.
В кофейне он оставался с полчаса и всегда удивлял гарсона тем, как, читая, развертывал газету: на столе видна была только небольшая часть газетного листа, а уж заглавия никто прочесть не мог бы. Неприятностей с ним никогда не было, знакомых он в кофейне ни разу не встречал, шпионов тут ждать не приходилось, но так поступать было благоразумнее. Русскую газету он читал с удовольствием, это стало привычкой, от которой, он знал, в Москве будет отучиться нелегко. Буква ять и твердый знак вначале его поразили: он и умилялся – пахнуло старой жизнью, – и рассердился: «Какая оторванность у этих людей!..» Собственно, из того, что в газете писалось о России, три четверти было правдой; командарм Тамарин от себя мог бы еще немало прибавить такого, чего люди, писавшие в эмигрантских газетах, не знали и знать не могли. И все-таки чтение его раздражало: «Нет, эти люди многого не понимают, то, да не то, чего-то эдакого им не хватает, – говорил он себе, хоть едва ли мог бы объяснить, чего именно не хватало этим людям. – Эдакая оторванность, эмигрантщина, да. Все же читать интереснее, чем то, что пишут у нас…» Но он сам не вполне был уверен, где для него, собственно, «у нас», и, бодрясь, только говорил мысленно: «Да, односторонни, узки… Нельзя же все эдак-то…»
Напившись кофе, Тамарин оставлял деньги на столике (в первые дни его изумляло, что это можно делать спокойно: никто денег не стащит), гулял по улицам левого берега или по Люксембургскому саду, затем, когда было совершенно необходимо, отправлялся по служебным делам, – большую часть своей работы делал дома. В двенадцатом часу обычно возвращался в гостиницу; он жил все в той же гостинице, в которую попал в день приезда в Париж. Его комнату убирали рано; вернувшись, он тотчас вновь садился за пишущую машину. Завтракал очень легко в своем номере – кусок ветчины, сухарь, незачем полнеть. В пять часов, закончив трудовой день, снова гулял, с удовольствием чувствуя нарастание аппетита. Обедал плотно то в одном, то в другом ресторане из не очень дорогих и всегда выпивал полбутылки хорошего бордоского вина: эту роскошь (да еще покупку книг по военным вопросам) Тамарин себе разрешал: «В Москве такого вина не найдешь, а за кислятину платить раз в десять дороже». Нередко отправлялся в кинематограф или в какой-либо легкий, немудреный театр – «без претензий, мило и весело, как умеют французы».
Чаще, впрочем, он сидел по вечерам дома. С полчаса решал крестословицы, тоже из эмигрантских изданий: французские решать было очень трудно, хоть он недурно знал французский язык. Иногда раскладывал пасьянс – обычно загадывал, долго ли продлится командировка. В винт играть было не с кем; это составляло немалое лишение. Иногда вместо пасьянса Тамарин читал книги, и не только Клаузевица. Решил перечитать в Париже классиков, купил украдкой – в эмигрантском магазине – шеститомное эмигрантское издание Пушкина. «Что ж, Пушкина где угодно можно купить… Эк, однако, скверно издали!» – подумал он, тоже с некоторой радостью, как Надежда Ивановна. Многое очень ему понравилось, особенно «Дубровский» и «Повести Белкина», но и то, чем он в душе не слишком восторгался, Тамарин читал с удовлетворением, вспоминая, как впервые это прочел полвека тому назад – «да, может, с тех пор и не читал. В этом-то главная прелесть классиков… Не говоря, конечно, об их достоинствах…».
Случалось, за книгой он думал о другом, о своих делах. Если бы твердо знать, что командировка затянется надолго, можно было бы снять комнату с кухней и ванной, купить радиоаппарат и новую пишущую машину. Прожить бы так в Париже остаток дней, спокойно, занимаясь полезным для русской армии трудом, не делая низостей, не подписывая гнусных телеграмм, никому почти не угождая (чуть-чуть угождать, впрочем, иногда приходилось и здесь). Только перед самой смертью, так, недели за две, когда уже нечего опасаться, вернуться бы домой, чтобы умереть в Петербурге, где родился. И как раз тогда, когда он об этом думал, Тамарин с сильным, ему самому непонятным волнением прочел у Пушкина: «Он сказал мне: «Будь покоен, – Скоро, скоро удостоен – Будешь Царствия Небес, – Скоро странствию земному – Твоему придет конец. – Уж готовит ангел смерти – Для тебя святой венец…»
Просьба Кангарова «взять под свое покровительство» молоденькую секретаршу вначале была не слишком приятна Тамарину: он свыкся со своей парижской жизнью, ничего в ней менять не хотелось. Но девочка оказалась очень милой и скоро внушила ему ласковые, почти нежные чувства, смешанные с жалостью: «Они ведь все настоящей жизни и не видели, от рождения обижены Богом. А умненькая и способная».
В день своего обеда Кангаров, который должен был до того побывать «у французов», просил Тамарина заехать за Надей и привезти ее в ресторан. «Ей, бедняжке, одной боязно. Пожалуйста, Ваше Превосходительство, возьмите автомобиль за мой счет». – «С удовольствием привезу Надежду Ивановну», – ответил, покраснев, Тамарин.
Заехал он за Надеждой Ивановной во фраке, что было уж слишком парадно для обеда в ресторане. После того как бюджет Тамарина в Париже определился окончательно, он подсчитал, что может истратить на гардероб до трех тысяч франков; заказал себе хороший костюм, демисезонное пальто, которое по своей демисезонности могло во Франции годиться на все времена года, и фрак. На визитку и смокинг денег не хватало. Сознание того, что он теперь хорошо или, по крайней мере, прилично одет, доставило Тамарину немалое удовлетворение. До войны он в России из штатского платья носил только охотничий костюм; но имел пиджаки и фрак для поездок за границу и с улыбкой вспоминал, как по привычке по дороге на вокзал прикладывал руку к отсутствующему козырьку. После революции он приобрел привычку к штатскому платью, однако своего фрака ни разу в Москве не надевал, да едва ли и мог бы надеть; называл его допотопным и думал, что это слово тут почти верно даже в буквальном смысле. Перед отъездом он колебался, взять ли фрак с собой, попробовал надеть и только вздохнул: борты не сходились, застегнуть было бы невозможно. Ему вспомнилась и поразила бессмысленностью слов песенка: «Мой старый фрак, не покидай меня». Старый фрак был в Москве продан. Новый, сшитый в Париже – «второй в жизни и последний», – он впервые надел для кангаровского обеда. Опасаясь, как бы чего не напутать после двадцати пяти лет, он за два дня до того нарочно пошел в оперу и присмотрелся, как у людей, затем купил все новое: рубашку, запонки, галстук. Оказалось, что галстуки теперь носили другие, какие-то сложные, каких в его время не было: несмотря на снисходительные объяснения приказчика, он и завязал этот нового типа галстук лишь с большим трудом. Когда туалет был закончен, Тамарин перед зеркалом пошатывавшегося шкафа с некоторым чувством жалости к самому себе улыбнулся своему удовлетворению: «точно юноша» – так он почти полвека тому назад любовался собой, впервые надев великолепный гвардейский мундир.
В новеньком фраке он был, хоть по-старчески, чрезвычайно представителен и осанист. «Господи, как вы ослепительны, Константин Александрович! – сказала Надежда Ивановна. – Ужасно вам идет, уж-жа-асно! Прямо восторг!» Он смущенно улыбался. «Я что? А вот вы, да!» Наденька тоже была хорошо одета или, по крайней мере, так ему показалось. Он не знал, сколько беспокойства и волнения у нее из-за этого было: ей-то и справиться было не у кого. Кангаров только сказал: «Ты у меня, детка, приоденься, ну там всякие фигли-мигли, что полагается, помни, что это первый ресторан в Париже, то есть в мире. И Вермандуа будет, – небрежно добавил полпред, – знаешь, знаменитый писатель: чуть что не так, он сейчас же заметит, высмеет, да еще в романе тебя изобразит». Надежда Ивановна сделала наивно-испуганное лицо. Ее беседы с Кангаровым в последнее время сводились главным образом к несложной мимике. Она сама думала, что эта мимика стала в конце концов просто глупой. «Но зато очень удобно».
В этот день Надежда Ивановна после долгих и мучительных колебаний выщипала себе брови; ей было очень совестно, вдобавок она не знала, как к этому отнесутся. К некоторой ее досаде, Тамарин совершенно не заметил новшества: был очень смущен, когда она, не вытерпев, сама ему об этом сообщила. «Нет, я нисколько не сержусь, – смеясь, говорила Надя в ответ на его сконфуженные слова, – до того ли вам, Константин Александрович…» – «Правда, не сердитесь? Но, милая, зачем же вы это сделали? У вас были очаровательные брови». – «Да, да, так я вам теперь и поверю, что вы помните, какая я вообще. Но я еще и другое безумие сделала! Меня надо связать». – «Что такое?» – «Да вот купила… – она вынула из сумки эмалевую коробочку. – Vanity case». «Что?» – «Vanity case – так это называется». Тамарин смеялся: «Вот так всегда: какой-нибудь остряк выдумает странное выражение, а затем оно приобретает право гражданства, и странности больше никто не замечает. Так было и с «адской машиной». Сто лет тому назад…» «Адская машина» не интересовала Надежду Ивановну.
По непривычке к передвижению в автомобилях, не рассчитав расстояния и времени, они подъехали к ресторану за полчаса до обеда. Человек в ливрее бросился им навстречу. Надежда Ивановна вышла, волнуясь. Тамарин взглянул на часы и предложил зайти в кофейню рядом, а то ждать долго в кабинете будет неловко. Надя тотчас согласилась; отсрочка была ей приятна: она очень робела.
В кофейне они, как всегда, беседовали мило и нехитро. Командарм рассказывал о своей работе (она в этот день шла особенно удачно) и привел цитату из Клаузевица. Надежда Ивановна, не слушая, поддакивала, изредка вставляя: «Неужели? Как интересно!» – и наудачу широко раскрывала глаза. Ее внимание занимал один красивый человек, сидевший рядом с ними. На вид ему было лет двадцать восемь или тридцать, но Надежде Ивановне почему-то казалось, что он старше. «Француз? Нет, не француз. Скорее англичанин…» Ей не приходило в голову, что это может быть русский. Он тоже на нее посмотрел и, встретившись с ней взглядом, углубился в вечернюю газету; однако еще раза два от газеты отрывался и бросал беглый взгляд в ее сторону. Минут через десять он взглянул на часы, явно нехотя встал, положил деньги на подставку бокала. В проходе между столиками он нечаянно задел локтем Тамарина и сказал по-русски: «Виноват, извините, пожалуйста». Командарм от неожиданности вздрогнул, Надя тоже почему-то испугалась. Молодой человек у двери снова на нее оглянулся. «Кажется, мы ничего эдакого не говорили?» – с улыбкой не без смущения спросил Тамарин. «Конечно, нет. Вы думаете, это белогвардеец?» – «Уж во всяком случае, не советский, – смеясь, сказал командарм, – и одет не так, и что-то у них есть такое-эдакое…» – «Терпеть их не могу», – заявила Надежда Ивановна. «Да, у них у всех сказывается, знаете, оторванность… Оторванность… – поспешил заметить Тамарин. – Я, впрочем, никого из них не знаю».
XIV
Хозяин карусели зазывал публику. Дети, волнуясь, размещались на лошадках, свиньях, барашках с высунутыми языками. Матери и няньки давали последние наставления: не высовываться, держаться за шесты. Мальчик с решительным видом сел в лодочку воздушного шара. Крошечная девочка, сестра, с ужасом на него смотрела. Заиграла неизвестно откуда шедшая музыка, карусель завертелась. Дети, проносясь мимо Вислиценуса, хмуро-решительно держали поводья и рули. Два ездока рядом скакали на барашках: один взлетал, когда опускался другой. Карусель, дойдя до отпущенной ей предельной скорости – везде стоял крик и визг, – стала замедлять ход. Музыка замолчала. Карусель остановилась. Визг прекратился. Дети, кто с гордостью, кто с огорчением на лице, сходили с барашков, свиней, автомобилей. Перед Вислиценусом были облезшие черные звери.
XV
Обед Кангарова устроился случайно. Людям, которые могли обедом интересоваться, он говорил, что должен оказать любезность одному международному финансисту: «с волками жить – по-волчьи выть» (эту фразу ему приходилось повторять в последнее время весьма часто). Финансист-волк вел переговоры об очень большой сделке, Кангаров к ним прямого отношения не имел, но его из другого ведомства просили помочь; именно для этого дела он и приехал в Париж. За границей большие дела начинались, обсуждались и решались в дорогих ресторанах. Финансист кормил Кангарова в Париже и в Амстердаме, теперь надо было ответить обедом в его честь. В доме финансиста посол познакомился с Вермандуа и тотчас его пригласил, взяв внезапностью натиска. Нельзя было не позвать знаменитого адвоката Серизье, который принял на себя труд юридического оформления дела. Заодно была приглашена одна очень знатная графская чета. Хуже были остальные гости. Надежду Ивановну Кангаров позвал потому, что хотел побаловать детку, «и все-таки неловко, чтобы та дура была единственной дамой», – пояснил он сам себе, разумея графиню. Тамарина следовало отблагодарить за внимание к Наденьке; командарм, человек осанистый, хорошо говоривший по-французски, вдобавок бывший царский генерал, явно не мог ничего испортить. Что до доктора Зигфрида Майера, то он чуть не сам назвался на обед, также использовав прием внезапной атаки. С этим человеком, прежде в Германии влиятельным и важным, Кангаров в свое время поддерживал самые добрые отношения, часто с ним встречался на разных конференциях, бывал у него в доме. Теперь Зигфрид Майер оказался в эмиграции и, по-видимому, нуждался. Отказать ему в просьбе Кангаров не считал достойным – «нельзя быть свиньей», – доктор Майер к тому же ссылался и на дело: ему чрезвычайно нужно было познакомиться с Вислиценусом, о приезде которого в Париж ему стало известно.



