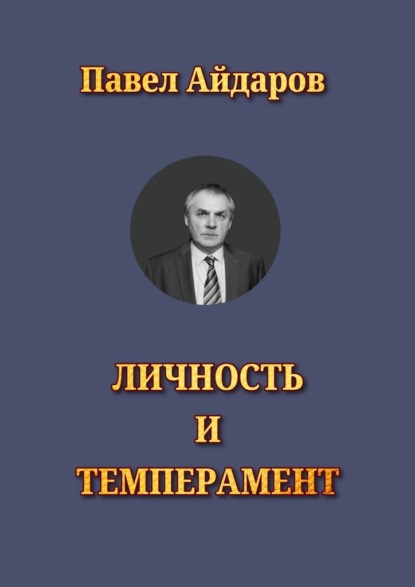
Полная версия:
Личность и темперамент. Теория психологических типов
Ситуация, когда исследователь лишь думает, что у него всё «выведено из опыта» для науки типична, и желаемое здесь просто выдаётся за действительное: желая соответствовать общепринятым методологическим стандартам, отвергающим любое умозрение, исследователь и не замечает последнего в своей собственной работе.
В этом смысле можно ещё привести в пример В. Бехтерева. На словах он полностью разделяет положение о необходимости поиска связи между явлениями и одновременном отказе от поиска сущностей. Завершая обзор имевших место воззрений на соотношение физического и психического, он пишет:
«Ошибка всех вышеуказанных воззрений состоит именно в том, что ими отыскивалась умозрительным путём сущность вещей, между тем как истинное знание ничуть не заключается в отыскании сущности вещей, а в разъяснении соотношений между теми и другими явлениями» [13, с. 25].
Это на словах. А на деле? В ходе своих рассуждений о природе психического он приходит к мысли, что наиболее верный путь на этом направлении – это понимание психики как энергии. Например, он говорит, что «психика с её сознанием есть выражение особого напряжения энергии» [там же, c. 304]. Но разве энергия – это не сущность, стоящая за миром явлений? Это и есть таковая, что сам Бехтерев, по сути, подтверждает:
«На наш взгляд, мы не имеем оснований утверждать, что энергия, как деятельное начало, по своей сущности или по природе представляет собой явление исключительно физическое, так как принимаемое нами движение частиц материи, которым выражается действие энергии и которое мы часто совершенно ошибочно отождествляем с самой энергией, есть лишь прямое выражение энергии, а не её сущность. В природе же энергии т.е. не в её проявлении, а в её сущности, мы не можем открыть при посредстве нашего анализа чего-либо исключительно материального» [там же, с. 305—306].
Таким образом, Бехтерев, пытаясь объяснить психическое, не только приходит к необходимости разделения реальности на сущность и явление, но и утверждает нематериальный, т.е. метафизический характер этой сущности, хотя в самом начале своей работы этот самый подход и называл ошибочным.
Но неправильным будет сказать, что среди самих психологов существует полная поддержка «научного» пути психологии. Приведём два примера. Первый касается ещё этапа становления научной психологии. У. Джеймс в своей книге «Психология», в главе, посвящённой эмоциям, после хвалебных слов о выражении чувствований в романах и литературно-философских произведениях пишет:
«Что касается „научной психологии“ чувствований, то, должно быть, я испортил себе вкус, знакомясь в слишком большом количестве с классическими произведениями на эту тему… В них нет никакого плодотворного руководящего начала, никакой основной точки зрения. Эмоции различаются и оттеняются в них до бесконечности, но вы не найдёте в этих работах никаких логических обобщений. А между тем вся прелесть истинно научного труда заключается в постоянном углублении логического анализа. Неужели при анализе невозможно подняться над уровнем конкретных описаний?» [25, с. 237].
Джеймс ещё не знает, что глубокий логический анализ будет объявлен «ненаучным» методом. Разочарование же, его постигшее, можно характеризовать просто как встречу с отсутствием мысли. Когда читаешь глубокомысленный текст, то сам испытываешь напряжение мысли. При знакомстве с текстами «научной» психологии напряжения мысли нет вообще, ибо там нет и самой мысли. Всё погрязло в бездумном экспериментировании… То, что при эксперименте не требуется значительных умственных усилий, отмечал и Максвелл, говоря, что «мы можем, пожалуй, утомить глаза и спины, но мы не очень утомляем наши умы» [40, с. 35]. А далее, говорит он, должна последовать как раз умственная работа, направленная на сближение теории и практики, но именно это в научной психологии практически всецело отсутствует. Экспериментальная психология оказалось очень удобной для тех, кто желает получать результаты, не прикладывая умственных усилий. Если посмотреть на сегодняшние исследования, то они, как правило, ограничиваются констатацией выявленной корреляции между двумя явлениями. То, что при сведении реальности к миру явлений, эта корреляция лишь показывает пересечение понятий, мы уже говорили. Но если изменить представления о реальности? Допустим, исследователь считает, что глубинная реальность всё же существует. Могут ли ему как-то помочь корреляционные исследования? Лишь в том случае, если в качестве причины наличия корреляции между явлениями рассматривать их принадлежность к одной и той же сущности. Но эту сущность нужно ещё вскрыть, а делается это путём размышлений. И вот здесь научная психология говорит: «Стоп! Дальше нельзя… Уйдём в теоретизирование…»
Вместе с тем наряду с корреляционными исследованиями, которые даже не совсем правильно называть экспериментальными13, в психологии существуют и другие типы экспериментальных исследований. И в отсутствии теоретического осмысления они превращаются просто в статистику. Скажем, экспериментах В. Барабанщикова [7] испытуемым предъявляют различные фотографии (в которых может быть изменено соотношение частей лица) и просят высказаться, какую именно они видят эмоцию. Данные обобщаются, и на этом всё заканчивается. Но нужно идти дальше и путём размышления выяснять, почему те или иные экспрессии лица вызывают представление о наличии у их обладателя той или иной эмоции. Однако всё останавливается на стадии фиксации статистических данных.
Мысль из научной психологии изгнана. Здесь не нужны мыслители. Идеал методологии научной психологии – чтобы каждый, независимо от уровня его интеллектуального развития, мог получать научные результаты, пользуясь чисто внешней объективированной схемой. От исследователя требуется не интеллект, а организаторские способности, позволяющие найти испытуемых и организовать экспериментальное исследование. Обработка же данных таких исследований, как правило, чисто статистическая. Но чего исследователь не должен себе позволять, так это погружаться в глубокое размышление. Одновременно и ссылки на аналогию с естествознанием звучат без какого-либо серьёзного осмысления. Мы уже приводили массу примеров того, что в классической физике методологически всё обстоит совсем не так, как утверждает научная психология. Но последняя никогда даже и не пыталась осмыслить, что там происходило на самом деле. Она попросту повторяет ту методологическую мифологию, которая распространена среди самих представителей естествознания.
Ссылкой на аналогию с естествознанием пытаются оправдать в научной психологии и даже то, что уже с первого взгляда кажется абсурдным. Например, К. Левин тем, что новая физика отказалась от аристотелевского разделения небесной и земной сфер как высшей и низшей, обосновывает в психологии отказ от ценностных характеристик. Это выражается в том, что из психологии должна исчезнуть грань между патологией и нормой, человеком и животным, ребёнком и взрослым [36]. И когда в укор психологам-экспериментаторам говорят: «Вы провели опыты на крысах, но почему переносите выводы на психологию человека?», то ответ получается: «Потому что галилеевская физика, в отличие от аристотелевской, перестала считать небесную сферу высшей». Похоже на анекдот, но это всерьёз существует…
Отказ от разделения «высшего» и «низшего» был подвергнут серьёзной критике в работах Л. С. Выготского, разрабатывавшего понятие высших психических функций. Естественнонаучная психология, ориентируясь на отказ от разделения высшего и низшего, была всегда занята исключительно изучением природного (низшего), а когда изучала культурное (высшее), то редуцировала его до явлений природы. Выготский указывает на ошибочность такого взгляда, который заключается «в смешении и неразличении природного и культурного, естественного и исторического, биологического и социального…, короче – в неправильном принципиальном понимании природы изучаемых явлений» [15, c. 513]. Понятие «природа» указывает на изначальную данность. Природе же мы противопоставляем культуру, которая именуется «второй природой», и обозначает то, что создано человеком, а не дано изначально. Обозначать же личность как природу – значит утверждать её как изначальную данность, а тем самым отождествлять «личность» и «индивида», в таком случае понятие «личность» уже теряет свой смысл.
Взгляд на личность как на нечто высшее по сравнению с индивидом одновременно трактует личность как то, что должно быть, индивид же – это то, что есть изначально. Однако эмпирическая наука о том, что должно быть невозможна, наука (в классическом понимании) изучает только то, что есть, т. е. наличествующее. Как отмечает А. А. Пископпель [48, с. 66], личность стала выводиться из сферы долженствования в сферу естественного существования ещё в эпоху Возрождения, и именно такой взгляд на личность занял ведущее место в научном мировоззрении. Понятие «личность» всё больше означает просто социализированного индивида:
«…оно помещается в ряд созначных понятий, раскрывающих „понятие о человеке“, таких как организм, индивид, индивидуальность и т. д. Здесь понятие человека выражает общеродовые черты единичного представителя рода, принадлежащего одновременно и природе и человеческому обществу. Причём, принадлежность природе выражается понятием „организма“ (совокупность биологических свойств человека), а к обществу – „личности“ (совокупность социальных, конкретно-исторических свойств и черт). Иногда, наряду с исходной оппозицией используется и понятие „индивидуальности“, назначение которого – компенсировать недостатки процедуры отождествления понятий личности и социального индивида, для которой все личности на одно „социальное“ лицо. В таком истолковании личность – чрезвычайно массовидное явление, ибо только в этом качестве она и может быть объектом эмпирического научного знания. <…> Характерно, что на подобном содержании понятия личности чаще всего настаивают психологи…» [там же].
Если личность есть просто социализированный индивид, то каждый представитель общества есть личность. Но даже обыденный язык фиксирует, что не всех можно назвать личностями, зачастую говорят: «Это личность!» – в смысле «настоящая личность». А это уже разделение на высшее и низшее. Далеко не каждого социализированного индивида можно назвать личностью, однако это не вписывается в рамки парадигмы «научного» метода. И дело не только в разделении высшего и низшего. Ведь если личность рассматривать как нечто выделяющееся из толпы, то это будет означать, что такой человек реагирует на воздействия вовсе не так, как большинство, а значит, вся «объективность» массового применения научного метода рушится. Впрочем, она рушится уже на этапе признания индивидуальности…
Эмпирическая психология заслужила называться «научной» вовсе не за полученные результаты, это было сделано авансом: дескать, единственно правильный «научный» метод найден естествознанием, а эффективность его применения в психологии должна последовать сама собой. Но всё это было ещё на рубеже XIX—XX веков. Прошло уже полтора века с момента объявления существования «научной» психологии. И каковы результаты? Мы не видим вообще никаких результатов. А сами представители академической психологии как эти результаты оценивают? Вот как в своё время подводил итоги более чем векового существования экспериментальной психологии один из виднейших советских психологов П. Я. Гальперин:
«Если учесть размах и распространение психологических исследований, те огромные усилия, которые в этой области повсеместно прилагаются, учесть общее время применения эксперимента в психологии, которое теперь исчисляется более чем столетием, и сопоставить всё это с достигнутыми результатами, то последние окажутся несоразмерно малыми и, что, пожалуй, ещё более странно, поразительно разрозненными. А сколько было иллюзий, больших надежд и глубоких разочарований в возможностях различных экспериментальных – да, не умозрительных, а экспериментальных! – направлений в психологии! Относительно небольшое число и как бы случайный характер важнейших результатов, столь частые взлёты и падения теоретических конструкций – всё это в конце концов и заставляет поставить вопрос: а не направлены ли усилия многих и несомненно выдающихся исследователей по ложному пути?» [19, с. 29]
Разрозненность результатов экспериментальных исследований Гальперин называет «поразительной». Но что же здесь поразительного, да и вообще удивительного? Когда реальностью объявляется только мир явлений, то в отношении него не может быть и другого результата, ибо мир явлений сам по себе непостоянен и противоречив. Снимаются же противоречия между разрозненными эмпирическими результатами лишь в ходе теоретического размышления, т.е. умозрительно, а этот путь научной психологией отвергается. Да и как он может не отвергаться, когда весь пафос «научности» психологии как раз и основан на отказе от умозрения! В результате этого она превратилась в груду запутанной, противоречивой и неосмысленной информации, разобраться в которой просто невозможно, да и она сама в этом вовсе не желает разбираться и наводить порядок… А вот развёрнутых, глубоких теорий в «научной» психологии, по сути, вообще нет.
Академическая психология превозносит опыт. Чего она ждёт от него? Конечно же, открытия закономерностей, точных и не подлежащих сомнению законов. Но это в принципе невозможно. Любые закономерности мы открываем лишь путём размышлений, и в этом смысле они априорны, что было чётко обозначено Кантом:
«…опыт никогда не даёт своим суждениям истинной или строгой всеобщности, он сообщает им только предполагаемую и сравнительную всеобщность (посредством индукции) … Следовательно, если какое-либо суждение мыслится с характером всеобщности, т.е. так, что не допускается возможность никакого исключения, то такое суждение не выведено из опыта, а имеет силу абсолютно a priori» [31, с. 54].
Однако сама «научная» психология даже гордится тем, что избегает любой априорности, научным объявляется только то, что получено апостериорным путём. А то, что на этом пути невозможно открытие ничего устойчивого, т.е. никаких закономерностей, это не замечается и не признаётся. Но полтора века существования эмпирической психологии сами по себе красноречиво это подтверждают…
Тем не менее академическая наука всё равно не может избавиться от метафизических сущностей в объяснении человеческой психики, хотя это порой и не осознаёт. Даже экспериментальный опыт приводит к признанию их существования. Можно привести в пример эксперименты Е. А. Юматова, на основании которых он стал утверждать существование «психогенного поля», отражающего субъективное (положительное или отрицательное) отношение человека к другим субъектам. Простейшие механические Г-образные индикаторы, находясь в руках испытуемых, оказались способны это состояние фиксировать. Эксперименты проведены столь тщательно, что полностью исключается физическое влияние испытуемого на положение индикатора. При этом Юматов подчёркивает свою приверженность «объективным» методам, отмечая, что «субъективные состояния можно зарегистрировать только с помощью научных методов оценки субъективного» [66, с. 64]. Но что здесь объективно? Только скрещивание стрелок индикатора в руках испытуемого при положительном или отрицательном отношении к субъекту. А всё остальное – уже интерпретация этих данных, являющаяся субъективной (по форме). Такая интерпретация может быть разной, но в любом случае без погружения в область метафизического не обойтись. И утверждаемое Юматовым «психогенное поле» есть метафизический объект, хотя он сам, похоже, этого не замечает. А потому эксперименты Г. Юматова, несмотря на свою тщательность и сенсационность14, всё равно не будут признаны современным научным сообществом15 – просто потому, что их результаты противоречат общепринятой парадигме, отрицающей любую метафизичность.
Между тем многие бессмысленные эксперименты, притом с массой пробелов, принимаются научным сообществом очень легко – просто потому, что соответствуют парадигме. Принимаются и тут же забываются – видимо, сами представители научной психологии где-то в глубине души понимают, что никакой ценности эти эксперименты на самом деле не имеют. Суть таких экспериментов, скорее, не в поиске истине, а в том, чтобы просто отдать дань «объективным» методам: экспериментатор демонстрирует свою приверженность парадигме, за это его хлопаю по плечу, а то, что он там «установил», никого всерьёз не интересует…
Итак, в основание психологии может закладываться один из трёх подходов: метафизический – пытающийся объяснить психические явления путём обращения к воображаемой нематериальной сфере, стоящей за миром явлений; психофизиологический – объясняющий психические явления физиологическими процессами, и феноменалистский16 – ограничивающийся лишь самим миром психических явлений, которые влияют одно на другое. «Научным» считается последний подход, но на практике именно он оказался самым бесплодным.
1.3. Детерминизм и экспериментальное воздействие
Советская психология, противопоставляя себя западной, очень многое из неё не принимала и критиковала. Лишь с распадом СССР был утерян критический взгляд, и западные нововведения в психологии хлынули в Россию огромной лавиной, принимаясь большей частью без какого-либо осмысления. Критиковались советскими психологами и некоторые основы, на которых базировалась западная психология, именующая себя «научной». Одним из таких критиков был Д. Н. Узнадзе, выступавший против так называемого постулата непосредственности (или гипотезы непосредственности) – догматической предпосылки, лежащей в основе всей западной психологии. Узнадзе подчеркивает, что данная предпосылка догматически воспринята, не осознанна и служит источником множества псевдопроблем. Описывает же он её следующим образом:
«…психические и моторные процессы находятся в непосредственной причинной связи между собой и окружающей действительностью. По этой гипотезе непосредственности получается, что поведение осуществляется помимо существенного соучастия субъекта, личности как конкретной целостности, что оно представляет собой взаимодействие с действительностью отдельных психических и моторных процессов… Что же касается самого субъекта как конкретной целостности, устанавливающей для достижения своих целей это взаимоотношение со средой, – субъекта с его потребностями, – то при анализе поведения с точки зрения гипотезы непосредственности он полностью исключается из поля зрения как абсолютно лишний <…> субъект вовсе изъят из понятия поведения, в котором оставлены только два… находящихся во взаимосвязи момента – процессы (психические и моторные) и их возбудители. Короче говоря, поведение – это стимул плюс реакция» [55, с. 256].
Здесь, по сути, затрагивается онтологическая неопределённость, возникающая в результате сведения психической реальности к миру явлений, о которой мы уже говорили, – психические процессы причудливо существуют и взаимодействуют между собой сами по себе, без их носителя. Субъекта, которому принадлежат эти процессы, как бы не существует, ибо признание его существования – это признание сущности, стоящей за миром явлений. И именно отрицание её существования позволяет реализовывать схему стимул – реакция.
Опосредующим звеном, стоящим между стимулом и реакцией, согласно Узнадзе, является установка, свойственная как человеку, так и животным, но имеющая у человека больший запас благодаря способности речевого мышления.
Критику «постулата непосредственности», начатую Д. Н. Узнадзе, поддерживал А. Н. Леонтьев, выделявший в психологии два типа анализа, по линии которых она разделена на большие конкурирующие течения: с одной стороны естественнонаучная психология (или бихевиоральная), а с другой – психология как наука о духе (или «менталистская»). В основе первой лежит следующая схема: «воздействие на рецепирующие системы субъекта → возникающие ответные – объективные и субъективные – явления, вызываемые данным воздействием» [37, с. 60]. Данная схема появилась в физиологической психологии XIX века, а позже в бихевиоризме трансформировалась в известную формулу S→R (стимул – реакция), которая и скрывает за собой постулат непосредственности [там же, с. 61]. С точки зрения А. Н. Леонтьева данная формула себя оправдывает «лишь в узких границах лабораторного эксперимента, имеющего своей целью выявить элементарные психофизиологические механизмы» [там же].
Постулат непосредственности, как видим, связывается со схемой «стимул – реакция». Хоть и принято считать, что применение данной схемы является прерогативой бихевиоризма, однако, как отмечал Л. С. Выготский, на самом деле она лежит в самой основе экспериментального метода:
«Все психологические методы, применяемые в настоящее время в экспериментальном исследовании, несмотря на огромное разнообразие, построены по одному принципу, по одному типу, по одной схеме: стимул – реакция… Над чем бы и как бы ни экспериментировал психолог, всегда речь идёт о том, чтобы как-то воздействовать на человека, предъявить ему те или иные раздражения, так или иначе стимулировать его поведение или переживание и затем изучать, исследовать, анализировать, описывать, сравнивать ответ на это воздействие, реакцию, вызванную данным стимулом. Ведь сам смысл эксперимента заключается в том, что исследователь искусственно вызывает изучаемое явление, варьирует условия его протекания, видоизменяет его согласно своим целям» [15, с. 540].
Если говорить в более общем плане, то можно сказать, что за схемой стимул – реакция стоит методологическая установка детерминизма, согласно которой изменения в объекте могут быть вызваны исключительно внешними силами. На этом, по сути, и базируется классический эксперимент, с тем только добавлением, что изолирование экспериментального воздействия от других внешних факторов считается возможным. Одновременно считается, что воздействия изнутри, самодетерминации быть не может – это никак не доказано, в это просто верят. Тем самым, когда экспериментатор воздействует, то становится видно влияние этого и только этого воздействия. Собственно говоря, всё это и лежит в основании детерминизма, но только распространяясь далеко за границы лабораторного эксперимента. Предполагается, что вообще всё вокруг изменяется только в результате внешнего воздействия. Это же касается и человека. Наиболее яростно такую позицию отстаивал И. Сеченов, считавший, что человек даже думать не может самостоятельно, любая его мысль детерминирована чем-то внешним…
Убеждённым детерминистом был также И. Павлов. Его эксперименты были вознесены во многом потому, что соответствовали схеме «стимул – реакция» и принципу детерминизма, являющимися непременным атрибутом естественнонаучной парадигмы, зародившейся на рубеже XIX—XX вв. Впрочем, здесь можно говорить не только о Павлове, но и о Сеченове, ибо в эту парадигму вписываются как условные рефлексы, так и безусловные. И это было ещё подмечено Н. А. Бернштейном:
«Рефлекс по схеме дуги импонировал физиологам предшествующего периода более всего тем, как четко он увязывался с классическими понятиями причины и следствия. В самом деле, рефлекс (безусловный и условный) есть настоящая модель закона причинности в самой строгой форме. Раздражение, передаваемое по афферентной полудуге, – причина, реакция и ее путь от центров до исполнительного органа – ее детерминированное следствие» [11, с. 456].
Получается, работает учёный по схеме «стимул – реакция», его поощряют, а если он ещё получил и какие-то результаты, то возносят. А вот если он эту схему не разделяет, то оказывается изгоем в науке, и его попросту пытаются выжить, что и произошло с Н. А. Бернштейном.
Признание существования психологических типов (темпераментов) является мощным препятствием на пути детерминизма, ибо психотипы – это опосредующий фактор, стоящий на пути внешнего воздействия. И признание их наличия означает, что во всех ранее проведённых экспериментах не была изолирована переменная, существенно влияющая на результат воздействия – переменная не внешняя, а внутренняя. Ведь разный темперамент может предполагать различную реакцию, и тогда испытуемых изначально нужно разделять по типу темперамента, и лишь после этого проводить исследования на каждой группе. Получается, результаты ранее проведённых экспериментов рушатся? Когда дело касается психофизиологии, то их вроде бы можно уточнить, как это сделал Павлов, объясняя успехи и неудачи формирования различных рефлексов различиями в типах нервной системы. Однако его теория темпераментов не нашла ни дальнейшего подтверждения, ни своих последователей, а это значит, что причины неудач в формировании рефлекса остаются открытыми.
Совсем другой физиологический фактор, препятствующий экспериментальному воздействию, был выявлен А. Ухтомским – речь идёт о доминанте. Доминанта – это господствующий в нервной системе очаг, готовый к накоплению возбуждения и способный его удерживать продолжительное время. Постоянным образом на внешнее раздражение реагирует только уравновешенная нервная система. Но как только возникает доминанта, это равновесие рушится и возбуждение перенаправляется от обычных путей к доминанте, а центры, от которых происходит отток возбуждения, оказываются заторможенными. Доминанта встаёт на пути воздействия экспериментатора: фактором, заставившим Ухтомского встать на путь открытия доминанты как раз и явилось то, что электрическое раздражение коры головного мозга при опытах с собакой порой не давало обычных реакций в конечностях [57, с. 46]. Опять мы имеем дело с внутренним фактором, вставшим на пути внешнего воздействия. Если бы Ухтомский был сторонником детерминизма, он отверг бы напрочь саму возможность любого внутреннего фактора, мешающего воздействию экспериментатора. Вместо этого он подвергает наблюдаемое осмыслению, в результате чего и делает открытие существования доминанты. Доминанта может быть и устойчивой, и временной. Явление доминанты Ухтомский распространял не только на область физиологии, но и на область человеческого поведения. Однако препятствующую роль доминанты при проведении экспериментальных исследований представители «научной» психологии традиционно игнорируют, ибо это противоречит фундаментальному принципу детерминизма, хотя само это понятие охотно вспоминают, зачастую искажая его смысл17.



