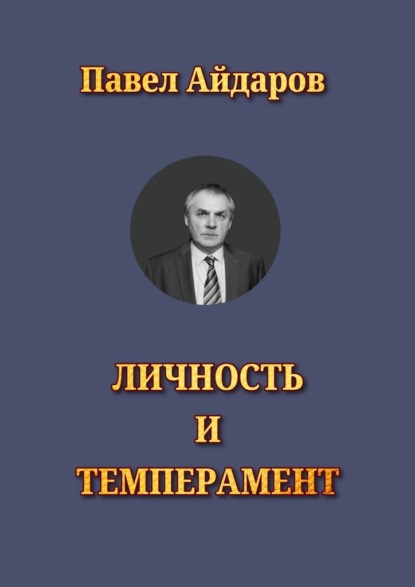
Полная версия:
Личность и темперамент. Теория психологических типов
«После того, как постоянное подчинение воображения наблюдению было единодушно признано как первое условие всякого здорового научного умозрения, неправильно толкование часто приводило к тому, что стали слишком злоупотреблять этим великим логическим принципом, превращая реальную науку в своего рода бесплодное накопление несогласованных фактов, присущее которому достоинство могло бы состоять только в его частичной точности. Важно, таким образом, понять, что истинный положительный дух в основе не менее далёк от эмпиризма, чем от мистицизма <…> Именно в законах явлений действительно заключается наука, для которой факты в собственном смысле слова, как бы точны и многочисленны они ни были, являются всегда только необходимым сырым материалом» [32, с. 78—79].
И «научная» психология во многом пошла как раз тем путём, против которого выступает даже Конт. Он говорит о «подчинении воображения наблюдению» – это позволяет мысли не быть оторванной от реальности. Но и мысль, и работа воображения остались за бортом «научного» метода психологии. Бесплодное накопление фактов, которые даже не осмысляются, – таково лицо эмпирической психологии. Конт пытался дать обоснование тому, что он сам говорит, анализируя историю науки. Пусть он во многом ошибался, но всё же хоть какое-то обоснование у него было. А вот представление о том, что прогресс науки стал возможен благодаря простому эмпирическому накоплению фактов и отказу от теоретизирования – обоснование этому, по сути, никем и не давалось…
Всё это вполне чётко говорит в пользу того, что эффективность применения в естествознании представлений, получивших название «позитивистских», мягко говоря, не совсем верно. И когда «научная» психология говорит, что пользуется оправдавшей себя в естествознании методологией, так называемым «научным методом», то доказанность этого «научного метода» оказывается сомнительной.
Вместе с тем научная психология не только приписывает успеху естествознания сведение реальности к миру явлений, но также утверждает, что этот успех был одновременно обеспечен возникновением экспериментального метода, сопровождаясь отказом от любого умозрения – и этот метод является «научным». Но это, скорее, научная мифология, не соответствующая действительности. Сама идея того, что существует некий «научный метод», благодаря появлению которого произошёл небывалый скачок в развитии естествознания в Новое время, является очень сомнительной. Обычно говорят о появлении метода эксперимента, приписывая его внедрение в физику Галилеем, и противопоставляя это умозрительной физике Аристотеля. Но эксперимент появился задолго до Галилея – взять того же Леонардо да Винчи, который был намного бо́льшим экспериментатором, чем Галилей, да и ранее Леонардо метод эксперимента хорошо знали. Сегодня в истории науки всё чаще звучит, что первым крупным учёным-экспериментатором был Ибн аль-Хайсам, живший в X—XI вв. А в более широком смысле даже можно сказать, что ещё в платоновском «Меноне» содержится описание проводимого Сократом эксперимента, доказывающего, что знание есть припоминание. Говоря об античности, можно также упомянуть эксперименты Птолемея, Галена и Гиппократа. Тем не менее нельзя отрицать, что именно в Новое время возник всплеск экспериментальных исследований. Нельзя отрицать и то, что именно в Новое время наука сделала мощнейший шаг вперёд. Но неверно на основании этого делать вывод, что первое стало причиной второго. Можно назвать несколько причин, благодаря которым и стал возможен активный рост научного знания в Новое время. Во-первых, возникло книгопечатание, позволившее учёным активно обмениваться своими мыслями. Во-вторых, появились средства измерения, без которых точная фиксация экспериментальных данных невозможна. В-третьих, был изобретён телескоп, изменивший представление о небе и давший огромный импульс к построению новой небесной механики.
Но даже если и принимать идею существования научного метода, то в отношении психологии возникает вопрос, насколько она ему соответствует. Неоднократно указывалось, что академическая психология в методологическом плане отнюдь не похожа на естественные науки11. Прежде всего, одним из важнейших методологических принципов физики Нового времени была идеализация, т.е. построение идеализированных картин, которые в реальности никогда не встречаются – мы можем лишь наблюдать нечто приблизительное. И эта идеализация зачастую проводилась математически, а если точнее – геометрически.
Объекты теоретической физики – это не реальные, а идеализированные объекты, также идеализированными являются и физические законы, т.е. они действуют при идеальных условиях, которые в реальности просто не встречаются. Возьмём, скажем, тот же первый закон движения Ньютона. Тело остаётся в состоянии покоя или бесконечного прямолинейного и равномерного движения, если на него не действуют приложенные силы. В реальности ситуации, где бы на тело не действовали никакие силы, быть не может, и то, что написано в этом законе, принципиально невозможно наблюдать. Но это можно вообразить. А в опыте выясняется лишь то, какие силы отклонили тело от состояния покоя или равномерного прямолинейного движения. Но где в научной психологии, заявляющей о своей методологической идентичности с естествознанием, присутствует идеализация? Стремление же походить на естествознание в плане применения математики выражается там не в применении геометрии, а лишь во введении в психологию измерений. Что это за измерения? Собственно говоря, большей частью всё сводится лишь к разным методикам подсчёта и обработки ответов (действий) испытуемого. И это аналогия с естествознанием?..
Также принято считать, что в Новое время наука отказалась от дедуктивного метода, заменив его индуктивным, что и обеспечило успех. В согласии с этим научная психология, стремясь быть похожей на естествознание, неустанно заявляет, что пользуется именно индуктивным методом. Однако, глядя на историю науки мы встречаем, скорее, обратное. Ещё у Архимеда появился геометрический метод доказательства, применяемый им к вопросу о плавающих телах. Далее Архимеду стал подражать Галилей, также практикуя этот метод. Затем этот метод развивал Гюйгенс, а своего апогея он достиг у Ньютона. Но этот метод – дедуктивный. Как построена главная книга Ньютона? Сначала идут определения, за ними – аксиомы, после чего на основе этой базы и строится всё здание ньютоновской механики, опираясь при этом на эвклидову геометрию. Отсылки к опыту у Ньютона идут лишь изредка.
Если же посмотреть на философию, которая на протяжении веков обвиняется в том, что на самом деле все эти годы делала физика, то мы находим лишь одну попытку построения подобной теории, и эта попытка выглядит крайне неудачно – речь идёт об «Этике» Спинозы.
Теория относительности была построена также дедуктивным методом, только базовые положения были другие, и опирался Эйнштейн не на эвклидову геометрию, а на риманову. Теми кирпичиками, на которых строится здание ньютоновской физики, Эйнштейн называл материальную точку, силу взаимодействия между такими точками (потенциальную энергию) и инерциальную систему координат12. Далее же в физике появилось понятие «поля» как нового носителя энергии, специальная теория относительности добавила гипотезу о постоянности скорости света и отбросила концепцию материальной точки, а общая теория относительности отбросила и понятие инерциальных систем, заменив их «полем смещения» [63, с. 787 – 788]. У физики появились новые кирпичики, из которых было построено новое здание.
Цель физической теории Эйнштейн формулирует следующим образом:
«…дать объективное (в принципе полное) описание физических систем и установить структуру законов, связывающих понятия, входящие в это объективное описание. Под „объективным описанием“ понимается такое описание, которое может претендовать на справедливость и осмысленность без ссылок на какие бы то ни было акты наблюдения» [там же, с. 787].
Тех, кто привык считать, что наука «заменила рассуждения опытом» эти слова могут сильно удивить. Как так?! Один из виднейших представителей физики не только считает возможным, но даже утверждает объективность в отрыве от актов наблюдения! Но это вовсе не значит, что опыт всецело игнорируется. Он остаётся, но, во-первых, чем более абстрактной будет теория, тем труднее её проверить на опыте. А если отказаться от высоких абстракций, то мы получим такую груду эмпирических понятий, которые объединить в теорию будет просто невозможно. Абстрактность нам для того и нужна, чтобы понятий, которыми мы оперируем, было не так много, что и обеспечит возможность работы с ними. Во-вторых, для того, чтобы сделать возможной проверку опытом, сначала нужно пройти большой теоретический путь, который только и сделает возможным такой опыт.
Оперирование абстракциями и выводы, сделанные на основе этого, научная психология трактует как вымысел и фантазирование, оторванность от опыта. И несмотря на то, что в физике это «фантазирование» занимает существенное место, всё равно звучит отсыл, что научная психология идёт по пути естественных наук. Посмотрим, что пишет про «фантазирование» Эйнштейн:
«Теоретику все больше приходится руководствоваться при поисках теорий чисто математическими, формальными соображениями, поскольку физический опыт экспериментатора не дает возможности подняться прямо к сферам высочайшей абстракции. Место преимущественно индуктивных методов, присущих юношескому периоду науки, занимает поисковая дедукция. К тому же надо далеко продвинуться в построении такого теоретического здания, чтобы прийти к следствиям, которые можно сравнить с опытом. Конечно, опыт и здесь остается всемогущим судьей. Но его приговор может последовать только после большой и трудной умственной работы, перебрасывающей мост через пропасть между аксиомами и следствиями. Эту гигантскую работу теоретик должен проделать, ясно сознавая, что она, быть может, лишь подготовит смертный приговор его теории. И теоретика, занимающегося этим, не следует с упреком называть фантастом. Нет, лучше одобрить его фантазии, поскольку другого пути к цели для него вообще не существует. Это вовсе не беспредметные фантазии, а поиски логически простейших возможностей и их следствий» [64, с. 279—280].
Эйнштейн говорит не только о роли фантазии в работе учёного, но и о дедукции. Господствующее представление о замене наукой дедукции на индукцию, а рассуждений на опыт, явно не соответствует действительности. Дедукция (которую, вместе с философской интуицией, называют «умозрением») вовсе не ушла из науки после «научной революции» Нового времени, а продолжала играть весьма существенную роль. Метод дедукции вовсе не предполагает полный уход от чувственно данного и оперирование одними абстракциями. Дедуктивные выводы постоянно должны сопоставляться с эмпирически данным, насколько это возможно, и корректироваться этим. На основе дедукции (как и на основе интуиции) возникает гипотеза, которая должна быть либо подтверждена, либо опровергнута опытом. При этом под «гипотезой» должны пониматься не только отдельные положения теории, но и теория в целом. Если опровергнут какой-то элемент теории, то это лишь значит, что в теории есть недоработка, и эту недоработку можно исправить. А рушится теория полностью лишь тогда, когда она в целом неверна. Но как проверить теорию в целом? Это проблематично сделать путём единичного эксперимента, это проверяется лишь длительной практикой.
Дедукция есть силлогистика. Возьмём популярный силлогизм: «Все люди смертны. Сократ – человек. Значит, Сократ – смертен». Это дедуктивное заключение. Но что представляет из себя первая посылка «Все люди смертны»? Это ведь индуктивное обобщение! Собственно говоря, бо́льшая посылка в умозаключении всегда является индуктивным обобщением. В этом смысле дедукция вовсе не противостоит индукции. Индукция необходима для дедукции, она её составная часть. Противопоставление же индуктивного и дедуктивного метода основано на том, что познание пытаются ограничить одними индуктивными обобщениями, отвергая последующую дедуктивную работу с ними. И противопоставляются на самом деле не дедуктивный и индуктивный методы, а дедукция, перемешанная с индукцией, с одной стороны, и чистая индукция с другой. Но на пути чистой индукции не может быть построено никаких серьёзных теорий. Не желая признавать это, некоторые сторонники индуктивного метода всё же пытаются называть результаты своих исследований теориями, хотя на настоящие теории это не похоже даже отдалённо… Вместе с тем есть и совсем ярые сторонники индукции, которые прямо заявляют, что в науке вообще не должно быть теорий. Но тогда и науки как таковой не будет…
Вообще само представление о том, что возможно внеопытное знание, что философия и философская психология игнорируют опыт, и что настоящая наука началась лишь тогда, когда обратилась к опыту – это огромный миф, раздуваемый в течение нескольких веков сторонниками эмпиризма. Внеопытными могут быть лишь предпосылки, допущения, из которых исходят. Насколько такие предпосылки оправданы, показывает сам опыт. В таком случае знание из опыта хоть поначалу и не выводится, но впоследствии опытом подтверждается. В другом случае никаких исходных допущений нет, и всё выводится на основе осмысления опыта. Есть два эти случая, а третьего не дано. Без опыта вообще знание невозможно. На это пытался обратить внимание ещё И. Ильин:
«Необходимо покончить раз навсегда с предрассудком „внеопытного знания“. Философские учения делятся не на „опытные“ и „сверх-опытные“, а на такие, которые сознательно культивируют предметный опыт, и такие, которые этого не делают. Ибо от опыта не освобождает никакая интуиция, никакое „прозрение“, никакая метафизическая спекуляция, никакая рационалистическая дедукция» [30, с. 36].
Вот эти два типа опыта мы и встречаем в психологии: 1) сознательно культивируемый, т.е. эксперимент и специально организованное наблюдение; 2) естественный опыт, где нет попыток вызвать специально исследуемое явление, где оно просто ожидается, или встречается в опыте – важно лишь не пропустить его и обратить на него внимание. Но психология, как и вообще эмпирическая наука, называет опытом лишь одну его разновидность – первую, а выводы на основе осмысления естественного опыта трактуются как «оторванные от опыта».
Постоянно звучащие в адрес глубинной психологии обвинения в умозрительности и оторванности от опыта нельзя принять, ибо Фрейд, Юнг и Адлер были врачами-психотерапевтами и основывали свои теории на глубоком анализе случаев болезни своих пациентов. Справедливость сделанных выводов и предположений они проверяли на практике – практике лечения пациентов. Это разве не проверка опытом?! Другое дело, что люди, практикующие эти теории, дают им разные оценки. Скажем, теорию Фрейда считали ошибочной уже Адлер и Юнг. А позже и многие практики психоанализа от этой теории отказались – достаточно назвать основателя гештальт-терапии Ф. Перлза. Но, с другой стороны, немало психоаналитиков практикуют теорию Фрейда до сих пор. И как оценить эту теорию? Она прошла проверку практикой, или нет? Однозначного ответа здесь дать нельзя. Однако говорить, что эта теория была создана в игнорировании опыта, является в корне неверным. Просто опыт противоречив, и его трактовка зависит от предварительно усвоенных положений, которые, словно призма, могут этот опыт представлять по-разному…
Когда говорят, что дедуктивные выводы умозрительной психологии не проходят эмпирическую проверку, то вопрос, прежде всего, в том, что считать такой проверкой. В научной психологии, по сути, таковой считается лишь лабораторное исследование с тестированием испытуемых, при этом в качестве испытуемых, как правило, выступают студенты вузов, ещё не имеющие жизненного опыта… Но ведь есть ещё и естественный опыт. Теория психологических типов Юнга находит своё подтверждение (конечно же, неполное) именно в естественном опыте. В то же время и недочёты, ошибки этой теории также выявляются на основе такого опыта. И этот опыт намного более валиден, однако он не объективирован: его нельзя наглядно предъявить другим. Эмпирическая психология сводит опытную проверку лишь к тому, что может быть объективировано (чётко зафиксированные результаты тестирования, экспериментов). Но выводы, сделанные на основании такого искусственного, объективированного опыта, могут совершенно не пройти проверку в условиях реальной жизни. Как минимум, потому что человек в лабораторных условиях себя ведёт совсем не так, как в реальной жизни, да и ответы на вопросы он может давать неверные. Кроме того, и в самой методике исследования может быть что-то не так. Например, Айзенк на основе проведённых им тестов утверждает зависимость между экстраверсией и преступностью. Но, даже просто глядя на окружающих, подтверждения этому не находишь. Однако применение здесь объективированной методики позволяет говорить, что «всё доказано опытным путём»…
Ну и самое главное. Борьба научной психологии с методом дедукции делает невозможным следование принципу когерентности – одному из двух главных критериев истины. Когерентность предполагает непротиворечивость теории, и эта непротиворечивость не может быть осуществлена без помощи дедукции. Научная же психология признаёт лишь принцип корреспонденции, согласно которому теоретические утверждения должны соответствовать фактам. И когда она упрекает умозрительную психологию в дедукции, оторванной от реальности, то упрёк, по сути, состоит в том, что выполняется лишь принцип когерентности, а принцип корреспонденции игнорируется. Но, борясь с этим, научная психология впадает в другую крайность. Ни одна из этих крайностей не обеспечит истинность результатов, оба принципа должны выполняться одновременно.
d) Противостояние трёх видов психологии
Психология как наука начинает серьёзно формироваться лишь в XIX веке, при этом господствуют три вышеназванные тенденции. Первая – стремление поставить психологию на физиологическую основу, занимаясь поисками материального субстрата психики. Вторая – отказаться вообще от поиска такого субстрата, основываясь на позитивистском стандарте научного знания, сводящего реальность к миру явлений. Эта тенденция и присвоила себе право именоваться «научной» психологией, в то время как первую тенденцию то стремились втиснуть в те же рамки, то относили уже к физиологии. Одновременно развивается и третья тенденция – возникает множество концепций метафизической психологии. На рубеже XIX—XX вв. появляется «психоанализ» З. Фрейда, а вслед за ним «индивидуальная психология» А. Адлера и «аналитическая психология» К. Г. Юнга. Во всех этих теориях главное место занимают воображаемые сущности, призванные объяснить мир психических явлений. У Фрейда это триада «Оно – Я – Сверх-Я», эдипов комплекс и др.; у Юнга – психотипы, архетипы, комплексы; у Адлера – комплекс неполноценности и компенсирующее его «стремление к превосходству». Все эти три течения, которые именуют то «глубинной психологией», то «фрейдизмом», представляют собой триумф метафизического метода в психологической мысли, и именно за это их стали причислять к «ненаучной» психологии. Далее, уже в середине XX в. появляется «гуманистическая психология» (А. Маслоу и др.) и «гештальт-терапия» (Ф. Перлз), которые больше ориентированы на практику и представляют собой отдельную тему для разговора… Тем самым с появлением естественнонаучных разработок в психологии, вопреки словам Сеченова и Вундта, метафизический метод вовсе не уходит в прошлое, но просто такой психологии стали отказывать в праве называться научной.
Поиск материального субстрата психики, который Вундт ошибочно относит к метафизике, достиг своего пика, пожалуй, даже раньше глубинной психологии. Прежде всего, сюда относится учение И. Павлова об условных рефлексах, на основе которого позже вырос бихевиоризм. Но Павлов славен в психологии не только этим: до сих пор говорят о его концепции темпераментов, возникшей из попыток объяснить типологические особенности поведения собак при экспериментах по формированию условных рефлексов различием в типах нервной системы. В ходе своей работы Павлов столкнулся с тем, что наблюдается весьма существенная разница в скорости выработки этих рефлексов и прочности их удержания. У одних собак легко вырабатывался положительный рефлекс, но очень тяжело тормозной, у других – наоборот. При этом у первых положительный рефлекс весьма устойчив, а у вторых очень неустойчив; в отношении же тормозного рефлекса у них всё выглядит прямо противоположным образом. Кроме того, между этими двумя крайностями имел место и промежуточный вариант, при котором оба типа рефлексов одинаково хорошо формируются и удерживаются. В этом промежуточном варианте были выделены две разновидности: в одном случае животное малоподвижно, а в другом – обладает высокой степенью подвижности. Различие в типах нервной системы собак Павлов переносит на человека и объявляет, что именно это различие стоит за «темпераментами», которые выделял ещё Гиппократ. Получается, он называет материальный субстрат, лежащий в основе традиционно выделяемых темпераментов. И если Гиппократ называл в качестве такого субстрата преобладание в организме жёлтой или чёрной желчи, а также лимфы или крови, то Павлов это древнее и давно отжившее воззрение заменяет другой основой. В итоге получаются следующие типы темпераментов: два вида неуравновешенной нервной системы дают холерика и меланхолика – первый обладает повышенной возбудимостью, а у второго, наоборот, господствуют процессы торможения; уравновешенные же типы нервной системы дают, в свою очередь, сангвинический и флегматический темпераменты – в первом случае свойственна подвижность, а во втором – инертность.
Собственно говоря, каждый раз, когда речь идёт о психологических типах, на самом деле идёт речь о темпераменте. Ведь что такое темперамент? Слово темперамент означает соотношение частей. Утверждая существование темперамента, мы одновременно утверждаем некие черты характера, которые находятся в устойчивом соотношении друг с другом, образуя тем самым его основу. Устойчивость же они могут образовывать только в том случае, если имеют фундамент, основу. И у Гиппократа, и у Павлова эта основа физиологическая. Она может быть и метафизической. Но только не каждая теория, в которой утверждается та или иная сущность психического есть теория темпераментов. Если мы возьмём теории Фрейда, Юнга и Адлера, то лишь теория психологических типов Юнга есть теория темпераментов: соотношение выделяемых психологических функций и образует собой темперамент. Когда же заранее отрицается возможность наличия материальных и метафизических субстратов психики, а это делает Вундт и вслед за ним вся научная психология, то тем самым отрицается вообще идея темпераментов. Но вот, что интересно. Теорию темпераментов Павлова вовсе не относят к ненаучной, хотя она отрицает самую основу научной психологии – онтологическое допущение о самостоятельности мира явлений. И это лишь один из примеров методологической непоследовательности «научной» психологии.
Рефлексологическая теория Павлова считается научной, ибо, как принято считать, там всё выведено из опыта, а не путём теоретизирования, она представляется образцом «строгой науки», основанной исключительно на протоколировании экспериментальных данных. Только вот при ближайшем рассмотрении это оказывается лишь кажимостью. И эту кажимость пытался развеять Н. А. Бернштейн. В отношении методологического требования «ничего не примысливать к тому, что может быть непосредственно наблюдаемо» он перечисляет целую группу физиологических утверждений, которые являются не чем иным, как примысливанием:
«…подробнейшие высказывания о том, как группы нервных клеток мозговой коры возбуждаются, тормозятся и проходят через последовательные стадии парабиоза; как возбуждение в коре мозга иррадиирует на широкие территории и как оно вновь концентрируется в хронически возбуждённом пункте; как возбуждение одной клеточной группы вызывает в силу корковой индукции торможение окружающих групп; как, наконец, область преобладающего возбуждения перемещается по коре мозга с причудливыми зигзагами и сменами очертаний» [10, с. 191].
Всё это физиологи наблюдали? Нет, всё это результат истолкования, интерпретации экспериментов. Н. А. Бернштейн даже называет взгляды Павлова «гипотетическим или умозрительным толкованием экспериментов» [59, с. 85]. Также он заключает, что в исследованиях Павлова «единственный фактический материал, доставляемый наблюдениями и исчерпывающий собою содержание протоколов опытов, – это счёт капель отделяющейся слюны и их распределение по секундам. Всё остальное… представляет собой чистое примысливание» [10, с. 191]. Но речь вовсе не сводится к одним лишь экспериментам Павлова, речь идёт в целом об экспериментальной физиологии:
«…не только разновидности классической рефлексологической методики, но и никакие другие экспериментальные методы, применявшиеся к мозгу во всём мире вплоть до наших дней, включая сюда и наиболее тонкую и современную методику записи биоэлектрических потенциалов мозга, до настоящего времени не позволили пронаблюдать и показать воочию ни одного из перечислявшихся выше мозговых явлений: ни хронического возбуждения пунктов коры, ни иррадиации, ни концентрации, ни индукции, ни даже блуждающего возбудительного пятна, хотя это последнее, казалось бы, могло иметь все шансы обнаружиться в таком мощном проявителе, как электронные усилители биоэлектрических потенциалов и катодные осциллографы» [там же, с. 191—192].



