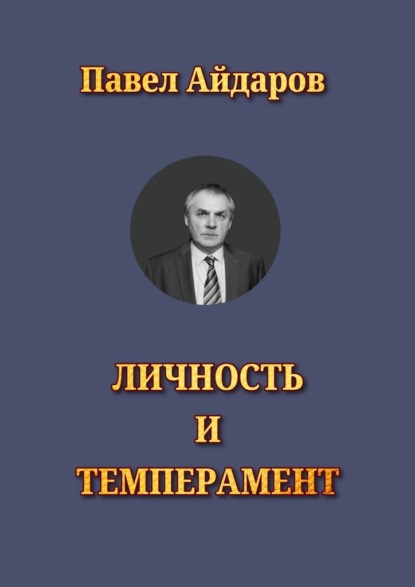
Полная версия:
Личность и темперамент. Теория психологических типов
Но вот мы подходим к тому, что в современной научной психологии уже имеет место. Важнейший, объявленный Вундтом принцип гласит:
«…непосредственный опыт не есть нечто неизменное: это – смена связанных друг с другом явлений; составные его части – не объекты, а процессы» [там же, с. 22].
Отрицание в психике чего-то неизменного – это одновременно и отрицание самой возможности существования устойчивых психологических типов. Предметом изучения психологии становятся психические процессы, а их основная особенность вытекает уже из самого слова «процесс»:
«Понятие о процессе исключает овеществление и признание более или менее неподвижного характера за содержанием психического опыта. Психические факты суть явления, а не предметы; они протекают, как все явления, во времени, и во всякий данный момент они уже не те, какими были в предшествующее мгновение» [там же, с. 21].
Задачи эмпирической психологии Вундт видит в том, что она «сводит психические процессы или на понятия, извлечённые непосредственно из связи между этими процессами, или же выводит более сложные психические процессы из взаимодействия определённых и обыкновенно более простых психических процессов» [там же, с. 12]. По сути, в первом случае речь идёт просто о классификации психических процессов, а во втором – подчёркивается конструктивный характер эмпирической психологии, т.е. она не расчленяет объект исследования для дальнейшего анализа, а конструирует его из более простого эмпирически данного.
Поскольку психология объявлена эмпирической наукой, она использует и эмпирические методы – эксперимент и наблюдение, пользуясь ими для установления причинной связи. При этом первенство отдаётся эксперименту, про который Вундт пишет:
«Для того чтобы точно исследовать возникновение и течение этих процессов, составные элементы последних и их взаимные отношения, мы должны прежде всего иметь возможность произвольно вызывать их и варьировать по нашему усмотрению их условия, а возможно это здесь, как и всюду, только на почве эксперимента, а не при помощи чистого самонаблюдения» [там же, с. 29].
Но можно ли все психические явления вызвать для исследования путём эксперимента? И не будет ли реальность в данном случае редуцироваться только к тем связям явлений, которые удалось подвергнуть экспериментальной проверке? Конечно, будет. А как быть с остальными возможными связями? Они просто будут объявлены несуществующими. Что же касается самонаблюдения, то оно имеет ту положительную сторону, что не требует немедленного ответа, ибо нужной ситуации, на основе которой можно было бы делать определённые выводы, можно попросту ждать: дождаться можно отнюдь не всего, но тот опыт, который будет получен в данном случае, имеет преимущество перед экспериментом в том, что это опыт естественный, а не искусственный. Ситуация же, создаваемая в ходе эксперимента всегда искусственна, т.е. неестественна. Она никогда не будет на человека воздействовать с той силой, как ситуация реальная. Кроме того, испытуемый в ходе эксперимента, с большой вероятностью, будет вести себя вовсе не так, как вёл бы в обыденной жизни…
Вместе с тем Вундт указывает и на методологическую трудность сделать из психологии чисто наблюдательную науку. Поскольку здесь, в отличие от естествознания, невозможно отвлечение от состояния субъекта познания, т. е. наблюдателя, то последний может либо «видоизменять наблюдаемые факты», либо «совершенно устранять из поля наблюдения». А потому в психологии основным методом должен стать эксперимент, а не наблюдение. Эксперимент, согласно Вундту, – это то же наблюдение, но только «соединённое с произвольным вмешательством наблюдателя в возникновение и течение наблюдаемых явлений» [там же, с. 27]. Что касается чистого наблюдения, то оно невозможно применительно к индивидуальной психологии, но вполне применимо к психологии народов, ибо здесь факты имеют «относительное постоянство и независимость от наблюдателя». Эксперимент же в исследовании психологии народов не применим в принципе.
Эмпирическая психология противопоставляется метафизической, про которую Вундт пишет, что она «окончательно отошла в область прошлого» [там же, с. 3]. Характеристика сущности метафизической психологии со стороны Вундта звучит так:
«…признак, отличающий метафизическую психологию от эмпирической, состоит в том, что первая стремится свести психические процессы не на другие же психические процессы, а на совершенно отличный от них субстрат: или на действие особой субстанции-души, или же на свойства и процессы материи» [там же, с. 11].
Исходя из последнего разделения, Вундт делит метафизическую психологию на спиритуалистическую и материалистическую. Последнюю роднит с первой то, что она «стремится выяснить психологический опыт не на основании самого этого опыта, а исходя из предположений о психических процессах, совершающихся в метафизическом субстрате» [там же, с. 12]. По сути, здесь идёт речь о таких категориях как «сущность» и «явление». Психические явления можно считать проявлениями невидимой человеческим глазом сущности, и эта сущность либо нематериальна – тогда она в подлинном смысле является метафизической (лежащей за пределами физического), либо материальна, т. е. её нужно искать в функционировании нервной системы человека… Применение же Вундтом термина «метафизическое» по отношению к материальной сущности, стоящей за наблюдаемыми психическими явлениями, нельзя признать верным – употребление данного термина здесь явно ошибочно.
b) Сущность и явление
Объяснять одни явления другими – это не просто методологическая установка. Это утверждение определённой реальности, которая в таком случае ограничивается лишь миром явлений.
Стремление отказаться от поиска сущностей, стоящих за миром психических явлений, по сути, является лишь онтологической предпосылкой. Именно предпосылкой, которая никак не доказывается, но из которой исходят. Эту предпосылку можно так и обозначить: существует лишь мир психических явлений, которые взаимодействуют между собой, эти явления самодостаточны и не представляют собой проявления какой-либо сущности, будь то материальной или метафизической. Поскольку действенность любой предпосылки в познании проверяется в конечном итоге на результатах, то и оправданность её нужно оценивать тем же способом. Об этом мы ещё будем говорить. Сейчас же обратим внимание на саму проблематичность данной предпосылки, которая несёт в себе онтологическую неопределённость.
Когда явление объясняется какой-либо метафизической сущностью, то такая позиция понятна. Она состоит в следующем: помимо материального мира существует нематериальный, который мы не можем постичь с помощью органов чувств, но мы можем этот мир мыслить, предполагая на основе уже имеющихся чувственных данных ещё и какие-то нематериальные сущности как недостающие звенья в цепи теоретических положений. Можно не соглашаться с предпосылкой существования нематериального мира и считать основанные на этом теории не более чем выдумкой, но такая позиция, по крайней мере, понятна. Вместе с тем, когда явление объясняется каким-либо материальным субстратом, лежащим в его основе, то это также понятно и вообще не вызывает вопросов. В одном случае явления объясняются нематериальным, а в другом – материальным. Но вот когда научная психология говорит, что психические явления существуют сами по себе, влияя одно на другое, – эта позиция вызывает недоумение, ибо предполагает самостоятельность существования явлений. Проясним это на примере. Скажем, один человек общителен, а другой молчалив. Как это объяснить? Вышеназванные два пути предлагают спуститься на более глубокий уровень и объяснять происходящее на поверхности глубинными процессами, но только в одном случае идёт погружение вглубь «материи», а в другом – в трансцендентную, метафизическую область. Научная же психология выступает против деления психической реальности на поверхностную и глубинную, она говорит, что находящееся на поверхности и есть вся реальность. В таком случае общительность и молчаливость не есть проявления чего-то другого, а самостоятельны. Получается, что «общительность» и «молчаливость» существуют сами по себе. И каков тогда их онтологический статус? То, что существует само по себе, а не является проявлением чего-то другого, есть субстанция, или сущность6. «Общительность» и «молчаливость» – это субстанции? Конечно же, научная психология этого не утверждает. Если общим понятиям приписывать реальность, то получается объективный идеализм, любую близость с которым академическая психология исключает. Однако, если мы не приписываем общим понятиям реальность, то они является чисто номинальными – это слова и не более. И действительно «общительность» и «молчаливость» – это просто слова обыденного языка, представляющие собой эмпирические обобщения. Они возникают индуктивным методом – видят одного молчаливого (или общительного) человека, другого, третьего… После этого идёт индуктивное обобщение, в результате которого в языке появляются данные слова. И что в таком случае научная психология изучает, выискивая корреляции между подобными обобщениями? По сути, лишь пересекающиеся понятия. Скажем, Айзенк утверждает, что доказана корреляция между теми чертами личности, которыми у него характеризуется экстраверсия и, соответственно, интроверсия. Активность коррелирует с общительностью? Да ведь общение – это один из видов активности. Пассивность коррелирует с необщительностью? Но ведь необщительность есть разновидность пассивного поведения. Импульсивность коррелирует с экспрессивностью? Но экспрессия возникает лишь под влиянием импульса. Контролируемость коррелирует с заторможенностью? Однако любой контроль оказывает тормозящее действие. И это можно продолжать… Мы видим, что в ходе корреляционных исследований выявляется попросту то, что можно было бы сделать и без них, просто сопоставив друг с другом понятия. И такая деятельность ничего не объясняет. Почему один человек общителен, а другой молчалив? Научная психология может это объяснить? Она ничего не может сказать, кроме того, что общительность и молчаливость коррелирует (т.е. пересекается) с другими общими понятиями. И это есть следствие сведения реальности к миру феноменов. В тех же подходах, где утверждается более глубинная реальность, подобные объяснения присутствуют.
Сведение реальности к миру явлений заставляет психологию отказаться и от использования глубинных понятий, ограничиваясь лишь эмпирическими обобщениями. В таком случае мыследеятельность исследователя находится в рамках категорий общего и частного. Глубинные же понятия позволяют выйти на уровень категорий часть – целое, ибо психические явления начинают рассматриваться уже не как нечто самостоятельное, а как часть целого, притом всё целое нам эмпирически не дано, мы его домысливаем, прибегая к помощи воображения. Но даже эмпирические обобщения не проясняются академической психологией на должном уровне, а это прояснение является необходимым. Дело в том, что мы не воспринимаем эмпирически данное без предварительно усвоенных понятий, а усваивая их и проясняя, меняем своё восприятие. Даже механика Ньютона, служащая для многих идеалом науки, тоже начинается с прояснения понятий. Деятельность по прояснению понятий имеет место в теории психологических типов Юнга, который, заканчивая свою работу, тщательно описывает смысл каждого используемого понятия. Но где в научной психологии сколько-нибудь серьёзная деятельность по прояснению понятий? Скажем, чтобы изучать личность, сначала нужно ответить на вопрос «что такое личность?» – а это чисто теоретическое размышление. Чтобы изучать интеллект, нужно сначала ответить на вопрос «что такое интеллект?» Последний вопрос был неоднократно предметом философского размышления, на эту тему написаны крупные работы, например, Лейбницем, Локком, Гельвецием. А научная психология? Она этим вообще не озадачивается, а, занимаясь вопросом измерения интеллекта, авторы тестов вкладывают в это понятие каждый, что ему только вздумалось, без какого-либо обоснования. А затем результаты этих тестов выдаются за «объективные»…
Всякий раз, когда заходит речь о существовании психологических типов, эмпирическая психология стремится придать им характер неустойчивости. Но эта неустойчивость заложена уже в исходных познавательных предпосылках: мир явлений сам по себе неустойчив, в нём нет ничего постоянного, одно сменяет другое, и если реальность изначально сводится только к миру явлений (отрицая, стоящие за ним сущности), то любая типология, построенная на этом, может указывать только на неустойчивые типы, или относительно устойчивые. Тем самым, когда говорят, что «наши исследования не подтвердили наличие устойчивых психотипов», это надо понимать: «наши исследования изначально построены на принципах, исключающих любую устойчивость психотипов».
Явление – это то, что нам является, что мы видим, ощущаем. Если реальность сводится исключительно к этому, то познавательная роль науки сильно упрощается и даже ведёт к появлению псевдонауки, выдающей случайные связи явлений за научное знание. Наука должна объяснять повторяющееся в мире явлений, а для этого она переходит на более глубинный уровень, рассматривая всё то, что находится на поверхности, как проявление скрытых от глаз сущностей. И эти сущности могут быть либо принципиально ненаблюдаемыми, т.е. метафизическими, либо физическими и принципиально наблюдаемыми (в том числе с помощью специальных устройств). Сущность науки во многом как раз и состоит в том, чтобы выйти за пределы того, что видит человеческий глаз и вскрыть тем самым причину закономерно происходящих явлений.
c) Проблема обоснованности аналогий с естествознанием
Научная психология утверждает, что естествознание отказалось от поиска сущностей, стоящих за миром явлений, и этот путь принёс ему успех, а потому психология, идущая тем же путём, является действительно научной. Представление, что в естественных науках, начиная с Нового времени, стали изучать лишь связь одних явлений с другими, основано отнюдь не на пустом месте. Однако правильность такой трактовки всё же можно поставить под сомнение. Возьмём, скажем, положение Паскаля о том, что «жидкости имеют вес, соответствующий высоте их стояния, а не ширине сосудов» [47, с. 373]. Действительно, здесь показывается зависимость одного явления от другого, и это подтверждено экспериментально. Но, во-первых, это не высчитывание корреляций, и здесь вовсе не констатируется, что в большинстве случаев происходит всё так, а утверждается стопроцентная зависимость, имеющая форму закона. А какие законы были открыты научной психологией за более чем столетнюю историю? Практически никаких… Разве что закон Вебера-Фехнера можно считать таковым, однако он относится больше к физиологии, да и открыт был ещё до официального появления «научной психологии»… Когда же мы имеем дело не со стопроцентной, но всё же серьёзной зависимостью, то таковая может говорить о том, что оба явления относятся к одной и той же сущности (являются её проявлением), а выявить эту сущность можно лишь умозрительным путём. Психология от этого пути отказывается, но тогда все её попытки выискивать корреляции лишены смысла. Во-вторых, вряд ли верно говорить, что Паскаль в данном случае вывел свой закон исключительно из опыта, минуя путь теоретического рассуждения (а именно этот путь утверждается как «научный»), ибо таковое как раз у него приводится, когда он пытается объяснить, почему так происходит. Скорее всего, гипотеза у Паскаля возникла именно на пути теоретического рассуждения, а потом была подтверждена опытом. В этих рассуждениях он работает на высшем, предельном уровне абстракций, а не остаётся в рамках простых эмпирических обобщений, с которыми работает научная психология. И путь, которым идёт Паскаль, вовсе не является новшеством – путь работы на уровне предельных абстракций, которые конкретизируются примерами, мы встречаем ещё в аристотелевской физике…
Вместе с тем новая физика, возникшая в Новое время, отнюдь не отказалась от категорий «сущность» и «явление», также возникших в античности. Они продолжали оставаться в тех двух вариантах, в которых существовали всегда: поиск физического (материального) субстрата, и поиск трансцендентной (метафизической) сущности. Это можно проиллюстрировать примерами из истории естествознания. На способе объяснения явлений с помощью материального субстрата нет надобности останавливаться, ибо главные примеры этого общеизвестны: атомы и молекулы в физике, клетка в биологии. А вот на метафизических сущностях следует остановиться.
Одним из наиболее ярких примеров метафизических сущностей в истории физики можно назвать флогистон и теплород. С помощью этих понятий обозначали свойство горения предмета – горит предмет потому, что содержит в себе флогистон, и чем больше он его содержит, тем менее остаётся продуктов сгорания. При этом неким флюидам приписывалось свойство переходить при горении в тело, подвергаемое нагреву. Однако, несмотря на то что существование флогистона и теплорода было лишь предположением, оно позволяло успешно объяснять многие явления. Более того, даже тепловую машину С. Карно создал, опираясь на теорию существования теплорода. В конечном итоге эта теория просуществовала более века. Ушла же она в прошлое лишь потому, что было найдено другое, более лучшее объяснение процессов теплообмена.
Но как бы выглядела физика, если бы в ней реальность сводилась к одним явлениям? Там не было бы не только теплорода, но и кислорода, и молекул с атомами… А про теплообмен физики ничего не могли бы сказать, кроме констатации факта, что холодное тело нагревается тёплым, и что одни материалы нагреваются быстрее других. Однако мы и из простого обыденного опыта многое знаем об этом. Наука же должна давать более глубокое объяснение явлениям.
Метафизической сущностью является и отстаиваемое Ньютоном абсолютное пространство, а также связанные с ним абсолютное движение и абсолютный покой7. Тело по инерции стремится двигаться прямолинейно, и если бы на него не действовали никакие силы, т.е. если бы оно двигалось в полной пустоте, то это движение и оставалось бы прямолинейным, а также было бы равномерным и бесконечным – об этом говорит первый закон Ньютона. И такое движение является истинным, абсолютным. Однако есть ещё движение кажущееся, относительное: когда один предмет просто изменяет своё положение относительно другого. Такое движение не является истинным. Истинное движение – это движение в абсолютном пространстве. Но где это абсолютное пространство? Мы его не видим, но нам доступны его проявления. Скажем, если подвесить сосуд на верёвке, прикрепив её концы к противоположным сторонам сосуда, закрутить эту верёвку, налить воды в сосуд, а затем верёвку отпустить, то сначала вода будет оставаться в состоянии покоя относительно стенок сосуда, но затем, по мере увеличения вращения, начнёт по ним подниматься. Какая сила её движет? Стремление удалиться от центра вращения и двигаться прямолинейно – без этой силы вода так и оставалась бы неподвижной относительно стенок сосуда. И это движение носит абсолютный характер, а не относительный, и совершается в абсолютном пространстве. Два предмета могут двигаться параллельно друг другу в абсолютном пространстве, и с позиций относительности здесь движения не будет, а в абсолютном смысле будет. Тем самым нужно отличать абсолютное и относительное движение. Эмпирически нам даны лишь тела, находящиеся в относительном покое, и движение относительно их не является истинным. Истинное движение возможно лишь относительно тела, находящегося в абсолютном покое. Но есть ли вообще такое тело? Ньютон этого не знает… Хоть Ньютона традиционно и представляют как борца с метафизикой8, однако утверждаемые им абсолютное пространство и абсолютное движение метафизичны. Абсолютное пространство – это невидимая нами сущность, о которой мы можем судить лишь по косвенным её проявлениям. Естественно, что это и не было принято последующей физикой9, отрицавшей всякую метафизику…
Однако Ньютон действительно негативно относился к метафизике, при этом он заявлял, что всё выводит из опыта, и что «гипотез не измышляет». А на деле? Понятия тяготения, абсолютного пространства и движения являются метафизическими. Как минимум, «первый закон движения» Ньютона принципиально не выводим из опыта, ибо описывает идеализированную ситуацию, которая не может быть наблюдаема. А что касается того, будто бы Ньютон обходился без гипотез, то в научной литературе неоднократно доказывалось, что это не так; а Э. Мах слова Ньютона «я не делаю никаких догадок, выходящих за пределы того, что я вижу; я совсем не задумываюсь даже над тем, что выходит за пределы наблюдения» [41, c. 242] даже высмеивает, говоря, что «такое понимание Ньютон опровергает каждой страницей своих сочинений» [там же]. Во многом благодаря неверной рефлексии Ньютона над своей научной деятельности появилось ошибочное представление, будто бы истинная наука всё выводит непосредственно из опыта. Во времена господства ньютонианства это ошибочное представление и распространилось.
Между тем с метафизикой в рамках физики на протяжении долгого времени шла неустанная борьба. И главнейшую роль здесь сыграл позитивизм. Путь отказа от «метафизического хлама» – это путь, провозглашённый позитивизмом. Именно позитивизм объявил методологической установкой отказ от метафизики и сведение сферы науки к миру явлений (к феноменам). При этом О. Конт, основатель позитивизма, отнюдь не отрицал, что за миром явлений могут стоять те или иные сущности, однако они для нас непознаваемы. Он считал, что нет смысла пытаться осилить то, что человеку не под силу. Человек никогда не сможет вскрыть суть вещей, а значит, он должен ограничиваться отношениями между явлениями. И эти отношения должны выражаться в виде законов. Любые метафизические сущности должны быть из науки изгнаны, даже если они обладают объяснительным потенциалом – такова позиция Конта. При этом историю науки он истолковывал таким образом, будто бы именно феноменалистская установка оказалась продуктивной для естествознания, и что именно этой установке физика обязана своими успехами. И многие верили (и продолжают верить), что это действительно было так.
И лишь изредка внимательный взгляд исследователей всматривался в написанное Контом и изумлялся: «Да ведь всё было не так!» К таковым относится один из наиболее ярких представителей отечественной физики – О. Д. Хвольсон. Вот что он, в частности, пишет:
«По мнению Конта, история оптики учит, что теория не имела влияния на её развитие. И это писалось в 1835 г., когда работами Юнга, Френеля, Эри и Гамильтона было воздвигнуто то чудное здание, которое мы имели право поставить рядом с небесной механикой! <…> И если Конт говорит, что гипотезы никогда не должны касаться способа возникновения явлений, то ему отвечает физика, что только именно этого рода гипотезы ведут к познанию истины <…> Физика не шла, не должна идти и не пойдёт по пути, указанному Контом» [58, с. 18, 26, 30].
Построение теории уже само по себе во многом предполагает, что мы ищем некую реальность, стоящую за миром явлений. Теория объясняет мир явлений, она снимает противоречия между эмпирическими данными. И если человек принимается за построение теории, то уже изначально предполагается, что мир явлений не самодостаточен. Позитивистская же позиция, призывающая исследователя ограничиться миром явлений, теорию как таковую отрицает в принципе. Здесь только одно явление может воздействовать на другое. Но даже если такое воздействие и имеет место, то вопрос «почему» с точки зрения позитивизма неуместен – отвечая на этот вопрос, исследователь неминуемо уйдёт в метафизические размышления, так ненавистные позитивистам. Выяснение причин явлений – это уже выход за их пределы. Вполне естественно, что такой выход для позитивизма недопустим.
Метафизические сущности то и дело в физике всё же возникали, но, благодаря влиянию позитивизма, им тут же принимались искать замену. И дело не только в теплороде и абсолютном пространстве. Например, ньютоновское преставление о тяготении долгое время подвергалось критике из-за «действия на расстоянии», а такое действие есть признание некой метафизической силы. На протяжении более двух веков шли споры о существовании эфира10, и он занимал весомое место в физике вплоть до появления теории относительности Эйнштейна. Стоит особо отметить, что понятие эфира ещё существовало в первые десятилетия становления научной психологии. Тем самым отказ новой, «научной» психологии от метафизического типа объяснения не мог в полной мере сопровождаться ссылкой на естествознание.
Между тем всё то, что называют позитивистскими стандартами, далеко не всегда связано с создателем позитивизма О. Контом. Самому Конту приходилось бороться с искажением его взглядов, которое шло от рядовых позитивистов. Очень показательно то, что Конт пишет в своей работе «Дух позитивной философии»:



