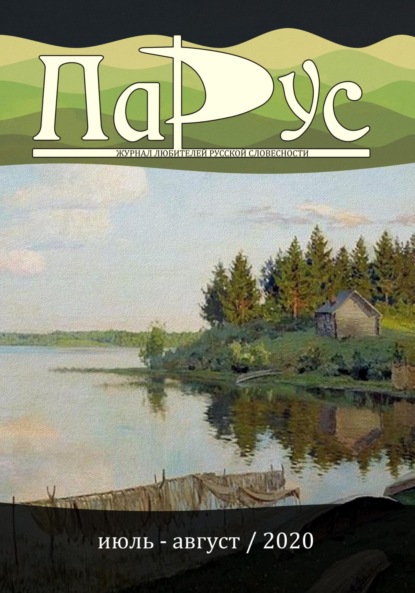
Полная версия:
Журнал «Парус» №83, 2020 г.
Как уже было упомянуто, отдельная область научных интересов Есаулова – трансформации русской классики, которые происходят при ее перетолковании в советское время, «вторичная сакрализация» советской эпохи и ее особая мистика. К этому вопросу исследователь обращался как в названных выше монографиях, так и в отдельной своей книге «Мистика в русской литературе советского периода (Блок, Горький, Есенин, Пастернак)» [Есаулов, 2002].
Еще в 1993 году Есаулов был автором одной из глав и составителем книги «“Конармия” Исаака Бабеля», опубликованной в издательстве РГГУ [Есаулов, 1993], а в 2011 году в издательстве «Св. Климент Охридский» Софийского университета вышла его монография «Культурные подтексты поэтики Бабеля» [Есаулов, 2011]. Вопреки господствующему стремлению видеть в произведениях Бабеля своего рода оппозицию победившему большевизму, ученый показывает, что творчество писателя является важнейшей частью раннесоветской литературы. Исследуя поэтику произведений Бабеля, Есаулов описывает те трансформации, метаморфозы и псевдоморфозы, которые претерпевает в них русская культура.
Однако, несмотря на всю академическую успешность в России и далеко за ее пределами – в 2005 году он к тому же получил золотую Пушкинскую медаль за вклад в развитие русской филологии, – положение Есаулова на родине было нестабильным. По воспоминаниям Ивана Андреевича, в первоначальный, «героический» период становления РГГУ там могли уживаться все – от «анархистов до монархистов». Однако постепенно «шестидесятники», оказавшиеся на первых ролях, стали сначала вытеснять на символическую периферию своих инакомыслящих коллег, а затем и вовсе изгонять их из стен заведения. Поскольку Есаулов никогда не был «партийным» человеком, а также не примыкал ни к одному из «кланов», сражавшихся за власть в университете, он со своими чрезвычайно непопулярными в стенах РГГУ научными идеями достаточно долго продержался в роли профессора. Но после смерти декана Г. А. Белой из РГГУ в 2010 году «вычистили», наконец, и его. Одной из «мотивировок», говоря языком формалистов, за неимением более веских, было «неправильное» понимание М. М. Бахтина… Оказалось, что в университете, декларирующем свою прогрессивность и демократичность, представления на самом-то деле очень советские, причем с каждым годом этот советизм нарастал7.
Незадолго до этого, когда уже нетрудно было предсказать уход из РГГУ, Иван Андреевич получил предложение от тогдашнего руководства ИМЛИ стать заведующим сектором когда-то знаменитого на всю страну отдела теории литературы. Однако не согласился с этим лестным предложением, предполагавшим назначение «по приказу», настояв на «настоящих» демократических общеинститутских выборах, которые хотя и выиграл, как остроумно сформулировал П.В. Палиевский, «в первый раз со времен Каменева», но нескольких голосов для квалифицированного большинства ему все-таки не хватило. С этого времени Есаулов сосредоточился на создании, по его выражению, структур, которые нельзя слишком просто «уничтожить» недоброжелателям: научно-образовательных электронных порталов. В настоящее время он редактирует три подобных издания, в свое время созданных при поддержке РГНФ8.
После краткого периода работы в приютившем его Московском институте лингвистики, Иван Андреевич возглавил им и организованную кафедру русской словесности Российского православного университета Иоанна Богослова и стал директором Центра литературоведческих исследований того же университета.
В 2012 году тогдашний ректор Литературного института им. А.М. Горького Борис Николаевич Тарасов пригласил Ивана Андреевича на кафедру русской классической литературы и славистики, где он и работает в должности профессора по настоящее время. С писательским миром Ивана Андреевича связывает и то, что с 1995 года он стал членом Союза писателей России (вступив туда не в период материального благоденствия Союза, а во время призывов его разогнать), а с 2017-го – русского ПЕН-центра (во время аналогичной медийной кампании против уже этой организации): так что в обоих случаях это «членство» было своего рода протестной акцией.
В 2012 году вышла монография Есаулова «Русская классика: новое понимание» (переиздана в 2013-м и – дополненная четырьмя новыми главами – в 2017 г.) – «монументальный итог многолетней напряженной работы исследователя» [Звонарева, 2012: 5]. Этот труд целостно представил новую концепцию истории русской литературы, базирующуюся на описании доминантного для России типа христианской духовности. Отечественная словесность рассматривается здесь в большом времени русской православной культуры. «Как это принято в подобных типах дискурса, методологическая экспликация авторских позиций представлена в форме полемики, в которой в духе сократовской майевтики рождаются научные истины. В этом смысле Есаулов показал себя как прекрасный знаток не только русского литературоведения, но и западных постструктуралистских теорий <…>. Многие ее (книги. – Ю. С.) идейные посылы могут стать побуждением к иному изучению других литератур, возникших в рамках православного наследия, к примеру, сербской литературы. Кроме того, несмотря на методологические рамки и строго очерченный материал, отдельные прочтения настоящей книги открывают возможности для иных толкований и “не-русских” или неправославных авторов, хотя и в несколько ином ключе» [Попович: 218, 222–223]9, – замечает профессор Белградского университета Таня Попович.
Новое понимание Есауловым русской классики базируется на разработанной им в предыдущих трудах оригинальной концепции истории отечественной словесности. Смыслы художественных текстов проясняются через детальный анализ их поэтики, который основывается на новых филологических категориях с учетом большого времени русской православной культуры. Категории эти, как подчеркивает автор, не «выдуманы» им и не навязаны русской литературе и культуре извне, но органически выведены из ткани самих художественных произведений. Православные ценности, как показывает ученый, столь глубоко прошли в ткань русского бытия, что проявляются в литературе не только осознанно, но и глубинно, исподволь, порою даже вопреки рациональной воле и установкам писателей. Так, через анализ поэтики Есаулов приходит к выводу, что подлинным смыслом «После бала» Л. Толстого оказывается не обличение «недолжной» царской России, но оскудение любви в душе самого рассказчика.
Особое внимание в книге уделяется национальному образу мира, наличию православного кода и культурного бессознательного в поэтике произведений. Углубляя и расширяя сделанные ранее наблюдения над древнерусскими текстами, Есаулов рассматривает особенности «перехода» русской литературы от Средневековья к Новому времени (специально останавливаясь на оде Державина «Бог»). Отдельные главы ученый посвящает творчеству Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Толстого, Салтыкова-Щедрина, Островского, Чехова, Блока, Горького, Есенина, Платонова, Пастернака, а также писателям русского зарубежья (Бунину, Шмелеву и Набокову).
Научные взгляды и оценки Есаулова обсуждались на самых разных научных мероприятиях как в России, так и за рубежом. В качестве центральных они выносились на обсуждение в рамках проводимых им самим при участии Балтийского университета им. И. Канта на морском побережье в Раушене-Светлогорске международных Балтийских семинаров-дискуссий (их темы: «Архетипы русской литературы: поиск традиции», «Карнавал и карнавализация в литературе: юродство и шутовство», «Народная культура и православие», «Родное и вселенское»). Организатор подчеркивал, что замысел этих встреч был таким, чтобы они несколько напоминали знаменитые «летние школы» при Тартуском университете, «только были лучше», свободнее, ибо дискуссии разгорались не «внутри» единой научной парадигмы («структурно-семиотической» в тартуском случае), но возникали от столкновения принципиально различных научных подходов. На последнем, V Балтийском международном семинаре-дискуссии «Структуры повседневности и творческий эксперимент в русской словесности, философии, культуре» [см.: «Структуры повседневности…»] (двенадцатая по счету международная конференция, организованная Иваном Андреевичем) была презентована новая монография «Постсоветские мифологии: структуры повседневности», впоследствии отмеченная Бунинской литературной премией (2016). Своего рода «данью» ученого малому времени постсоветской повседневности – отдав которую можно было уже всецело погрузиться в большое время и писать о «вечном» (см.: [Есаулов 2020 (а)]) – стала монография «Постсоветские мифологии: структуры повседневности», впоследствии отмеченная Бунинской литературной премией в 2016 г. В предисловии Есаулов отсылает читателей к «Диалектике мифа» Лосева и «Мифологиям» Р. Барта и в дальнейшем использует исследовательские стратегии того и другого авторов. Книга вобрала в себя блоговские заметки ученого «на злобу дня» из особого раздела электронного портала http://esaulov.net, в которых демонстрируются различные формы современных «относительных» мифологий, комментарии читателей к ним, а также диалог автора с этими читателями. Во вторую часть книги «Аксиология русской культуры» включены избранные научные работы Есаулова за четверть века (в основном, острополемического характера), подчеркивающие неизменность его позиции, выдержки из интервью исследователя и фрагменты рецензий на его монографии (как хвалебные, так и ругательные).
В 2017 году вышли две большие научные работы Есаулова, где он выступил и как автор, и как редактор или составитель. Обе они направлены на осмысление отечественной литературы и культуры в мировом контексте, обобщение и систематизацию разнообразных ее оценок, перетолкований, трансформаций. Это коллективная монография «Русская классическая литература в мировом культурно-историческом контексте» (в соавторстве с Б. Н. Тарасовым, А. Н. Ужанковым, Ю. Н. Сытиной и др.) и составленный совместно с Т. Г. Петровой в рамках серии «Русский путь» том «Русская классика: pro et contra. Железный век, антология» с концептуальной вступительной статьей Есаулова «Рецепция отечественной классики в период русской Катастрофы».
В самое последнее время интересы ученого сосредоточились на генерализации категории парафраза и развитии оригинальной научной гипотезы, согласно которой «становление новой русской литературы происходит вследствие не однонаправленного, а двунаправленного воздействия на нее различных по своему происхождению культурных токов». Русская литература петровской и последующей эпох, таким образом, развивается как «“перевод” существующей православной культурной модели как таковой на “язык” Нового времени, а также параллельный ему “перевод” новоевропейских культурных форм на складывающуюся русскую литературу» [Есаулов, 2019(b): 30], (см. также: [Есаулов, 2020(b)]). Эта концепция – и органическое продолжение прежнего понимания Есауловым русской литературы, и попытка осмыслить ее одновременно в западноевропейском культурно-историческом контексте.
Концепции, идеи и интерпретации Есаулова имеют богатый научный потенциал, и, несмотря на попытки части постсоветского гуманитарного сообщества активного сопротивления им, они прорастают в филологических трудах его коллег и последователей, используются в преподавании, учитываются при переиздании произведений русских классиков.
Список литературы
1. Вахрушев В. С. Письмо провинциала // Новое литературное обозрение. – 1998. – № 34. – С. 434–436.
2. Вахрушев В. С. Пасхальность и литература // Волга-XXI век. – 2006. – № 3–4. – C. 215–217.
3. Гудков Л. Д. Амбиции и ресентимент идеологического провинциализма: Есаулов И. А. Категория соборности в русской литературе. – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1995 // Новое литературное обозрение. – 1998. – № 31. – С. 353–371.
4. Дарвин М. Н. Всесоюзный студенческий конкурс на лучшую научную работу по филологии // Филологические науки, 1984. – № 5 – С. 89–91.
5. Есаулов И. А. К разграничению понятий «целостности» и «завершенности» // Литературное произведение и литературный процесс в аспекте исторической поэтики. – Кемерово: КемГУ, 1988. – С. 15–23.
6. Есаулов И. А. Категория соборности в русской литературе. – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1995. – 288 с. (a)
7. Есаулов И. А. Культурные подтексты поэтики Исаака Бабеля. – София: Университетское издательство «Св. Климент Охридски», 2011. – 72 с.
8. Есаулов И. А. Мистика в русской литературе советского периода (Блок, Горький, Есенин, Пастернак). – Тверь: Тверской университет, 2002. – 68 с.
9. Есаулов И. А. Мифологии А. Ф. Лосева в большом и малом времени русской культуры // Философ и его время: к 125-летию со дня рождения А. Ф. Лосева. XVI Лосевские чтения. – М.: МАКС Пресс, 2019. – С. 737—740. (a)
10. Есауловъ И. А. О любви. Радикальныя интерпретаціи. – Магаданъ: Новое Время, 2020. – 216 с. (a)
11. Есаулов И. А. О Сцилле либерального прогрессизма и Харибде догматического начетничества в изучении русской литературы // Проблемы исторической поэтики. – 2008. – Вып. 8. – С. 606–660.
12. Есаулов И. А. От великой русской литературы осталась разве что маленькая часовенка: [Интервью] // Православие и мир. – 2013. – 17 апреля [Электронный ресурс]. – URL: https://www.pravmir.ru/ivan-esaulov-ot-velikoj-russkoj-kultury-ostalas-razve-chto-malenkaya-chasovenka/
13. Есаулов И. А. Парафраз и становление новой русской литературы (постановка проблемы) // Проблемы исторической поэтики. – 2019. – Т. 17. – № 2. – С. 30–66 [Электронный ресурс]. – URL: http://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1561976111.pdf (15.10.2019). DOI: 10.15393/ j9.art.2019.6262 (b)
14. Есаулов И. А. Постсоветские мифологии: структуры повседневности. – М.: Академика, 2015. – 608 с.
15. Есаулов И. А. Родное и вселенское в «Мертвых душах» Н. В. Гоголя: парафрастический контекст понимания // Проблемы исторической поэтики. – 2020. – Т. 18. – № 1. – С. 175–210 [Электронный ресурс]. – URL: http://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1582894223.pdf (15.10.2019). DOI: 10.15393/j9.art.2020.7322 (b)
16. Есаулов И. А. Русская классика: новое понимание. – 3-е изд., испр. и доп. – СПб.: Изд-во РХГА, 2017. – 550 с.
17. Есаулов И. А. Спектр адекватности в истолковании литературного произведения: «Миргород» Н. В. Гоголя. – М.: Изд-во РГГУ, 1995. – 102 с. (b)
18. Есаулов И. А. Этическое и эстетическое в рассказе «Пан Аполек» // «Конармия» Исаака Бабеля. – М.: Изд-во РГГУ, 1993 (в соавторстве с Г. А. Белой и Е. А. Добренко). – С. 102–117.
19. Есаулов И. А., Сытина Ю. Н. Объяснение, интерпретации и понимание в изучении и преподавании литературы // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Филология. Журналистика. – 2019. – № 2 (42). – С. 21–25.
20. Захаров В. Н. Православные аспекты этнопоэтики русской литературы // Проблемы исторической поэтики. – 1998. – Вып. 5. – С. 5–30 [Электронный ресурс]. – URL: http://poetica.pro/journal/article.php?id=2472 (15.10.2019). DOI: 10.15393/j9.art.1998.2472
21. Звонарева Л. Большое время // Книжное обозрение. – 2012. – № 17 (2341). – С. 5.
22. Кораблев А. А. Книга о Воскресении // Подходы к изучению текста. – Ижевск: Удмуртский госуниверситет, 2007. – С. 301–307.
23. Сергеев С. М. Пасхальный архетип русской культуры // Москва. – 2005. – № 7. – С. 171–177.
24. Сорокин П. А. Дальняя дорога: Автобиография. – М.: Моск. рабочий; ТЕРРА, 1992. – 315 с.
25. «Структуры повседневности и творческий эксперимент в русской словесности, философии, культуре» (V Балтийский международный семинар-дискуссия) / Есаулов И.А., Киселева И.А., Сытина Ю.Н., Степанян Е.В., Коршунова Е.А., Михаленко Н.В., Гильмахов В.Х. // Вестник Московского государственного областного университета. – 2015. – № 3. – С. 1–45. [Электронный ресурс]. – URL: https://evestnik-mgou.ru/ru/Articles/View/703 (15.01.2020)
26. Поповиħ Т. Ново читање руске класике // Зборник Матице српске за славистику. – № 84. – Нови сад, 2013. – С. 217–223. На сербском языке
27. Terras Victor. A Christian Revolution in Russian Literary Criticism // Slavic and East European Journal. – 2002. – Vol. 46. – No. 4. – Pp. 769–776.
Публицистика
Михаил НАЗАРОВ. Референдум о доверии Путину «обнулил» только его, но не Великую криминальную конституцию
Не стану в очередной раз доказывать, что данная конституция 1993 г. трижды нелегитимна как утвержденная в результате вооруженного государственного переворота с нарушением предписанной законом процедуры референдума, без обсуждения текста и с грубой фальсификацией итогов голосования. И поэтому сейчас разбирать всякие там «нарушения» при голосовании и упаковке бумажек – несерьезно, тем более при полной бесконтрольности публикуемого конечного итога.
Данный краткий комментарий о другом: о состоянии нашего общества и государства. Победные заявления властей о всенародной поддержке «поправок» дают этому наглядную иллюстрацию, утверждая о вступлении страны в некий качественно новый период. Так ли это, и если да – в чем он новый?
Говорить о новой «путинской» конституции нет оснований. Остались в неприкосновенности основные положения ельцинской Великой криминальной конституции (о чем заранее говорилось в Аналитическом заявлении Главного Совета Союза Русского Народа по «поправкам» в конституцию):
‒ не определены смысл и цель существования государства и сохранен запрет на государственную национальную идеологию (статья 13), каковая может заключаться только в исторических духовных ценностях государствообразующего народа, основанных на Православии (и оно тоже запрещено как государственная религия – статья 15, которая полностью перечеркивает и беглое упоминание вскользь о вере в Бога, переданной нам предками; какими предками и в какого Бога?);
‒ сохранена уравнительно-показная формулировка (статья 3) о многонациональном народе РФ как «единственном носителе суверенитета» с перечислением (в статье 65) национальных образований всех народов по имени, за исключением русского. При этом в преамбуле конституции провозглашаются «общепризнанные принципы равноправия и самоопределения» народов, однако по-прежнему отсутствует упоминание русского народа как государствообразующего (а не просто как носителя государственного языка), отсутствует и констатация того, что русский народ незаконно расчленен коммунистами и имеет законное право на воссоединение в соответствии с международными нормами;
‒ сохранена статья 15 пункта 4 о преобладании международных законов над внутрироссийскими (с отдельно размещенной в отдаленной статье 79 формальной и растяжимой оговоркой о том, что это не должно противоречить основам конституционного строя РФ);
‒ без всяких поправок и оговорок остается статья 9.2: «Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности», – при этом не уточняются пропорции между этими видами владения, сильно перекошенные со времени прихватизации;
‒ подчеркивается преемственность государства РФ от богоборческого оккупационного СССР (статья 67.1) и провозглашается «защита исторической правды» (статья 67.1.3) в советской коммунистической ее трактовке. Это обеспечивает власти «конституционную» основу для дальнейшей фальсификации истории и восстановления советской идеологической историографии как государственной.
Множество завлекательных поправок нисколько этого разрушительного содержания ельцинской конституции не отменили. И теперь бросается в глаза такая особенность: если в стадии рекламы поправок по ТВ муссировались индексация пенсий, забота о медицине и культуре, защита границ и животных, при лукавом умалчивании Главной Поправки, – то теперь прорвался наружу маскировавшийся главный смысл всего этого затратного мероприятия: нескрываемый шквал восхвалений того, что это был «триумфальный референдум доверия Путину» (так выразился Песков). И сам президент выразил «искреннюю благодарность народу за оказанное доверие», признав при этом «существующие недостатки» и оправдывая их тем, что 30-летний срок существования новой демократической РФ слишком мал в историческом масштабе для их полного исправления. (Разумеется, и 20-летний срок его личного правления в богатейшей стране мира для этого исторически мал, поэтому и нужно «обнуление» с продлением президентских отеческих забот о народе и об олигархах.)
Видимо, именно поэтому за неделю до голосования президент издал «Указ о национальных целях развития России до 2030 года»:
«а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей;
б) возможности для самореализации и развития талантов;
в) комфортная и безопасная среда для жизни;
г) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство…».
Ранее президент почему-то не предполагал, что в этом и заключается обязанность государства. Или президент надеется, что народ уже забыл о провале предыдущих таких же «национальных проектов» за 20 лет его власти? Или всё это в очередной (кажется, уже в третий) раз провозглашается для осуществления нового пункта «д) цифровая трансформация»?
Измененную конституцию теперь прямо называют «путинской», и она приблизила состояние государства РФ к откровенной формулировке В. Суркова в его идеологической программной статье «Долгое государство Путина»: «Перенятые у Запада многоуровневые политические учреждения у нас иногда считаются отчасти ритуальными, заведенными больше для того, чтобы было, “как у всех”, чтобы отличия нашей политической культуры не так сильно бросались соседям в глаза, не раздражали и не пугали их. Они как выходная одежда, в которой идут к чужим, а у себя мы по-домашнему, каждый про себя знает, в чем. По существу же общество доверяет только первому лицу». Вот и голосование по внесению поправок в обновляемую с этой целью конституцию «носит ритуальный характер» по отношению к первому лицу.
Элла Памфилова подтверждает ритуальность показательного всенародного голосования, которое в принципе по закону не требовалось: «…поправки в Конституцию легитимны и не требуют, согласно действующей Конституции, мнения и одобрения народа. Ибо при принятии поправок действующее законодательство вообще не предусматривает голосование россиян. Достаточно одобрения Совета Федерации и подписания указа. Однако, по ее словам, Главу Государства не устроило это положение и своей политической волей он принял решение о проведении общероссийского голосования с целью услышать голос народа. “Это достойно большого уважения” к Президенту», – так глава ЦИК объяснила суть ритуала. Да и обновленный текст был отпечатан и поступил в продажу еще до всенародного голосования.
Согласно официальным данным, этот ритуал дал такой результат: 77,92 % за – 21,27 % против. Пропагандисты подчеркивают, что «такого не было с принятием ельцинской конституции». Разумеется, к официальным данным нынешних властей доверие может быть таким же, как и к официальным данным при Ельцине: возможность проверить их правдивость отсутствует. Но давайте всё же разберемся и в официальной арифметике.
Число избирателей в РФ на первую половину 2020 г. составило 110,6 миллиона (округленно). Из них приняло участие в голосовании (официально объявленная явка «достигла 65 %») – 71,89 миллиона. Из них 77,92 % выразили доверие Путину – это 56 млн человек, то есть 50,6 % всех избирателей. Негусто. А если учесть тот позорный факт, что в результате «российско-американской совместной революции» 1991–1993 гг. десятки миллионов наших соотечественников оказались брошенными за пределами РФ, лишены российского гражданства и возможности голосовать, то «путинскую» конституцию одобрила лишь треть наших соотечественников, и в этом она не слишком далеко ушла от ельцинской.
Так что же она дала нового? В чем «уникальность нового периода в истории России» (как воскликнул председатель Госдумы Володин)? Разве что в новом уровне маскировочной изворотливости с жонглированием слов о «языке государствообразующего народа» (без конституционного признания такового народа) и с упоминанием Бога всуе (что тут же аннулируется декларацией о преемственности от богоборческого СССР).
Таким образом, повторим наше прежнее заключение: нынешняя обновленная конституция – это по-прежнему всего лишь фиговый листок, декоративное «легитимирующее» прикрытие власти, захватившей Россию в ходе «российско-американской совместной революции» (как откровенно назвал Ельцин свой антиконституционный госпереворот). На таком нелегитимном основном законе невозможно построение здорового государства – и практика РФ это наглядно подтверждает. Столь беззаконная конституция является источником идущего сверху государственного беззакония (при котором даже многие положения конституции не исполняются), системообразующей коррупции, чиновничьей преступности и безнаказанности. И власть всё топорнее маскирует «демократией» платье голого короля.



