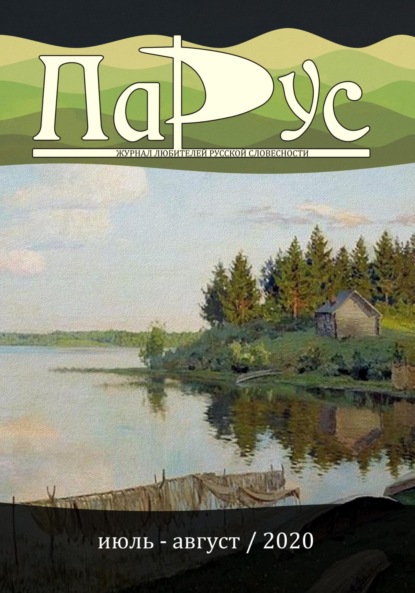
Полная версия:
Журнал «Парус» №83, 2020 г.
Играет он с моими волосами,
Ласкает их незримыми руками…
Тоскую, по рукам твоим тоскую.
Ты изменил весь мир бесповоротно,
И я в него влюбилась сумасбродно,
И стала понимать его свободно…
Тоскую, по мечтам твоим тоскую.
Мои виски покроет снег зимою.
От холодов спасусь я лишь с тобою.
На всех путях, истоптанных толпою,
Тоскую, по следам твоим тоскую.
СЕДОЙ ЛИСТ
Светила зимняя луна,
Когда средь дум заветных
Бродила я совсем одна
Вдоль городских проспектов.
Холодный ветер под луной
Свистел и выл, неистов…
Шуршал под каждой из чинар
Ковер опавших листьев.
Порою даже танцевал
Лист палый чуть заметно…
И вдруг прилип к моей руке
Лист, спасшийся от ветра!
О, это был не просто лист,
А мастера творенье:
Весь желто-красный, с сединой…
Красив на удивленье!
И в то же время было в нем
Так много грусти тайной,
Что я смутилась, разглядев
Подарок тот случайный.
Откуда грусть? Моя душа,
Как лист, затрепетала.
Прижав его к своей груди,
Я с робостью сказала:
«Ты почему ко мне прильнул?
Сказать мне что-то хочешь?
В тоску вгоняешь ты меня
Или беду пророчишь?
Иль, увидав, что под луной
Душа родная бродит,
Мне намекаешь, что зима
В мои года приходит?»
Но лист молчание хранил.
Согревшись под руками,
Молчал, как смолкшая свирель,
Забытая веками.
И как ни гладила его
Я под луною зимней,
Взлетел он – и растаял вмиг
В небесной бездне дымной.
Вот так и я: взметнется вихрь —
Прильну к кому-то смело…
Но кто меня погладит так,
Чтоб я не улетела?
Художественное слово: проза
Леонид МАЧУЛИН. Угорка. Не жена садовника
Рассказы
Угорка
Год, когда мы с ней познакомились, был урожайным на сливы. Ветки угорки гнулись до земли, сливы, как голубика, стелились под каждым деревом. Такого же прозрачно-синего цвета были ее глаза. Они лучились и искрились от постоянной улыбки, но я, благодаря своей бабушке, к тому времени был опытным садоводом и знал, что не бывает дня без ночи…
Моя бабушка звала меня почему-то «унучек» и мне нравилось это неправильное произношение. То ли интонациями, то ли фонетическими вибрациями «унучек» согревало, приближало, роднило – от него становилось тепло и умиротворенно. Подсознательно, не вспоминая о бабушке, я про себя стал называть свою новую знакомую – Лучик, ассоциативно-фонетически, что ли…
Мы вместе, практически в один день, устроились на работу в редакцию новой газеты. Спустя время, вспоминая те дни, я понял, что остался в коллективе только из-за нее – он был набран с нуля и, как новобранцам, призванным на службу, ему предстояло пройти еще много испытаний. Да и газетный проект казался малоперспективным. Но там была она – я остался.
Редакция начала работу в сентябре и буквально через месяц, разгадав секрет своего Лучика, я принес на работу ведро угорки. В обеденный перерыв мы устроили чаепитие со сливами. Я сидел напротив нее и в роли садовода делился со всеми сливовыми секретами, говоря при этом о «своем» Лучике в аллегорической форме.
– Моя бабушка из фруктов больше всего любила сливы. И не какие-нибудь сортовые, например, «Анна Шпет» или «Ренклод», огромные, как яблоки, мы с детьми называли их почему-то «гливами», а самую простую угорку. Гливы брызгались сладким сиропом, с трудом влезали в детский ротик, и я их тоже недолюбливал. А вот угорка… Она много чего мне порассказывала, моя бабушка, царство ей небесное. Кстати, вот вы что любите? Груши? Яблоки? Банан?? А вот я где-то читал, что по калорийности слива превосходит яблоки и груши, абрикосы, смородину, малину и землянику…
– Да, – продолжал я мечтательно, – она невысока, конечно, яблони вон порой вырастают выше второго этажа, но и не низкоросла, как, скажем, вишня. Многие садоводы ценят ее за скороплодность – сливы начинают плодоносить уже с четырех лет, и за высокую урожайность. Что правда, то правда, с одного взрослого дерева я, к примеру, собираю пять-шесть ведер. Но мне она нравится по другой причине – из-за вкуса, красоты, выносливости. Когда осень вступает в свои права и сад уже теряет листву, когда холодные пасмурные дни мало чем отличаются от темных ночей с заморозками, тогда на дереве или под ним, в траве, еще можно найти одинокие сливы – уже слегка подсушенные или, наоборот, тугие, с мякотью. Возьмешь такую сливу с рот и блаженствуешь от ее вкусового букета… А еще мне нравится, что она – сама по себе. Вроде как бы со всеми растет, в одном саду, и цветет вместе с яблоней, грушей, вишней, но при этом не лезет на глаза, поспевает в конце сезона, когда люди уже наелись фруктов. И достается только особым ценителям…
– Конечно, – замечал я, посерьезнев, – слива очень требовательна к условиям питания, а вот помнят ли о ней хозяева, в чьих садах она растет? Поливать ее следует постоянно и регулярно, за что она воздаст сторицей тому, кто о ней не забывает… Независимая, гордая слива любит тепло, солнце и влажную землю. А что не любит? Больше всего – суровые зимы и сильные морозы. Даже весной, когда, казалось бы, всё вокруг зеленеет и радуется жизни, легкий ночной заморозок в воздухе может навредить ее завязи…
– А вы думаете, – восклицал я, не давая слушательнице опомниться, – собирать сливы легко? Нет, это очень даже непросто, по-особенному. Слива – не мелкая, как вишня, от которой быстро устаешь, собрав полведра. И не крупная, как яблоки, которые наполняют ведро за пять минут. Слива, она вроде как и внимания просит, но и ведро можно набрать не запыхавшись. Хотя при этом надо постоянно помнить, что угорка, на самом деле, хрупкое дерево. На него не залезешь спроста, как на яблоню, абрикосу или черешню… Вот подует сильный ветер – яблоня склонилась, потом выпрямилась. Вишня – веточки свои по ветру направила и дальше стоит как ни в чем не бывало. А угорка может хрустнуть от порыва ветра – и всё тут! Или со стремянки ногу на ветку поставил неосторожно – и сломалась ветка. Да что там!.. даже веточки, коими весь ствол и боковые ветви усеяны, ломаются мгновенно – чуть тронь!
– Так что, – подытоживал я, – больше всего из фруктов я, как и моя бабушка, люблю сливу-угорку…
…Интуиция меня не подвела. Газетный проект закрылся через несколько месяцев. Этого времени мне хватило, чтобы литературную аллегорию воплотить в реальную жизнь, в которой поменялось практически всё:
Мне в душу повеяло жизнью и волей:
Вон – даль голубая видна…
И хочется в поле, широкое поле,
Где, шествуя, сыплет цветами весна!
Не жена садовника
Ранним утром, в четыре часа восемнадцать минут, поднялся ветер. Он пришел ниоткуда, легкий и невесомый вначале, за несколько минут окреп и даже принес какую-то прохладу. Было удивительно осознавать, что ты присутствуешь при рождении ветра, явившегося из неподвижного, липкого воздуха. Это было похоже на то, как дельфин взлетает из морской пучины в сверкающую синеву дня, но в отличие от дельфина ветер не исчез и стал набирать силу.
Я отметил время появления рассветного ветра, потому что спал под распахнутым окном, на полу, у цветочного горшка с пальмой; сон был тревожным и даже не похожим на сон, скорее это была дремота; жара минувшего дня не уходила и за полночь; но может быть, вовсе не липкая, удушливая жара не давала мне спать, а что-то из прошедшего дня? Взяв простыню и подушку, я ушел спать под окно, где было чуть свежее просто из-за движения воздуха; улегся на пол, ощущая свои кости, и долго успокаивал себя тем, что бомжи так спят всю жизнь, и ничего, привыкли; пытался прогнать откуда-то залетевшую фразу: «Ты не жена садовника, пожалуйста, не забывай об этом». И тут вспомнил про звонок из Вашингтона. Лиза говорила, что там стоит примерно такая же жара, на что я ей ответил: у вас только на стритах нет кондиционеров. Мы долго смеялись; а потом я ругал себя за лень, по причине которой до сих пор не установил себе это благо цивилизации. А может, не из-за лени, а потому, что всё никак не мог решить – полезно оно или нет. Я думал о том, что днем надо будет все-таки дозвониться в Прагу и выяснить всё про университет, слушал жалобные стоны суетной морской свинки, скучающей о моей дочери, бросившей всё и уехавшей отдыхать на море, потом поднимался в темноте к холодильнику, делал себе frounch из кагора и минералки, залпом выпивал мгновенно запотевший стакан освежающей жидкости, понимая, что это шаг к ангине; закусывал абрикосами, бросал их косточками в кошек, разгуливающих по крыше сараев под окном, размирял двух котов, с грозными воплями дерущихся за право быть основным женихом у одной из кошек, снова ложился на пол, ворочался, выбирая позу поудобнее; пытался найти что-то равноценное фразе «Ты не жена садовника», чтобы клином вышибить клин, и даже спал какие-то минуты, точнее – проваливался в забытье, из чуткого провала которого и вынырнул как раз в то мгновение, когда из ниоткуда вдруг родился ветер. Это было так неожиданно, что я тут же взглянул на часы и отметил: четыре часа восемнадцать минут; подумал, что это может быть знак, что теперь, вместе с легкой прохладой, можно перебраться в постель. И уже оттуда, с комфортного ортопедического матраса, улетающим сознанием отметил, что ветер набирает силу, что вместе с рассветом он начинает новый день, шумы которого сразу же стали явно нарастать: зазвучали голоса птиц, послышался перестук колес поезда, уходящего из Сортировки, становились громче и уличный гул машин, и невнятные голоса людей. И только после всего этого мне стало окончательно ясно, что наступивший день будет не таким, как вчера, и что она не жена садовника…
Судовой журнал «Паруса»
Николай СМИРНОВ. Судовой журнал «Паруса». Запись восемнадцатая: «Колымский полушубок»
Необъяснимый, затерянный мир… По серому снегу, в котором темнеют обломки и ощепки сучьев, тащится мой отец. Он идет в гору, к домушке – леппункту, он думает, что прежний фельдшер хорошим был мужиком. Теперь на его месте кто-то новый. Такой, что лучше, говорят, не подходи…
Распахнулась обитая телогрейками дверь, и косяки были утыканы для тепла тряпками – встал на пороге новый фельдшер.
Отец ждал и боялся: откуда этот страх, спокойный, привычный, точно природный, всегда обтекающий душу, как холодная вода?.. Его серые, в один цвет с мертвыми лиственницами глаза смотрели на фельдшера – сказать он еще ничего не успел. Слабость, боязнь, все внутреннее, душевное точно отделилось во внешнее. Фельдшер стоял – мордастый, высокий на фоне низенькой двери, в белом хорошем полушубке.
– Заболел? – спросил фельдшер.
– Не могу, понос… – подхватил на лету его слово отец.
– А какая статья? – спросил фельдшер.
– Пятьдесят восьмая! – опять, будто допрыгивая до фельдшера, слабо выкрикнул отец.
Тупо, с ватным стуком хлопнув дверью, фельдшер ушел. Отец ждал. Фельдшер выскочил с кочергой:
– Пятьдесят восьмая, а он, сука, еще лечиться ко мне пришел! Вот, гадов, чем вас лечить надо!
Отец побежал. Трудно было бежать в таком обессилевшем теле и странно, будто толкало, несло его ветром по заледеневшему снежку с горушки. Хорошо, что фельдшер сделал только несколько шагов вослед, а потом кричал и махал кочергой, пугая, что догонит.
Нет, прежний фельдшер хороший был мужик. Смеялся: «Я, Вася, дам тебе освобождение, а ты ляжешь и больше не встанешь, припухнешь. Не захочешь больше вставать»…
Вечером в бараке отец обрезал корки с накопившихся паек: два дня уже почти ничего не ел. А мякиш обменял на кружку самого крепкого чая – чифира. Выпил с черными горелыми корками…
На другой день ему стало легче. Валили лес, бревна на волокушах подтягивали к ямам, где тлели, вытаивая грунт, костры, и страшно было войти в их тепло. Потом отойдешь от костерка – весь день не согреться: всего трясом трясет.
Ямы в талом грунте били ломами, ставили в них тяжелые, из лиственниц, столбы, соединяли их бревенчатыми упоринами и на устоях спускали вниз долгий, дощатый желоб промприбора для промывки золота. Несмотря на свежий, тесовый цвет, новое сооружение казалось какими-то руинами.
Прошло еще два месяца, но до колымского лета было пока далеко, а отец мой не только выжил, но и поставили его бригадиром. И, ворочая сталистыми глазами:
– Ну, гад, давай-давай! – кричал он тому самому фельдшеру, которого выгнали из леппункта и сунули к нему в бригаду валить лес. А он и действительно фельдшер, а не чернушник: за бревно не знает взяться с какого конца, и обращается на «вы»…
– Давай, давай, гад! Кто за тебя работать будет? – и поддавал ему сзади ногой под белый полушубок. Тянуло его на костерок: не успеешь отогнать – он уже снова у костерка сидит. И ударов, как сноп, не чувствует…
– Давай-давай, гад, вставай!
А то припухнешь – это он добавлял уже про себя. Это не отражалось даже в его глазах. Глаза были такими же, как и этот серый, дикий, в вялых линиях сопок, зимний мир, помеченный убогими строениями и столбами с колючей проволокой.
Утром фельдшер не встал. Как ткнулся к железной печки-времянки в ящик с песком – так и лежит. Отец не стал подымать его. И другие привычно проходили мимо. Вечером пришли в барак – фельдшер лежит все так же, вниз лицом у печки. Перевернули от черного пола. Так и есть: припух.
Где-нибудь там, на материке, на Волге, уже и была весна, а здесь только солнце стало больше и сильнее, и казалось, что из-за него злится, не уступая, мороз. Отец мой уже, наверно, не вспоминал про фельдшера, думал, как бы получить новую спецовку. По первой зиме, гады, спецовки вообще не давали: работай в чем хочешь! Теперь завскладом, хороший такой мужик, говорит:
– Сейчас, Вася, я тебе принесу… Давно для тебя берегу…На, расписывайся.
Отец посмотрел на белый, хороший полушубок, узнал:
– Нет, этого полушубка мне не надо… Давай другой.
– Да ты что? Специально для тебя берег, – смеется, щупая покойницкий фельдшеров полушубок, завскладом.
– Нет, – говорит отец, – давай какой хочешь, но только не этот…
– Ну, на другой, – удивляется недовольно завскладом, – бери, этот, черный – лучше нет… Все одинаковые…
А до весны уже недалеко. А за ней лето, снова зима, война, возвращение на Волгу широкую… Смерть от инфаркта… И так прошло семь десятков лет с тех времен «Юбилейного» и Хатаннаха.
…Три дня шли дожди. А сегодня день, наконец-то, солнечный. Мир – светится. Трава волнуется, сияет; пышное облако точно улыбается со всем небом… Да и всё улыбается с любовью, в сиянии, – мир свят… Долго же человеку идти к святости, чтобы так засиять… Радуюсь я, несмотря на то, что вчера меня клещ укусил и я иду «на уколы».
Инфекционное отделение, оно на задах больницы в пустом, большом дворе – вход сюда посторонним воспрещен. Но сегодня двери не заперты изнутри. На бетонных крутых ступеньках крыльца – плески свежие крови, будто нарочно кто-то шел и плескал её безжалостно…
На шахматном, плиточном полу у столика с диванчиком раскинулся человек, вокруг те же пятна и лужа свежей крови. Слабосильная тетка, санитарка, с лицом, какие обычно и бывают у таких работниц, озабоченно пытается как-то перевалить его тело на брезентовые носилки. Тело мягкое, не остывшее, не поддается… Еще одна на помощь подошла… В резиновых, по локоть перчатках обе.
– Я бы вам помог его навалить, – говорю я неуверенно, – но боюсь заразиться… Вы, вон, в перчатках… А снести на носилках – помогу…
Они протащили его в двери кое-как и поставили носилки на крыльцо.
– Вонища… обо…… – сказала озабоченно одна, поменьше, поусталее. И пока не вышел врач, успела раздражительно рассказать мне, что он притащился с той стороны Волги, из села. Жил там без документов. Переехал на пароме, дожидался приема у терапевта, врачиха закричала: вы знаете, что у вас открытая форма, а сюда идете… Немедленно в инфекционное отделение!
Он вошел в этот пустой бетонный двор, поднялся по крутым, узким ступенькам, нажал на черную кнопку звонка… И у него кровь пошла горлом… С диванчика, куда его усадили, упал – и готов!
Я не запомнил его… волосы, как прошлогодня трава, серая кожа – пустота вместо лица. Точно и не было у него лица – а сначала, сразу – вся жизнь чужой души кругло, законченно коснулась меня. Потом вижу: теткам-то не снести такую тушу с крутых ступенек… Машина подошла, шофер снизу смотрит выжидательно…
– Вы вдвоём беритесь сзади, а я спереди, – сказал им решительно. И, перешагивая через яркие, так и не тускнеющие росплески, стащили носилки с ним к машине…
Укол сделали, тороплюсь на работу. И еще неделю приходил сюда, всё посматривал: кровь смыли, потускнели пятна, но различались… И вспоминал, как мой отец на Колыме лечился. Как шел по зоне, а на столбе висит удавленник, самоубийца, перерезал веревку, обыскал… нашел ложку и корку хлеба… корку тут же съел, а его оставил: подберут… Я с детства удивлялся на эту картину и будто чувствовал вкус той противной, мертвецкой корочки во рту… А теперь я сам перешагиваю через росплески туберкулезной крови. Говорят: эпидемия, много таких… И никого это теперь не удивляет.
Стоят жаркие, солнечные дни. Вокруг, за Волгой, ходила гроза, собирались светящиеся, теплые облака в высоте, но дождя так и не принесло… Очень хорошо, празднично в природе. И уже в памяти только и осталось, что лицо у него – пустое, как пусты для меня и не представляемы лица погибших… ну, хоть в битве при Херонее вокруг Александра Македонского в 338 году до нашей эры, или же лица попавших в засаду с князем Святославом под Доростолом в 971 году. Безлики они, как и доходяга на «Юбилейном» или Хатаннахе, что не дошел до леппункта: упал и вмерз в горушку – только весной вытаял, нашли; как и удавленник – с корочкой хлеба в кармане. А ведь они тоже были – плотью, глазами, кровью, болью – кучки мягкие в тряпье, как и туберкулезник из заволжского села… Судьба всех нас одевает одинаково, будто в тот, колымский полушубок после покойника.
30 марта 2020 г.
Литературный процесс
Собств. инф. Узоры дум Седагет Керимовой

«Дум моих узоры» – так называется новая книга известной лезгинской поэтессы и общественного деятеля, заслуженного работника культуры Азербайджана Седагет Керимовой, только что вышедшая в свет в Баку. В сборник вошли стихотворения, переведенные на русский язык с лезгинского и азербайджанского.
Открывает книгу раздел под названием «Преврати меня в орла». Все пятьдесят с лишним произведений, помещенные автором в этот раздел, перевел известный русский поэт и переводчик, сотрудник российского литературного журнала «Парус» Евгений Чеканов.
Редакция журнала сердечно поздравляет Седагет Кайинбековну с выходом в свет нового поэтического сборника и желает ей доброго здоровья и активного творческого долголетия. В своем августовском номере «Парус» публикует первую подборку стихотворений С. Керимовой из книги «Дум моих узоры».
Литературоведение
Юлия СЫТИНА. И. А. Есаулов в большом и малом времени
К 60-летию Ивана Андреевича Есаулова
Ивану Андреевичу Есаулову не раз случалось обронить фразу, ставшую среди его друзей крылатой: «Я не всегда был филологом». Однако именно филология – по крайней мере, насколько известно широкой общественности, – основное поле его деятельности. Ему принадлежат 10 монографий, более 300 статей, им прочитано множество публичных лекций и докладов (особенно стоит выделить цикл передач «Беседы о русской словесности с Иваном Есауловым» на радио «Радонеж»), по данным РИНЦ он входит в число наиболее цитируемых литературоведов Российской Федерации. В этом году мы отмечаем шестидесятилетний юбилей Ивана Андреевича, более сорока лет связывают его с филологией, и это призвание можно назвать и наследственным – его отец Андрей Мартынович Есаулов до переезда в Сибирь и кардинального изменения жизни был учителем русского языка и литературы.
Род Есауловых уходит корнями в историю России, и его представители чувствуют свою ответственность за происходящие события, связывают свою жизнь со служением Богу и Отечеству. Хотя место рождения Ивана Андреевича – Сибирь, своей «исторической родиной» он считает Москву, прародиной – Дон. Отец, заставший, между прочим, еще Российскую империю (родился в 1909 году), – донской казак, фронтовик, был вынужден после немецкого концлагеря и пребывания в американской зоне оккупации Германии сменить профессию учителя на совсем иную и добровольно-принудительно уехать из Центральной России в Сибирь. Отношение советской власти к казачеству, начиная с директивы Свердлова 1918 года, хорошо известно. Из десяти братьев отца к концу двадцатых годов в живых остался лишь один. Поэтому многие факты семейной биографии родители, заботящиеся о судьбе своих детей в советской стране, старались не разглашать. Тем более в данном случае неблагонадёжность проступала в самой фамилии. Как-то (уже в постсоветское время) Иван Андреевич получил из города Бор письмо, в котором утверждалось, что, увидев его на экране телевизора канала «Культура», зрительница узнала в нём своего прапрадеда Алексея Семеновича Есаулова, контр-адмирала Российского Императорского флота (эта история, включая сам портрет предполагаемого предка, излагается в главе «Моя родословная: потомственный контрреволюционер» книги «Постсоветские мифологии: структуры повседневности», см.: [Есаулов 2015, 554–554]).
Дедушка Ивана Андреевича (по линии мамы) – с русского Севера, строил при царе Николае II Транссиб (в частности, тоннели вокруг Байкала, которые его внук впервые увидел сам лишь в десятых годах XXI века), при Советах же оказался в Мариинской тюрьме, протестуя против принудительной реквизиции накошенного им ночами по неугодьям сена (на глазах уполномоченного он сжёг стог). Бабушка (по той же линии) – из столыпинских переселенцев, до конца жизни сохранила, как вспоминает Иван Андреевич, особенности курского говора. Судя по всему, ее братья принимали участие в антибольшевистском сопротивлении двадцатых годов. Одного из них Есаулов успел увидеть, оказавшись в Кемерово: тот, незрячий, каждое воскресенье на автобусе ездил – в советские годы – на службу в единственную в городе церковь.
Сам Иван Андреевич, несмотря на внешнюю «успешность» своей «научной карьеры» (к чему он всегда относился предельно иронически), многократно подчеркивал, что зачастую сознательно шел «против течения»; например, в период постсоветского идеологического «раздрая» и групповой ангажированности неизменно старался сохранять личную свободу. Свои работы ученый как-то назвал частью «христианского сопротивления».
Присущие Есаулову независимость жизненной позиции и оригинальность понимания литературы во многом связаны с его не совсем типичным для «советского мальчика» детством. Он вырос во глубине Сибири, в самом центре Евразии в собственном доме из бревен листвяга с настоящей русской печью, курами, лошадью, коровой, какими-то совсем особенными гусями, умевшими летать поверх проводов (иногда о них разбивавшимися, когда залетали домой во двор), и прочей живностью. В отличие от большинства сверстников (и на его сибирской родине), не ходил в советский детский садик. В детстве Иван Андреевич соприкоснулся с исконно русскими традициями – как он пишет в «Пасхальности русской словесности» о своей маме, Ульяне Дмитриевне, памяти которой и посвящена эта книга, она «все советские шестидесятые и семидесятые ежегодно носила “пасочку”1 на край села местным убогим, которые сами были не способны ее приготовить: это действо мама понимала отнюдь не как христианскую благотворительность или сознательное противодействие советскому режиму; “просто” она почему-то “знала”, что у каждого в этот день должен быть праздник» [Есаулов 2004, 17] (курсив автора. – Ред.). Жизнь в таком удаленном от «столиц» месте (Иван Андреевич так его определяет: «я родился в Мариинском уезде Томской губернии») имела тогда то несомненное преимущество, что уровень свободы был гораздо выше, чем в целом по стране. Многие вещи, которые привыкли там свободно обсуждать («дальше Сибири не сошлют»), затем, уже в университете, не обсуждались вовсе или обсуждались в узком кругу, полушепотом.
Вместе с тем Иван Андреевич был, по его собственным словам, «книжным мальчиком». Он очень рано научился читать, его воспитанию родители уделяли большое внимание (по-видимому, еще и потому, что он был, что называется, «поздним ребенком» – не только по советским понятиям, но и даже по нынешним). Уже тогда, в частности, собирая и читая «малое» академическое издание А. С. Пушкина шестидесятых годов, будущий ученый начал формировать свою собственную библиотеку (теперь весьма и весьма обширную). В первом классе выяснилось, что домашняя подготовка в общем-то делает обучение со сверстниками ненужным, и учителя предложили перевести ребенка сразу в третий класс, но родители отказались. По воспоминаниям Ивана Андреевича, класса до восьмого он потерял всякий интерес к обучению в школе, сначала легко справляясь со всеми заданиями, не прибегая к учебникам, а потом вовсе забросив учебу. С ближайшим другом они организовали «тайное общество»: вели дневники, создали целую альтернативную реальность: виртуальное государство со своей конституцией, финансами, культурой (была своя летопись, свои праздники и т. д.), спортивными состязаниями (например, чемпионатами по шахматам: сыгранные партии записывались и затем анализировались). Мечтая в юности о карьере спортсмена, он несколько раз становился чемпионом школы по шахматам, футболу, теннису (за неимением корта для большого тенниса – по настольному). Будучи еще школьником, играл в полузащите местной взрослой футбольной команды, становился чемпионом своего района, в этом статусе команда играла и на областных соревнованиях, что для маленького населенного пункта было уже большим успехом. Таблицы футбольного чемпионата регулярно, после каждого тура, публиковались в местной газете, как и результаты матчей… Другим сильным увлечением подростка была музыка: учась в местной музыкальной школе, он стал членом взрослого музыкального ансамбля «Новояры», в котором играл (на разных инструментах – от ионики до бас-гитары), в школьные же годы, и на сцене Кемеровского театра драмы.



