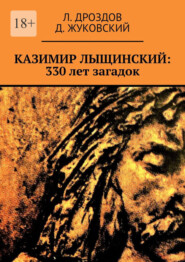
Полная версия:
Казимир Лыщинский: 330 лет загадок
Иезуиты потупили умно. Свой костел они освятили в честь не только основателя христианства, но и самого почитаемого святого в ВКЛ – королевича Казимира. Вероятнее всего, Казимир Лыщинский был крещен именно в этом костеле. А. Новицкий указывает, что наш герой родился 4 марта 1634 года75, однако конкретного документа не приводит. Никакой иной даты в исторической литературе не называют. На 4 марта приходится день смерти и день памяти святого Казимира. Это не просто местный святой, это единственный святой с таким именем. А поскольку по традиции новорожденного нарекали по святцам, сомнений в дате рождения нашего Казимира не возникает.
В 1657 году брестский костел иезуитов представлял собой четырехугольное здание с восьмигранной башней – сигнатуркой. Так называли малую башню католических храмов, на которой держится наименьший из колоколов. Башенка возвышалась над двускатной крышей. Главный фасад храма украшал щит сложной формы. Боковые стены имели по шесть стрельчатых окон. Таким костел запечатлен на гравюре тех лет.
17 июня 1623 года Лев Сапега подарил иезуитам фольварок Деревная вместе с деревеньками Мостки (Мальтки) и Меневеж76. Целью этого пожертовования было основание иезуитского коллегиума – среднего учебного заведения закрытого типа. Коллегиум открылся в 1633 году, за год до рождения Казимира Лыщинского. Не каждый желающий мог сюда попасть, хотя обучение было бесплатным. Спонсировать строительство коллегиума великий канцлер приказал своему сыну Казимиру Льву, впоследствии подканцлеру ВКЛ, и выделил на эти цели 30 000 польских злотых. А тот отписал их отцам иезуитам в завещании от 30 июля 1655 года77. Но и при жизни не обделял Казимир Лев брестских иезуитов вниманием. В 1650 году он приобрел и передал им фольварок Паниквы и одноименную деревеньку.
Владения иезуитов в Брестском воеводстве расширялись не только благодаря пожертвованиям. Еще одним источником дохода было ростовщичество. Например, в 1627 году Григорий Григорович с сыном и невесткой отказались от своих прав на наследственное имение – фольварок Пельчицы – в связи с невыплатой долга иезуитам в размере 5000 польских злотых. Покупка земельных участков тоже имела место. В частности, в 1629 году коллегиум приобрел за 5000 польских злотых у шляхтича Павла Дымского деревню Замостье (Брашевичи), расположенную в Брестском воеводстве.
В самом Бресте иезуиты владели двумя юридиками и пятью земельными участками. Юридики представляли собой административно независимые обособленные части городов и предместий, на которые не распространялась административная и судебная власть местного самоуправления. Обычно они принадлежали крупным магнатам или монастырям, а со временем становились центрами ремесленничества и торговли. При этом в одной из юридик, которая являлась собственностью брестских иезуитов, в Литаворщине, находилась цагельня (кирпичный завод). Кирпич как строительный материал пользовался спросом. Позднее, в 1671 году, иезуитский коллегиум получил в залог деревни Мацеевичи, Ставки и Ляховичи в Брестском воеводстве. Они оставались во владении иезуитов на протяжении сотни лет до самой ликвидации ордена.
Брестские иезуиты богатели и наращивали влияние. Методы, которыми они добивались своих целей, далеко не всегда были морально безупречны. Значительный рост богатства Общества Иисуса вызывал зависть не только у горожан и городских властей, но и у представителей духовенства. Особое недовольство выказывал клир Виленского капитула. Осведомленные люди утверждают, что открыто негодовал по этому поводу виленский епископ Константин Казимир Бжостовский – первое лицо католической церкви в ВКЛ78.
В дальнейшем имущество брестских иезуитов станет причиной множества судебных тяжб, в разрешении которых примет участие и Казимир Лыщинский.
С громадиной иезуитского костела в Бресте Казимир впервые столкнулся, как мы уже говорили, в самом раннем детстве. Это был первый храм нашего героя, причем названный в честь его небесного покровителя. Крестины свои Казимир, конечно, не мог помнить, но этим его знакомство с костелом не ограничилось. Нет сомнений в том, что он был здесь частым гостем. Наверняка костел производил на малолетнего Казимира ошеломляющее впечатление. Он совсем не походил на деревянную церковь у них в деревне. Его каменная мощь не могла оставить мальчика равнодушным, а внутреннее убранство и вовсе заставляло трепетать. Множество горящих свечей. Картины. Статуи. Иконы. Сияние золота и серебра. Приятный запах ладана. И божественные звуки, лившиеся из органа. Музыка уносила душу высоко в небо, туда, где живет Бог. Самая настоящая сказка. А какому ребенку не хочется возвращаться в сказку вновь и вновь?!
В возрасте шести-семи лет он, можно сказать, окунулся в эту атмосферу надолго. Отец отдал его в коллегиум при костеле св. Казимира. Иезуитский коллегиум кроме учебного корпуса имел библиотеку и аптеку. В коллегиуме изучалось семь свободных наук, богословие, латинский и греческий языки.
Двойственность иезуитов подчеркивают многие. С одной стороны, это коварные, хитрые и беспринципные люди, которые по головам готовы идти ради достижения своих целей, а с другой – это основатели лучшей для своего времени системы образования. В воспитательной работе, проводимой орденом иезуитов, было много положительного. В первую очередь это относилось к педагогической практике, целью которой ставилось гармоничное воспитание послушников. Среди недостатков – малое внимание к так называемым свободным наукам. Учебный процесс носил преимущественно гуманитарный и религиозный характер.
Немало времени иезуиты отводили спортивным занятиям: верховой езде, плаванию, фехтованию. Обучали также музыке, танцам, пению. Заботились и о здоровье воспитанников.
К середине XVII столетия Брест был многоконфессиональным городом, но преобладали в нем католические ордена: бернардинцы, августинцы, иезуиты и т. д. Далее вкратце расскажем о системе образования, созданной иезуитами. Возможно, эта часть кому-то покажется скучной, но без нее никак не обойтись, ибо Казимир Лыщинский прошел многие ее ступени. В этом плане ему повезло. Все преподаватели Брестского коллегиума были профессорами79.
Наиболее распространенным типом учебных заведений ордена иезуитов являлась школа, или гимназия. Она состояла из пяти классов. Срок обучения в гимназии мог колебаться от шести до семи лет. Как раз в одном из таких заведений и предстояло учиться Казимиру.
В больших коллегиях обучение начиналось со вступительного класса. Он выполнял роль подготовительного. Детей учили читать и писать. Следующие три класса назывались грамматическими или низшей школой. Основное внимание в них уделялось изучению грамматики латинского языка. Назначение этого курса – подготовка учащихся к курсу красноречия.
Программа первого класса – низшей грамматики – иногда растягивалась на два года. Ученики штудировали основы латыни: части речи, склонения имен существительных и спряжения глаголов, основы синтаксиса. Занятия проводились по учебнику De institutione grammatica libri tres Эммануила Альвара (1526 – 1582), португальского иезуита, учителя грамматики в первой коллегии Игнатия Лойолы в Лиссабоне. Он был впервые опубликован в 1572 году. Грамматика Альвара стала официальной грамматикой иезуитов. Знакомились в первом классе и с азами древнегреческого языка.
Ежедневно проводилось четыре урока. На первом проверялось домашнее задание. На втором читали произведения Цицерона (самые легкие письма и эпиграммы) и выполняли упражнения – из учебника Альвара либо продиктованные учителем. На третьем отвечали тексты наизусть. Четвертый урок целиком отводился изучению грамматики. И так изо дня в день, кроме воскресенья.
В субботу порядок несколько отличался. На первом уроке повторяли пройденное за неделю. Второй урок отводился концентрированию. Остальные занятия проводились так же, как и в предыдущие дни.
Во втором классе – средней грамматики – завершалось изучение основ латинского языка. Преподавание греческого ограничивалось синтаксисом. Ученики должны были усвоить простейшие правила. Весь первый урок старосты класса (декурионы) проверяли упражнения, заданные накануне, а учитель – работы, выполненные письменно. На втором уроке ученики повторяли латинскую грамматику, а также переводили Цицерона с рабочего языка – в белорусских школах таковым был польский – на латынь. Родной язык Казимира Лыщинского, сейчас его называют старобелорусским, в школе не использовался. Только в конце XVII века здесь появился первый в Беларуси школьный театр. Как раз в пьесах, которые ставились на его сцене, звучал старобелорусский язык. На послеобеденных занятиях учитель проводил устный опрос по ранее изученному материалу. В субботние дни повторяли пройденное и изучали катехизис.
В третьем классе – высшей грамматики – практические навыки в разговорной и письменной латыни отрабатывались на произведениях античных авторов. Сначала ученик читал текст и пересказывал его по-польски или на латыни. Далее уже преподаватель разбирал произведение, обращал внимание на упущения в ответе ученика. В завершение учащиеся совместно выполняли перевод. Раз в месяц писали сочинения. Пробовали заниматься стихосложением. Ученики должны были также освоить в полном объеме грамматику греческого языка. Основным материалом для изучения служили басни Эзопа.
На первом уроке декурионы проводили устный опрос учеников, а учитель в это время проверял домашние задания. На втором уроке читали Цицерона, а затем выполняли упражнения в письменной и устной форме. Третий урок отводился для проверки текстов латинских поэтов и греческих прозаиков, которые ученики должны были выучить наизусть. Оставшиеся полтора часа занимались латинской и греческой грамматикой.
За грамматическими классами шел класс поэзии (humanitas). Главная его задача – непосредственная подготовка к занятиям по красноречию. В этот период ученики должны были много читать, в основном древнеримских поэтов и политиков: Овидия, Вергилия, Горация, Цезаря, Цицерона и других. Из греков в этом классе изучали, в частности, Платона, Плутарха, Гесиода.
Последняя ступень среднего образования в иезуитских школах – класс риторики. Он был рассчитан на два года. В этом классе знакомились с теорией ораторского искусства, вырабатывали собственный стиль речи. Последнее достигалось чтением античных авторов и выполнением многочисленных упражнений. Курс преподавался по учебнику Ц. Суареса De arte rhetorica libri tres (1560). Изучали Цицерона, Сенеку, Тита Ливия, Тацита. Из греческих авторов читали Демосфена, Платона, Гомера, Геосида, Пиндара и т. д. Преподаватели всячески побуждали учеников к самостоятельной творческой деятельности – естественно, в заданных ими рамках.
Несколько слов о порядке управления иезуитскими школами.
В 1608 году, а фактически в 1617 году Речь Посполитая была разделена иезуитами на две провинции – Польскую и Литовскую80. К последней относилась подавляющая часть учебных заведений, расположенных на территории современной Беларуси. Во главе провинций стоял провинциал.
Ректора коллегиума назначал генерал ордена. Обязанностью ректора была надлежащая организация деятельности школы. Он присутствовал на всех диспутах. По окончании учебного года направлял провинциалу отчет, в котором характеризовал каждого учителя. Но снять с должности учителя без согласия провинциала ректор не имел права.
Непосредственно жизнью школы руководил префект (praefectus studiorum). Если школа была большая, то ее, как правило, возглавляли два префекта: один отвечал за работу с младшими классами, другой – со старшими. Префект обязан был раз в две недели посещать один урок каждого учителя, детально анализировать его с точным указанием достоинств и недостатков.
О подготовке учителей, поскольку ее в полном объеме прошел Казимир Лыщинский, мы подробно расскажем в другой главе. Те же, кто желает во всех подробностях узнать, как работали учебные заведения иезуитов на территории нынешней Беларуси, могут обратиться к монографии Т. Блиновой81, незначительную часть которой мы пересказали.
Прежде чем расстаться с иезуитами, хотелось бы отметить некоторые черты, характерные для внедренной ими системы образования. Это соревнования в командах, созданных в классах, и так называемые концентрации. Соревнование заключалось в следующем. В начале каждого учебного года учитель произвольно делил класс на две команды. Затем предлагались к решению специально подобранные задания повышенной сложности. Ученики, выполнившие задание лучше всех, назначались десятниками (декурионами), то есть возглавляли команды из 10 человек. Остальные обязаны были им подчиняться. В ходе уроков декурионы оказывали помощь учителям, собирали для проверки письменные домашние задания, следили за порядком в классе, иногда проводили устный опрос. Многим еще со школьной скамьи знакомы функции старост, поэтому вдаваться в подробности не будем. Мы не сомневаемся, что Казимир Лыщинский был одним из декурионов.
У каждого класса был свой журнал, где выставлялись отметки. По окончании ученикам выдавали подтверждающий завершение обучения документ, и они переходили в следующий класс. Хорошистам и отличникам вручали похвальный лист82. Все успехи и неудачи учеников фиксировались в их личных делах.
Источники не сохранили практически никакой информации о школьных годах Казимира Лыщинского. Немецкий ученый Г. Д. Сейлер – единственный из авторов, кто сообщает, что, находясь в коллегиуме, Лыщинский обнаружил «особые признаки способной и остроумной головы», часто задавался всевозможными грешными вопросами, высказывал парадоксальные суждения о Боге, ангелах, религии и умел объяснять их «с особым красноречием» своим сверстникам83. Школьное руководство, узнав об этом, поразились «ужасным заблуждениям» молодого человека. Все попытки разубедить его в этом были тщетны. Якобы за вольнодумцем установили надзор. Однако он продолжал настаивать на своем, не реагировал на замечания и игнорировал усилия преподавателей, за что был однажды лишен школьных привилегий и содержания84.
Личного дела Казимира Лыщинского, которое было заведено иезуитами в период его обучения, исследователи пока не нашли. Но нас не покидает уверенность в том, что наш герой был в числе лучших. В какой-то мере эта уверенность подкрепляется завещанием Геранима Лыщинского, в котором он назвал Казимира «яко способнейшего» среди четверых своих сыновей85. Смеем предположить, что родитель нашего героя процитировал как раз те похвалы, которыми одаряли своего ученика педагоги-иезуиты.
Из завещания Геранима также известно, что отцам-иезуитам он оставил «18 злотых и один пляц за Мухавцом, дабы через два года, в неделю, в пяток, за мою душу литургия отправляема была»86.
Из ревизии с инвентарем замка Берестейского 1668 года следует, что судье городскому берестейскому Гераниму Лыщинскому за рекой Мухавцом принадлежало три пляца87. Аналогичный документ, составленный в 1682 году, свидетельствует, что все три пляца перешли во владение отцов иезуитов88. Возможно, два других земельных участка были выкуплены или выменяны иезуитами у наследников судьи берестейского. Можно сделать вывод, что у брестских иезуитов не было оснований предъявлять претензии Гераниму Лыщинскому и его наследникам, включая Казимира. Длительное время они мирно уживались друг с другом.
Глава 5. Солдат
В карьерном развитии Казимира Лыщинского можно выделить четыре этапа: военный (1648 – 1658), духовный (1658 – 1666), политический (1669 – 1674), судебный (1674 – 1689). Каждый из них последовательно сменял друг друга. Эту главу мы посвятим военным страницам жизни.
Практически нет документов, которые открывали бы подробности происходящего с нашим героем в течение данного промежутка времени. Если б не привилей Яна III Собеского, целых 10 лет и вовсе остались бы белым пятном в биографии.
Привилей тоже не поражает обилием сведений, но подтверждает участие Казимира Лыщинского в трех войнах. Целиком этот документ никогда не публиковался. Частично его цитировали Прокошина и Шалькевич89. Опосредованно с ним был знаком и главный польский специалист по Казимиру Лыщинскому – профессор А. Новицкий90.
Та часть привилея, которая нас интересует, занимает всего семь строчек на рукописном листе формата А4. Текст дан в переводе с польского, выполненном в середине XIX века:
«Мы (король польский и великий князь литовский. – Прим. авт.), имея аттестованные заслуги благородного… Казимира Лыщинского, которые заслуги не только перед Богом как набожного и справедливого, но отличающиеся верностью и приверженностью к Отечеству значительно доказываются, который от юных лет своих как в коронном войске под знаменами прославленного покойного полевого коронного писаря Ивана Сапеги постоянно приобретал, так и после того в литовских войсках с покойным князем подканцлером Великого Княжества Литовского в войну Московскую, Шведскую и Венгерскую с пренебрежением здравия и пожертвованием состояния своего…»91
Первой в привилее названа Московская война (1654 – 1667). Жертвами этой войны стал каждый третий житель ВКЛ. Белорусские историки называют ее «Невядомай»92. Вторая война – со Швецией (1655 —1660). Она получила название «Потоп». И третья война – Венгерская. С ней в белорусской исторической и научно-популярной литературе связано больше всего загадок.
Информации – минимум, а вопросов, на которые хотелось бы получить ответы, немало. Во сколько лет Казимир взял в руки оружие? Какой воинский путь прошел и в каких сражениях участвовал? Под знаменами каких командиров сражался? В каких войсках служил? Был ли ранен? Чем отличился?
Некоторые белорусские историки считают, что начало военной карьеры Казимира Лыщинского приходится на годы, когда он закончил Брестский иезуитский коллегиум. Тогда началось восстание на Украине (1648 – 1654) во главе с Богданом Хмельницким93. Вероятнее всего, первым боевым крещением Лыщинского стало участие в защите Бреста от казаков Хмельницкого, на что указывает К. Тарасов94.
В частности, известно, что 5 (15) сентября 1648 года в Бресте были казнены 17 горожан, которые якобы готовили восстание с целью открыть городские ворота казакам Б. Хмельницкого. Когда казацкие отряды подошли к городу, в Бресте все же вспыхнуло восстание. В борьбе с казаками потерпел поражение брестский каштелян К. Тышкевич. В 1649 году в город вступили войска Я. Радзивилла. И снова было восстание, в результате которого погибло около 2 тысяч горожан, а сам город сильно пострадал95.
Известно, что обучение в Брестском иезуитском коллегиуме Казимир Лыщинский закончил в 1648-м. Ему исполнилось 14. Действительно «юные лета», как указано в привилее. Возможно, в это время Казимир Лыщинский был оруженосцем у своего отца, которому шел седьмой десяток, или у старшего брата.
Война середины XVII столетия – «Невядомая» – началась несколько позже, в 1654 году, когда Казимиру Лыщинскому было уже 20, длилась с переменным успехом почти 13 лет и закончилась в 1667 году, и в ее отношении говорить о «юных летах» было бы некорректно. Шведский «Потоп», то есть вторжение шведских войск на территорию Речи Посполитой, пришелся на 1655 – 1660 годы. Московия и Швеция одновременно напали на Речь Посполитую и захватили практически всю территорию, включая Вильно. Оба захватчика поочередно овладели малой родиной Казимира Лыщинского – Брестом.
Участие Казимира в боевых действиях против Московии и Швеции изначально в составе польских, а затем литовских войск не вызывает сомнений, поскольку Лыщинские владели земельными угодьями и на территории Короны Польской, и в ВКЛ.
У историков отсутствует сколько-нибудь вразумительное объяснение, в какой именно третьей войне участвовал Казимир Лыщинский. Одни склоняются к тому, что Венгерская война – это война против Турции. Другие, в частности А. Новицкий, пишут об участии Лыщинского в защите Бреста от венгерских войск96.
На наш взгляд, под Венгерской войной следует понимать вторжение на территорию Речи Посполитой венгерских войск под руководством трансильванского князя Дьёрдя Ракоци II. Тяжелейшая ситуация в Речи Посполитой во время «Потопа» показалась князю лучшим временем для нападения. Видимо, ему не давала покоя слава другого трансильванского князя – Стефана Батория.
Трансильванцы в 1657 году вторглись на территорию Речи Посполитой в союзе со шведами и запорожскими казаками. Как указывают источники, больше всего от нападения венгерских войск пострадал Брест97. Однако польско-литовская дипломатия сумела стравить их с крымскими татарами, а турецкий султан Мехмед IV лишил Дьёрдя Ракоци II княжеской власти. В битве с турками князь был смертельно ранен. Его сподвижник Янош Кемени не удержал власть, и в 1661 году турки возвели на княжеский трон Трансильвании Михая Апафи (1661 – 1690).
Эти войны непосредственно затронули и Лыщинских, их имения сильно пострадали от войск московских и семиградских (венгерских). При этом в отношении уплаты долгов Геранима Лыщинского в казну в 1658 году был объявлен мораторий сроком на три года98.
В королевском привилее об участии Казимира Лыщинского в событиях войны с Турцией 1672 – 1676 годов нет ни слова. В ее ходе войска под командованием Яна Собеского разбили турецкие войска Гусейна-паши под Хотином. Эта была одна из самых славных побед в истории Речи Посполитой. Она в немалой степени способствовала избранию Собеского королем, а в дальнейшем это дало ему повод чеканить на монетах свое изображение с лавровым венком на голове. Если бы Казимир Лыщинский принимал участие в этих событиях, привилей непременно упомянул бы об этом.
Так что предположение об участии Казимира Лыщинского в войне против Турции ошибочно. Скорее всего, выдвинула его в одной своей статье99, затем продублировала в другой100 Е. Прокошина. В этом ее поддержала И. Войтик. Попав в энциклопедический справочник, изданный значительным тиражом, ошибка пошла гулять по книжным просторам. Не обошла она стороной и рассказ известного писателя В. Орлова «Миссия папского нунция». Причем, по его версии, Казимир Лыщинский не только участвовал в войне с Турцией, но и отличился в ней101. Излишне доверился авторитету известного белорусского философа и один из авторов этой книги102.
Но вернемся к привилею. В качестве непосредственных военных командиров Казимира Лыщинского Ян III Собеский называет польного коронного писаря Ивана Сапегу и князя подканцлера ВКЛ. Имя последнего не указано, в то время оно было известно всем. Кроме того, в привилее говорится, что к моменту его издания (22 марта 1682 года) оба командира уже покинули лучший из миров. Опять же, негусто. Да и с именем князя подканцлера не все прозрачно.
И. Войтик «зачисляет» Казимира Лыщинского в распоряжение некоего Огинского, однако ссылок на исторические документы не дает. А потому это утверждение не более чем предположение. Писатель В. Чаропко называет боевым командиром нашего героя подканцлера ВКЛ Александра Криштофа Нарушевича. Однако, во-первых, в должность подканцлера Нарушевич вступает в 1658 году103, когда Казимир принимает решение о завершении военной карьеры и избирает для себя духовную стезю. Во-вторых, он никогда не титуловался князем.
А. Новицкий безымянного князя-подканцлера идентифицирует как Казимира Льва Сапегу, младшего сына Льва Сапеги104. Именного к нему после смерти старшего брата Яна Станислава перешел княжеский титул, а должность он занимал с 6 марта 1645 года по 19 января 1656 года, как раз в период участия Казимира Лыщинского в военных действиях. С 1656 года по 2 марта 1658-го рассматриваемая должность принадлежала Сигизмунду Пацу. Однако Криштоф Сигизмунд Пац не принадлежал к княжескому роду, на момент издания привилея он находился в добром здравии и занимал должность канцлера ВКЛ. Таким образом, наиболее вероятными кандидатами на роль боевых командиров Казимира Лыщинского являются: при службе в польских войсках – польный коронный писарь Иван (Ян Фредерик) Сапега (умер в 1664 году); при службе в литовских войсках – князь подканцлер ВКЛ Казимир Лев Сапега (умер в 1656 году).
Воинский путь Казимира Лыщинского можно проследить только исходя из информации о боевом пути этих военачальников105. Возглавляемые ими войсковые формирования принимали активное участие в военных событиях 1648 – 1658 годов.
Польный коронный писарь Иван Сапега был представителем коденской линии магнатского рода Сапег. В конце 1630-х и в 1644 – 1645 годах он служил во французской армии. Около 1647 года вернулся на родину. В 1648 году принимал участие в неудачной битве с восставшими запорожскими казаками под Желтыми водами, где после ранения С. Потоцкого командовал польским корпусом. После поражения в битве попал в татарский плен, был освобожден весной 1650 года. В 1653 году получил должность писаря польного коронного. В мае того же года участвовал в военных операциях против крымских татар. В феврале 1654-го вновь оказался в плену, в декабре вернулся домой. В 1655 году участвовал в битве с русско-казацким войском, а в октябре перешел на службу к шведскому королю Карлу Х Густаву. Слыл одним из самых рьяных сторонников короля Швеции. В ноябре 1655 года был отправлен в лагерь литовских войск под Брестом, чтобы убедить их перейти на шведскую службу.



