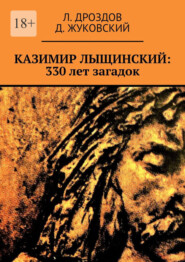
Полная версия:
Казимир Лыщинский: 330 лет загадок
Весьма примечательно, что дающий присягу апеллирует не к монарху, а напрямую к Богу, клянется его именем судить справедливо и по законам, а в случае отступления от клятвы просит покарать его смертью. В небольшом по объему тексте слово Бог употребляется пять раз. При этом ни разу не упоминается государь великий князь, а только Статут, то есть закон, и один раз – государство ВКЛ, от имени которого осуществляется правосудие. Из текста присяги вытекает, что судья – это не просто государственный служащий, творящий суд именем закона и государства, это слуга Божий.
По нашим расчетам, отец Казимира Лыщинского во второй половине 1668 года или близко к этому времени стал подсудком земским брестским, то есть из уголовного суда перешел работать в суд по гражданским делам.
О дате назначения на должность подсудка пана Лыщинского, судьи берестейского, можно судить, пусть и косвенно, по описи Бреста за 1668 год44. В ней он упоминается именно в качестве судьи, а не подсудка.
Разночтения в датировках вынудили нас проанализировать и другие сохранившиеся документы.
Оформляя дележный документ на раздел имущества между тремя совершеннолетними сыновьями, Гераним Лыщинский также указал, что занимает должности брестского гродского судьи и подстолия мельницкого45. Дележный документ, как уже отмечалось, датирован 22 июня 1666 года. При этом в актовые книги гродского суда Брестского воеводства он занесен 14 июля 1668 года. На основании различных документов мы можем уверенно говорить о том, что в период с 1651 года по 14 июля 1668 года отец нашего героя занимал две государственные должности.
В духовном завещании Гераним Лыщинский именуется только как подсудок земский Брестского воеводства46, то есть за ним остается одна должность. С какой даты он ее занял, без оригинала привилея о назначении на должность сказать трудно. По нашим подсчетам, это произошло не ранее 15 июля и не позднее 15 сентября 1668 года. В нескольких постановлениях Брестского сеймика от 19 января 1669 года47, которые были опубликованы еще в ХIХ веке, он уже упоминается в должности подсудка брестского. Добавим к этому, что король польский и великий князь литовский Ян Казимир Ваза отрекся от престола 16 сентября 1668 года, а следующий монарх был избран только 19 июня 1669 года. А поскольку правосудие в ВКЛ осуществлялось от имени королевской власти, в отсутствие короля просто некому было подписать привилей на должность подсудка. Значит, именно король польский и великий князь литовский Ян Казимир Ваза назначил Геранима Лыщинского подсудком брестским. Мы надеемся, что когда-нибудь можно будет назвать точную дату назначения.
Должность подсудка отец Казимира Лыщинкого получил в 87 (!) лет. На девятом десятке стал помощником судьи земского суда! Такое ныне даже представить невозможно. Вступая в новую должность, Гераним снова публично произносил вышеприведенную присягу – слово в слово48.
Однако вернемся к вопросу о том, когда Гераним Лыщинский обрел оседлость.
Самостоятельным владельцем недвижимости в Брестском повете он стал в 1639 году, когда его отец Константин разделил имение между двумя братьями – Геранимом и Лукой. Этот дележный документ датирован 22 октября 1639 года49. В подписях к нему приведены только имена сыновей, без упоминания занимаемых ими государственных должностей. А в дележном документе, который составил Гераним Лыщинский 22 июня 1666 года, есть и должности. Как подстолий мельницкий и судья городской брестский указан сам Гераним, как подчаший мельницкий – его третий сын Петр. Старшие сыновья Матвей и Казимир просто названы поименно. Возможно, это не самый весомый аргумент, но, зная пристрастие литвинов к титулам и должностям, мы не можем его игнорировать.
Дележный документ Константина Лыщинского от 22 октября 1639 года свидетельствует не только о разделе недвижимости, но и о том, что новые собственники могут начинать самостоятельную политическую или судебную карьеру, ибо оседлость, наличие недвижимости в собственности претендента на должность городского судьи —обязательное условие. Вот с этого-то времени, с конца 1639 года, у Геранима Лыщинского, по нашему мнению, появляется возможность претендовать сначала на должность писаря гродского суда. Отработав писарем несколько лет, можно было подумать и о месте судьи. На тот момент ему было 58 лет, у него было трое детей, нашему герою, Казимиру, шел шестой год.
Городского судью назначал глава местной администрации в повете (воевода или староста). Состав земского суда (судью, подсудка и писаря) назначал государь ВКЛ. При этом процедура вступления в должности земского судьи и земского подсудка предусматривала, что изначально на каждом поветовом сеймике местная шляхта выдвигала (избирала) на каждую должность четырех кандидатов и только одному из них по личному усмотрению монарха улыбалось счастье50.
Стать земским судьей или земским подсудком было труднее, нежели попасть на работу в городской суд. Отсюда мы можем сделать вывод, что земский суд более авторитетная и важная судебная инстанция, чем суд гродский. Эти суды разнились не только категориями рассматриваемых споров, но и своим составом.
Назначение на должность гродского судьи без учета условия об оседлости и без присяги означало, что виновная сторона могла такой состав суда игнорировать и не отвечать перед ним. Это правило закреплялось законом. Кроме того, представители местной власти в повете (воевода, староста), которые не обеспечили назначение на должность городского судьи кандидата, полностью отвечающего требованиям Статута, за свой счет возмещали вред потерпевшей стороне. Как видно, вопрос оседлости носил принципиальный характер. Только владелец недвижимости мог судить себе подобных, равный мог судить равных, поскольку городской суд преимущественно суд шляхетский.
Суды вообще и городской суд в частности – это «детище шляхты», как называл их профессор Митрофан Довнар-Запольский. Литвинская шляхта во все времена проявляла максимальный интерес к судебным спорам, порой весьма мелочным и длящимся годами. Сутяжничество и зависть – в этом была вся сущность литвинской шляхты.
Неудивительно, что при судах ВКЛ кормилось целое сословие адвокатов. Многие из них учились в Вильно, Кракове, а бывало, даже в Италии и Германии (вспомним сыновей Николая Радзивилла Черного и Льва Сапегу). Они зарабатывали себе на жизнь юридической практикой.
В городском суде велись актовые книги. В них заносились исковые требования сторон, решения суда, заявления возного (судебного исполнителя) и других лиц, совершались нотариальные действия (тестаменты (завещания), купчие, записи о разделе имений и т.д.).
Судебные сессии городского суда длились по две недели с 1-го числа каждого месяца51. Обычно судебные сессии собирали всю местную шляхту. Это было время для широких контактов: спорили, заключали сделки52.
Мы не знаем точно, где учился Гераним Лыщинский, но предполагаем, что какое-то образование он должен был получить, потому как, об этом говорилось выше, при назначении на должность судьи учитывалось наличие знаний по праву53. А вот в том, что и Гераним, и его родной брат Лука были грамотными, мы уверены, иначе как бы они собственноручно подписывали документы – и о разделе недвижимости своего отца54, и многие другие.
В 1639 году Гераниму Лыщинскому было 58 лет, а его отцу Константину шел 89-й год. Безусловно, Константин был очень сильным и очень властным человеком, и Гераним во многом на него походил. Но даже 58 лет для начала служебной карьеры – немало. В наше время стартовать с самых низов в судебной иерархии в таком возрасте просто немыслимо, и даже, наверное, невозможно.
При этом мы считаем, что ранее этой даты, исходя из положений Статута ВКЛ 1588 года об оседлости, получить государственные должности в Брестском повете Гераним Лыщинский не мог, поскольку раздел недвижимого имущества состоялся именно в конце 1639 года.
К данной главе просится небольшое пояснение. Мы назвали Геранима Лыщинского неординарным человеком. Возможно, не всякий с нами согласится, ибо возникает ожидание какой-то сенсации, а ее вроде и нет. Есть просто человек весьма успешный в имущественном плане, явно образованный и к тому же долгожитель. Это действительно тянет на неординарность, но не оправдывает завышенных ожиданий. На наш взгляд, неординарность предполагает совокупность качеств, выделяющих человека из общей массы. Давайте присмотримся внимательнее. Гераним Лыщинский в весьма почтенные годы начал судейскую карьеру, дожил до 89 лет, в этом возрасте в полном объеме исполнял свои обязанности, вырастил четырех сыновей, значительно расширил владения своей семьи. Разве этого мало? К этому можно добавить, что в 1632 году он лично участвовал (вместе со своим дядей Станиславом и родным братом Лукой) в избрании короля и великого князя Владислава IV Вазы55. Толчком для его поздней карьеры, вероятнее всего, послужило родство с какой-то влиятельной особой.
Это далеко не все факты об отце Казимира Лыщинского, которыми мы хотим поделиться. Но не будем забегать вперед, ибо сейчас пришло время рассказать о матери нашего героя. В ее истории загадок и вопросов не меньше.
Глава 3. Мать
Немало сведений об отце Казимира Лыщинского мы можем восстановить с помощью архивных документов. В отношении его матери это сделать затруднительно. Мы не знаем ни точных дат ее жизни, ни места рождения, ни даты свадьбы, ни состава приданого, которое она принесла мужу. Более того, у белорусских и польских историков нет единого мнения даже о ее девичьей фамилии. В абсолютном большинстве книг и статей о Казимире Лыщинском его мать не упоминают вовсе, и лишь в некоторых работах ограничиваются двумя-тремя словами, как правило именем и фамилией.
Так, Лев Лыщинский-Троекуров в своей книге (1907) именует мать Казимира Софьей Балынской56. Польский историк А. Новицкий с ним согласен57. Он основывается на сведениях римских архивов ордена иезуитов, но конкретных документов в своей работе не приводит и ссылок на них не дает. Вероятнее всего, за загадочной формулировкой «римские архивы ордена иезуитов» скрывается упомянутая книга Льва Лыщинского-Троекурова, которая публиковалась в том числе на польском языке.
Белорусские философы называют ее с разницей в две буквы – Софьей Бабинской58. И, говоря о ней, употребляют эпитет «благородная» (это прилагательное указывает на высокое происхождение), причем именно в кавычках, из чего можно сделать вывод, что ими цитируется какой-то архивный документ, нам, увы, неизвестный.
Какой вариант фамилии верный – сказать сложно. В интернете можно встретить утверждения, что Софья Балынская происходила из древнего еврейского рода59, но без документального подтверждения. Подобная информация содержится в интернет-аннотации к книге Прокошиной и Шалькевича. При этом имя матери Казимира Лыщинского в ней упоминается лишь единожды, а польские гербовники Бонецкого и Несецкого род Балынских (Балыньских) не называют вовсе. Возможно, отчасти эти слухи основаны на том, что местные евреи уже к середине XVI века составляли примерно 10% населения Бреста, они исполняли примерно третью часть городских повинностей60. Тем не менее фамилия Балынские в описях Бреста 1668 и 1682 годов тоже не зафиксирована61.
Раз уж зашла речь о гипотетических еврейских корнях нашего героя, поясним, что это могло означать для Геранима Лыщинского и Софьи Балынской, а также для их детей. Правоспособность личности в ВКЛ, то есть возможность иметь гражданские права и обязанности, зависела от принадлежности к гражданству, а не к национальности. Подданство (гражданство) ВКЛ приобреталось тремя способами: по факту рождения, путем одарения (разрешения) и в результате отпуска на свободу холопов. Евреи, татары и представители ряда иных национальностей, которые проживали в ВКЛ, становились гражданами, получив специальные жалованные великокняжеские грамоты (лично) или разрешение поселиться на определенной территории Княжества. Такое разрешение могло выдаваться на всю семью.
Статут ВКЛ 1588 года содержит целый ряд ограничений, которые связаны с религиозной и национальной принадлежностью62. Например, евреям-мужчинам запрещалось носить золотые цепи и другие драгоценности. Они не должны были украшать серебром пояса, мечи, сабли. В порядке исключения им разрешалось иметь одно кольцо на пальце и один перстень. На евреек эти ограничения не распространялись. Им дозволялось носить перстни, пояс и наряды «по своему достатку». Кроме того, евреи не вправе были владеть христианами в качестве подневольных. Межконфессиональный брак с евреями был невозможен – сначала они должны были креститься. Еврей или еврейка, которые принимали христианскую веру, и их потомство приравнивались к шляхте63. Так что, по большому счету, еврейская кровь, даже если она действительно текла в жилах Казимира Лыщинского, не создавала ему значительных препятствий. Но повторимся, на сегодня доподлинно неизвестно, была ли мать нашего героя еврейкой. А потому до представления публике соответствующих документов это предположение следует рассматривать как беспочвенный домысел. А вот о том, что она была католичкой и нашла упокоение на территории бернардинского костела в Бресте, мы знаем точно. Эти сведения не вызывают ни малейших сомнений. «И сынов моих прошу, дабы похоронили у отцов бернардинов, где и моей супруги лежит тело»64, – писал Гераним Лыщинский.
Персональные архивные документы, созданные Софьей Балынской, нами не выявлены. Это объясняется просто: творцами истории считались мужчины. Женщинам отводился второй план. Семейный очаг, воспитание детей – вот их удел. Тем не менее знать о матери Казимира Лыщинского хотелось бы гораздо больше, нежели только приблизительное имя. Когда родилась и умерла эта женщина, в каком возрасте вышла замуж, когда родила детей, сколько и только ли мальчиков?
Попробуем ответить на эти вопросы расчетным путем, используя информацию из других источников. В качестве исходных данных возьмем годы жизни Геранима и Казимира Лыщинских и некоторые другие сведения, приведенные в дележном документе и духовном завещании Геранима.
Итак, как уже говорилось, ни у польских, ни у белорусских историков нет точной информации о годах жизни матери нашего героя. Известно лишь, что на момент составления духовного завещания Геранимом Лыщинским, то есть на 10 сентября 1670 года, его супруга умерла. Чтобы установить возраст Софьи Балынской, пусть даже примерный, нам понадобятся еще некоторые факты.
У Геранима было четыре сына, второй по старшинству – Казимир. На дату составления дележного документа от 22 июня 1666 года самый младший еще не достиг 18-летия и проживал с отцом, три других уже обзавелись сосбственными семьями. «Имея трех сыновей лет совершенных, Матвея, Казимира и Петра, браком сочетавшихся»65, – пишет Гераним.
Вероятно, Геранима Лыщинского и Софью Балынскую в определенном смысле можно считать счастливыми родителями. Судя по всему, они не изведали горечь утраты своих детей. В отличие от младшего брата Луки, который в духовном завещании немало внимания уделил памяти своих рано умерших сыновей, Гераним таковых не упоминает.
О том, были ли у этой четы дочери, мы ничего сказать не можем. Прямыми наследницами девочки не являлись, поэтому информации о них в дележном документе и духовном завещании нет. Что касается дат рождения сыновей Геранима и Софьи, то более или менее уверенно мы можем говорить только о дне рождения Казимира – 4 марта 1634 года (его отцу в это время шел 53-й год). Относительно братьев нашего героя такой информации у нас нет, известна лишь очередность их появления на свет: Матвей (? – январь 1673 года), Казимир (4 марта 1634 года – 30 марта 1689 года), Петр (? —?); Викентий (? —?). Именно в такой последовательности Гераним Лыщинский называет их в дележном документе и духовном завещании.
Отталкиваясь от даты рождения Казимира, можно приблизительно установить годы жизни его матери, а также даты рождения его братьев. Официальный брачный возраст в ВКЛ для девушек составлял 13 лет, для парней – 1866. Казимир Лыщинский, как уже отмечалось, был вторым по старшинству ребенком. Значит, мы можем предположить, что первый, Матвей, родился минимум девятью месяцами раньше Казимира. Софье на тот момент могло быть около 14 лет, если считать, что замуж она вышла в 13. Отняв от 4 марта 1634 года (дата рождения Казимира) девять месяцев (срок беременности), получим, что Казимир был зачат в конце мая – начале июня 1633 года. Аналогичные вычисления относительно старшего сына Матвея дадут нам приблизительную дату его зачатия, это конец августа – начало сентября 1632 года. Примерно в это же время могла состояться свадьба Геранима Лыщинского и Софьи Балынской. Иначе говоря, в конце августа – начале сентября 1632 года матери Казимира Лыщинского было как минимум 13 лет. Соответственно, она могла родиться не позднее 1619 года. В таком случае, если от 22 июня 1666 года – даты составления дележного документа, в котором не указан младший сын Лыщинских Викентий, отнять 17 лет – его предположительный возраст, можно говорить, что Софья родила четвертого сына примерно в 1648 – 1649 году, когда ей могло быть 29 – 30 лет. Подобные расчеты не противоречат ни здравому смыслу, ни действовавшему законодательству, ни биологическим аспектам материнства.
Таким образом, родители Казимира Лыщинского могли пожениться, когда матери было не менее 13 – 14 лет, а отцу шел 50 – 51-й год (напомним, он родился в 1581 году). Для Геранима брак с Софьей был довольно поздним. Но возможно, это семейная традиция Лыщинских – создавать семью в зрелом возрасте. Отец Геранима, Константин, тоже ведь испытал радость отцовства в 44 года. Вероятно, они предпочитали сначала крепко стать на ноги, обзавестись хозяйством, а затем уже думать о семейной жизни и о наследниках. А может, Софья была не первой женой Геранима. В любом случае практику подобных браков нельзя считать редкостью. Она имела место вплоть до середины XIX века.
Итак, приблизительные годы жизни Софьи Балынской, полученные расчетным методом (при условии, что она вышла замуж в 13 лет), – 1619 – 1669-й. Иначе говоря, она прожила около 50 лет.
Возможно, кому-то покажется маловероятной женитьба 50-летнего мужчины на 13-летней девушке. Но мы и не настаиваем на этой разнице в возрасте, а лишь говорим о ней как о максимальной. Конечно, Софья могла вступить в брак, например, в 18 лет или 30. Тогда и ее возраст, и дата рождения будут иными. Вместе с тем тот факт, что она была значительно моложе своего мужа и что умерла раньше его, не вызывает сомнений. Еще одной подсказкой, которая может пролить свет на истинное происхождение Софьи Балынской, является запись ее мужа в духовном завещании о том, что брестский наместник Франц Горецкий (Горицкий) приходится ему «родным шурином»67. То есть можно говорить о том, что названный господин был кровным братом Софьи Балынской. К сожалению, это все, что на сегодня нам известно о матери Казимира Лыщинского. Надеемся, главные открытия об этой женщине и о ее роли в воспитании сына – впереди.
Глава 4. Брест. Сапеги. Иезуиты
Брест – это не только родина Казимира Лыщинского, но и место, где он рос, взрослел, получал образование, работал почти всю свою сознательную жизнь. Этот город он защищал с оружием в руках. Это воеводство он представлял на четырех сеймах Речи Посполитой. На этой территории находились его основные земельные владения. Здесь наш герой формировался как личность и политик. Поэтому мы не можем не рассказать о городе с 1000-летней историей.
В письменных источниках Брест упоминается впервые в 1017 (1019) году. В старшинстве он уступает только Полоцку (862), Витебску (974), Турову (980), Волковыску (1005). Вслед за столичной Вильней (1387) в числе первых городов ВКЛ Брест получил магдебургское право (1390). За ним последовали Гродно (1391), Слуцк (1441), Киев (1494), Полоцк (1498), Минск (1499), Могилев (1561), Мозырь (1577), Витебск (1597), Орша (1620), Мстиславль (1634).
«Большой город с крепостью на реке Буге, в которую впадает Мухавец»68 – таким показался Брест имперскому послу Сигизмунду Герберштейну, который в 1520-х годах дважды проезжал через эти земли. В середине XVII века в Бресте проживало более 10 тысяч человек. Надо сказать, немало. Население столичных Варшавы и Вильно в то время насчитывало примерно по 25 – 30 тысяч.
После заключения Люблинской унии 1569 года в составе ВКЛ осталось всего девять воеводств, если считать и Смоленское. Брест был административным центром одного из них. Его население росло в том числе за счет иностранцев, выходцев из других стран. Сюда приезжали из Московии, Польши, немецких княжеств, здесь активно торговали евреи. Об этом говорят названия брестских улиц: Русская, Немецкая и т. д.
Однако Брест был не только средоточием торговой деятельности, но и важным политическим центром ВКЛ. В период с 1446 по 1569 год Брестский замок 17 раз становился местом проведения сеймов Княжества. Именно Брест был первым городом на территории ВКЛ, где в 1653 году состоялся общегосударственный сейм конфедеративной Речи Посполитой. Местная шляхта о том хорошо помнила и постоянно ставила вопрос о проведении в Бресте каждого третьего сейма. Такого же статуса для себя желали и гродненцы. Поляки же были категорически против обоих городов. Вацлав Потоцкий даже не преминул позлословить на эту тему:
Уж чем не повод для стихов:
Сейм из Варшавы отбыл в Гродно,
Где тучи хряков и волков.
Позор «ботвинникам» негодным!69
С тем, что сейм 1653 года был проведен в Бресте, поляки тоже никак не могли смириться. Эту уступку литвинам они обосновывали тем, что в Варшаве свирепствовала чума, а Брест был близок к театру военных действий, полыхавших в Украине.
С Брестом были тесно связаны Сапеги. Этот клан обрел полную силу после того, как Лев Иванович Сапега (1557 – 1633) был назначен воеводой виленским и великим гетманом литовским. Сосредоточив две высшие должности в своих руках, он стал человеком номер один в ВКЛ. За Сапегами надолго закрепился статус правящей верхушки Княжества. Их доминирование в политической жизни государства продолжалось до конца XVII столетия. Именно в Бресте впервые переcеклись пути Лыщинских и Сапег. Самый знаменитый из них – Лев Иванович – помимо всего прочего в 1618 – 1623 годах был старостой берестейским. Одной из его функций в этот период было назначение верхней палаты Брестского городского суда. А в нижней палате, как вы помните, служил, только несколько позже, отец Казимира. Нельзя исключить, что Гераним Лыщинский (1581 – 1670) был лично знаком со старостой и его младшим сыном Казимиром Львом (1609 – 1656). Старший Лыщинский был младшим современником Льва, но пережил их обоих. Сапеги, вероятнее всего, выступали патронами Лыщинских.
За спиной этих великолитовских магнатов нередко маячила тень иезуитов. Они, как и другие католические ордена (августинцы, бернардинцы), в эпоху Контрреформации70 стали проявлять высокую активность, в том числе и в Бресте. Причем орден иезуитов, или Общество Иисуса, как он официально назывался, стал передовым ударным отрядом контрреформистов, успешно потеснившим старые монашеские ордена. Устав Общества предписывал иезуитам селиться в богатых городах и устраивать там коллегии71.
Иезуиты сыграли чрезвычайно важную роль в жизни Казимира Лыщинского. Во-первых, он у них учился: сначала – в иезуитском коллегиуме в Бресте, после – в Виленской иезуитской духовной академии (позднее Виленский университет), хотя польские ученые настаивают, что альма-матер Лыщинского является Калишская иезуитская студия. Во-вторых, он работал в Брестском коллегиуме72. В-третьих, уже будучи судьей, Лыщинский выступал арбитром по судебным спорам брестcких горожан и городских властей с иезуитами73. И наконец, финальный аккорд: в литературе господствует точка зрения, что именно иезуиты выступили вдохновителями и заказчиками судебного процесса против Казимира Лыщинского.
Вопреки широко распространенному мнению пригласил в Брест иезуитов не Лев Сапега. Это сделал в 1616 году луцкий епископ Павел Валуцкий, к юрисдикции которого относился Брестский повет. Затем была основана резиденция в фольварке Адамово. Ее подарил иезуитам Евстафий Волович, епископ виленский. Первые шаги в Бресте иезуиты совершили в фарном костеле: здесь они создали свою миссию74, которая в 1620 году при поддержке брестского воеводы Яна Остафия Тышкевича была преобразована в резиденцию.
В 1621 году иезуиты приобрели каменный дом в Бресте на углу улицы Ковальской и городского рынка и выстроили там свой костел (это место находится у самого подножия главного монумента мемориального комплекса нынешней Брестской крепости-героя). Его строительство завершилось к 1623-му году, то есть за 11 лет до рождения Казимира. Первоначальный облик костела не сохранился, потому как в 1653 – 1657 годах он был частично перестроен.



