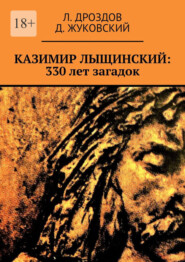
Полная версия:
Казимир Лыщинский: 330 лет загадок
Отцом Константин стал в зрелом возрасте – в 44 года. Он состоял на государственной службе, занимал должность ловчего. В его ведении была организация охоты для великого князя, когда тот находился в Брестском воеводстве.
В архиве Брестского городского суда сохранился подписанный Константином Лыщинским документ о разделе имения между сыновьями. Он датирован 22 октября 1639 года. В момент подписания дележного документа его внуку Казимиру уже шел шестой год от роду. А значит, дед вполне мог принимать посильное участие в воспитании мальчика. Этот документ – пример истинной отцовской любви и заботы. Начинается он с декларации целей: «Я, Константин Лыщинский, желая, чтобы братняя обоюдная любовь между сыновьями моими Иеронимом и Лукой была нерушима, постоянно в смирении соблюдаема, в предупреждение распрям и междуусобиям, которые нередко происходят и могут в отношении мыз (отдельно стоящие усадьбы. – Прим. авт.) встретиться, постановляю…»11
В 1639 году Константину Лыщинскому было примерно 89 лет. Для той поры возраст уникальный. Впрочем, в семье Лыщинских это не было редкостью. Ум, поздние браки, богатырское здоровье и невероятное долголетие – приметы мужчин этого рода.
Но здоровье здоровьем, а песка в песочных часах становилось все меньше. Вот и позаботился он о сыновьях – составил дележный документ. Сам же остался жить у младшего, Луки, которому перешла усадьба в Лыщицах. Поскольку она была побогаче, старший, Гераним (отец Казимира Лыщинского), помимо новой собственной усадьбы, тоже в Лыщицах, в порядке компенсации получил дом в Доброниже, который стоял у самого пруда, но для равновесия должен был отдать Луке свою старую усадьбу в Лыщицах. В общем, каждому из сыновей Константина Лыщинского досталось по два дома с хозяйственными постройками, землями и прочим. Отец едва ли не с математической точностью разделил имущество поровну.
Дележный документ однозначно указывает: сыновья выросли, крепко стали на ноги, женились, а потому и хозяйствовать должны самостоятельно.
Константина Лыщинского похоронили в родовом поместье в Лыщицах вместе с женой, вероятнее всего, на территории местной церкви. В пользу церкви, а не костела говорят документы, в частности завещание младшего сына, в котором указано: «Прошу сыновей моих похоронить меня по христианскому обряду в нашей церкви в Лыщицах, где почивают тела предшественников и родителей наших»12. Обращает на себя внимание и тот факт, что Лука Лыщинский называет церковь нашей. Возможно, построили ее как раз Лыщинские.
Гераним Лыщинский – несомненный католик по вероисповеданию. Целую страницу в своем завещании он отводит перечислению пожертвований монастырям, костелам, церквям в Бресте и его окрестностях. При этом обычное пожертвование на костел составляет не менее 15 злотых, на церкви – по 10 злотых, а на Лыщинскую церковь – 20 злотых13. Сверх денежного взноса Гераним Лыщинский жертвует Лыщинской церкви «черные камлетовые ризы». За этим загадочным подарком скрывается верхнее облачение священника, сшитое из черного сукна и надеваемое во время богослужения. По всему видно, что старший сын Константина тоже питал особую привязанность к этой церкви. Полагаем, потому, что там покоились его родители.
Говорит о церкви в Лыщицах в своем завещании и старший брат Казимира Лыщинского Матвей: «Тело мое грешное… должно быть похоронено в церкви Лыщинской»14.
Эта церковь неоднократно упоминается в архивных документах. Например, зафиксированы вот такие истории. 13 сентября 1726 года с иском в Брестский городской суд обратился митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси Лев Кишка по факту убийства лыщицкого священника Фомы Крымского. Претензии в суде были заявлены предстоятелем униатской церкви15. 15 июня 1795 года в Брестский земский суд был представлен документ от местной помещицы Марианны Лыщинской, которым подтверждалось право на приход Лыщицкой церкви, данное ею священнику Хацкевичу16.
Исходя из этих пусть и косвенных фактов, можно с большой долей вероятности утверждать, что первые Лыщинские были православными (на это указывают и их одинарные имена: Лев, Петр, Ян (Иван), Лука, Константин, у католиков были приняты двойные), а после 1596 года они перешли в униатство.
Версия о том, что Лыщинские изначально конфессиально принадлежали православию, бытует и в сочинениях белорусских историков17. Польские ученые эту тему особо не затрагивают, им она крайне невыгодна.
Нельзя не сказать несколько слов о гербе, которым многие столетия пользовались Лыщинские. Это герб «Корчак». В Польше он известен с 1142 года, в 1413 году упоминается в документе Городельской унии ВКЛ и Королевства Польского. По мнению Яна Длугоша (1415 – 1480), герб был создан королем Людовиком I18. Полагаем, Чупа Корчак получил этот герб по Городельской унии.
Помимо Лыщинских, гербом «Корчак» пользовались более 270 шляхетских родов Беларуси, Украины, Литвы и Польши. Частновладельческий герб Лыщинских включает шлем и щит. Шлем венчает княжеская корона, поверх нее – золотая чаша, из которой смотрит влево собака с согнутыми передними лапами. На щите изображены три серебряные реки примерно одинаковой длины. Вверху щита – крупный крест, внизу – охотничий рог. Последние две детали характерны только для герба Лыщинских. Щит справа и слева поддерживают два льва, стоящие на задних лапах19.
Лыщинские в самом начале ХVI века облюбовали Брестское воеводство. ВКЛ – это их родина, они основательно обосновались здесь, занимали государственные должности, защищали свою страну с оружием в руках, представляли ее интересы на сеймах. Изначально Лыщинские исповедовали православие, затем – униатство и католичество, что типично для белорусской шляхты. Лыщицы и Доброниж стали их родовыми усадьбами. Тут рождались наследники. Именно здесь появился на свет Казимир Лыщинский – брестский шляхтич как минимум в четвертом поколении. По гражданству он стопроцентный литвин, в нынешнем понимании – белорус. Считать Казимира Лыщинского поляком нет никаких оснований. Об этом еще 100 лет назад однозначно заявили белорусские ученые20 и неоднократно подтверждали свою точку зрения21.
Глава 2. Отец
Поводов написать эту главу было несколько, и каждый из них достойный.
Во-первых, отец Казимира Лыщинского никогда не становился объектом сколько-нибудь значительного самостоятельного исследования. Он всегда был в тени сына. Ему всегда уделялось непропорционально мало внимания.
Во-вторых, этот человек сыграл выдающуюся роль в воспитании Казимира и формировании его взглядов. Сын во многом шел по стопам отца. Рискнем заявить: имей он другого родителя, трактат «О несуществовании Бога» не был бы написан.
В-третьих, в книге о Казимире Лыщинском за авторством белорусских философов Прокошиной и Шалькевича обнаруживается целый ряд нестыковок относительно должностей и возраста отца. Пожалуй, с этих нестыковок и начнем. Однако сразу сделаем оговорку: мы не ставим цель уличить в чем-либо уважаемых авторов, нам просто важно докопаться до правды.
На странице 22 указанной книги, в самом конце «завещания», приводится подпись: «Иероним Казимир Лыщинский, подстолий мельницкий, судья гродский брестский»22. Документ датируется 22 июня 1666 года. Через две страницы следует цитата уже из «духовного завещания»: «Я, подсудок Брестского воеводства, Иероним Казимир Лыщинский… проживши уже 89 лет…»23 Получается, он начинает текст завещания в качестве подсудка Брестского воеводства, то есть как помощник земского судьи, а подпись ставит в качестве подстолия мельницкого и судьи гродского брестского. На 30-й странице книги повтор: отец Лыщинского составил свое «завещание» 22 июня 1666 года. Далее утверждается, что в том же 1666 году документ внесли в городские актовые книги24. А подобные действия означают только одно: наследодатель умер и его последняя воля обрела юридическую силу. Но! На этой же странице приведены годы жизни 1581 – 1670. И разница между ними как раз 89 лет. Здесь все сходится. Но указанный год смерти (1670) никоим образом не согласуется с годом внесения текста завещания в актовые книги городского суда Бреста (1666). Завещание составлялось перед смертью, заверялось, как правило, тремя свидетелями в момент составления и представлялось родственниками или адвокатами для внесения в актовые книги суда по месту жительства после смерти наследодателя. Таков был порядок, установленный Статутом ВКЛ 1588 года. А у наших уважаемых авторов, так уж выходит, отец Казимира Лыщинского умер дважды.
Теперь что касается должностей, указанных в завещании. Этот документ не историческая хроника, не роман с продолжением. Обычно он составляется в течение нескольких часов, максимум – в течение календарного дня. И как за это время завещатель может поменять несколько должностей?! Как эти должности соотносятся между собой, особенно судейские? Какая из них более значимая: судья гродский брестский или подсудок земский? В конце своей карьеры Гераним Лыщинский пошел на повышение или все же ввиду преклонного возраста был понижен в должности? Чем занимался подстолий? Кто мог претендовать на эти должности? Можно ли было одновременно занимать сразу несколько разных должностей, которые к тому же относились к двум разным государствам (ВКЛ и Королевству Польскому)?
Помимо этого, белорусские философы именуют многократно цитируемый ими документ и завещанием, и духовным завещанием. Возникает вопрос: это один и тот же документ или разные?
Ссылки в книге Прокошиной и Шалькевича даны следующие: в первом случае (с. 22) – ЦГИА БССР в Минске, ф. 319, оп. 2, д. 1884, л. 54 и др., во втором (с. 24) – ЦГИА БССР в Минске, ф. 319, оп. 2, д. 1884, л. 52—54 об., в третьем (с. 30) – ЦГИА БССР в Минске, ф. 319, оп. 2, д. 1884, л. 52. Из этого следует, что речь идет об одном документе, написанном как минимум на шести страницах, ибо сокращение «об.» во втором случае означает, что текстом заполнен оборот страницы 54, а следовательно, и обороты других страниц.
Исторические свидетельства из НИАБ, которые оказались в наших руках, позволяют значительно углубить сведения о главном герое самого скандального судебного процесса в истории белорусской земли, познакомиться с существовавшей тогда правовой системой, лучше понять логику поведения наших предков. Иными словами, они дают возможность взглянуть на события с правовой точки зрения.
Итак, в этой главе и далее мы будем ссылаться на духовное завещание25 отца Казимира Лыщинского и составленный им дележный документ26. Как раз последний в книге Прокошиной и Шалькевича именуется завещанием. Получается, что эти авторы выдали за один два разных документа. На самом деле 22 июня 1666 года датируется дележный документ. Духовное же завещание было составлено 10 сентября 1670 года и через три месяца с небольшим —18 декабря – занесено в актовые книги.
Духовное завещание и дележный документ никогда ранее целиком не публиковались. Даже из этих небольших по объему бумаг, скупых на эмоции и оценки, можно сделать вывод: отец Казимира Лыщинского – во всех смыслах личность неординарная.
Полное имя Геранима – Иероним Казимир. Для нашего времени оно очень редкое. В современной Беларуси Иеронимов, наверно, и не встретишь. Однако именно это имя отца Казимира Лыщинского фигурирует не только в названных, но и во многих других документах. В быту его, скорее всего, звали Ярема или Гераним. Второй вариант для своей книги выбрали и мы. А вот некоторые белорусские писатели странным образом переименовали его в Герасима27. Видимо, тургеневский рассказ «Муму» произвел на них сильное впечатление.
Точная дата (день и месяц) рождения Геранима, как, впрочем, и смерти, неизвестна. Польские и белорусские историки и философы единодушны во мнении, что родился он в 1581 году, а умер ближе к концу 1670-го. Подтверждается это и духовным завещанием.
Один из последних документов, подписанных Геранимом Лыщинским, – постановление дворян Брестского воеводства на пописовом сеймике28. Сеймик проходил 30 сентября 1670 года, а постановление было занесено в актовые книги Брестского гродского суда 1 октября 1670 года. Надо полагать, в этот промежуток (октябрь – начало декабря 1670 года) Гераним и умер.
Двойное имя отца Казимира Лыщинского и дата его рождения допускают возможность того, что изначально он мог быть крещен в православную веру, а затем через унию перешел в католичество, будучи уже взрослым. Об этом мы вскользь говорили в предыдущей главе. На принадлежность Геранима Лыщинского к католической вере однозначно указывает духовное завещание: «А тело мое грешное, яко всевышний творец из земли сотворил, тако ж земле предаю, и сынов моих прошу, дабы похоронили у отцов бернардинов»29. Второе имя – Казимир – Гераним взял, вероятно, во время обряда крещения в католичество30. Это же имя он даст одному из своих сыновей – главному герою нашей книги.
Отец и сын поочередно занимали три основные должности в своей жизни: подстолия мельницкого, судьи гродского брестского, подсудка земского. Эти должности не были наследственными, но по сложившейшейся в ВКЛ практике, как и многие другие, какими бы незначительными они ни казались, порой десятилетиями удерживались представителями одного рода. Лыщинские в этом смысле не исключение. Чтобы не дублировать целиком информацию о профессиональных занятиях Казимира Лыщинского, подробно расскажем в этой главе, чем занимался по службе его отец.
С хронологией служебной карьеры Геранима Лыщинского в исторической литературе возникла путаница.
По версии Гербовника Бонецкого продвижение Геранима по служебной лестнице складывалось так. В 1651 году он занял должность подстолия мельницкого. В 1661 году к ней добавилась должность писаря гродского брестского. В 1665 году писарь пошел на повышение и стал судьей гродским брестским. И, наконец, в 1669 году последовало назначение на должность подсудка брестского31.
В описи Литовской метрики содержится другой вариант карьеры: 1651 год – подстолий мельницкий, 1653-й – писарь гродский брестский, oколо 1664-го – судья гродский брестский, 16 июня 1668 года – подсудок земский брестский32.
Так или иначе, первой ступенькой в политической карьере Геранима Лыщинского была должность подстолия мельницкого, или подстолия земли Мельницкой. В документах встречаются оба наименования, однако более верное второе, так как в Польском королевстве воеводства делились на более мелкие административно-территориальные единицы, которые именовались землями. Земля Мельницкая в составе Подляшья после грабительской Люблинской унии отошла к Польше.
Гераним Лыщинский был небедным человеком. Являясь уроженцем ВКЛ, он владел в том числе поместьями в Подляшье. По состоянию на 22 июня 1666 года в его собственности там находились имения Челив, Горнов и Хрущев. Помимо них, он прикупил огороды с пахотными землями и крепостными крестьянами в Марковщизне33. А в ВКЛ ему принадлежали Лыщицы, Доброниж, Кустынь, Мотыкалы и Галачев34.
На государственные должности могли претендовать только шляхтичи, то есть люди благородного происхождения, имевшие гражданство страны, а также недвижимость на ее территории. Наличие двух, а то и трех должностей у государственного служащего – обычная по тем временам практика, хотя Статут ВКЛ 1588 года подобное запрещал.
К назначению на должность в сопредельном государстве после Люблинской унии у поляков и литвинов были разные подходы. Люблинская уния содержала правило, согласно которому как поляк в ВКЛ, так и литвин в Польской Короне вольны были приобретать честным способом имения и владеть ими на основании права, действующего в той стране, где эти имения находятся35. Однако высшие органы государственной власти каждой из стран трактовали это правило по-своему. Поляки всегда исходили из буквального прочтения текста Люблинской унии, в которой провозглашалось, что с заключением этого союза Королевство Польское и ВКЛ сливались на веки вечные в единое (унитарное) государство, и допускали граждан ВКЛ на государственные должности в своей стране36. Власти ВКЛ считали такую практику неприемлемой, ибо с 6 января 1589 года, после вступления в силу Статута ВКЛ 1588 года, Речь Посполитая фактически являлась уже не унитарным, а конфедеративным государством37. Главная цель Люблинской унии – ликвидация ВКЛ как самостоятельного государства – никогда не была достигнута.
Гераним Лыщинский, как мы уже отметили, будучи гражданином ВКЛ, занимал государственную должность подстолия мельницкого в Подляшском воеводстве. Формально она относилась к Королевству Польскому, которое де-юре являлось союзным, дружественным, но иностранным государством по отношению к ВКЛ. А правовой основой получения этой должности было наличие недвижимости в Подляшье – говоря словами Статута ВКЛ 1588 года, «оседлость». Если бы ситуация рассматривалась сегодня, можно было бы вести речь о двойном гражданстве. Постоянно Гераним Лыщинский проживал в Берестейском воеводстве.
История показывает, что случаи занятия должностей литвинами в Польском королевстве далеко не единичны. В 1591 году виленский епископ Юрий Радзивилл, сын Николая Радзивилла Черного, стал архиепископом краковским. Поляки, конечно, надеялись на взаимность и старались на его место протолкнуть своего Бернарда Мациевского. Однако великий канцлер ВКЛ Лев Сапега был категорически против этой кандидатуры. В течение почти 10 лет он вел борьбу, не уступая ни королю, ни кому бы то ни было иному, и добился своего: на виленскую кафедру назначили уроженца ВКЛ Бенедикта Войну. Позицию Льва Сапеги в этом вопросе активно поддерживал наиболее влиятельный литвинский магнат – великий гетман литовский и виленский воевода Криштоф Радзивилл Перун. В 1595 году Лев Сапега предложил навести порядок в вопросах назначения на государственные должности и установить в сеймовых постановлениях, чтобы на духовные и светские должности в ВКЛ принимались исключительно местные уроженцы. А Криштоф Радзивилл Перун, в свою очередь, внес предложение еще более решительное: под угрозой смертной казни запретить литвинам занимать государственные должности в Польском королевстве. Но пример Лыщинского доказывает, что осуществить это в полной мере не удалось.
Одна из должностей Геранима Лыщинского, которой он весьма дорожил, – подстолий. Это государственный служащий, заместитель стольника. Стольник заведовал сервировкой великокняжеского стола. Во время торжественных приемов эту функцию помогал исполнять подстолий. В ВКЛ должность стольника известна с середины XV века. К XVII веку эти должности стали номинальными, почетными, не связанными с исполнением конкретных обязанностей38. При этом было несколько разрядов подстолиев: великий литовский, земский, поветовый (по числу поветов).
Важное замечание: на государственные должности в ВКЛ назначали пожизненно либо до повышения по службе, основной способ утраты такой должности – смерть.
И здесь обнаруживается очередная задачка с двумя неизвестными, точнее – с известными. Архивы однозначно указывают, что в Подляшском воеводстве земли Мельницкой был свой собственный подстолий. То есть у стольника мельницкого было два заместителя – один в Подляшском, другой в Брестском воеводстве. Но почему два? Возможно, решение этой задачки давно растолковано, но в белорусской исторической литературе мы его не нашли. А потому посмеем предложить свой вариант. Вероятно, наличие двух подстолиев вызвано тем, что Подляшье перешло из состава ВКЛ в состав Польского королевства и не все связанные с этим вопросы были урегулированы до конца.
Первой практической должностью Геранима Лыщинского была должность писаря гродского брестского. Это означает, что он вошел в состав нижней палаты городского суда Бреста. Даты вступления в должность в источниках разнятся: где-то указывается 1653 год, где-то 1661-й. При этом в одном из документов Литовской метрики от 24 июля 1658 года указывается, что Гераним Лыщинский числится писарем гродским брестским39.
В 1653 году ему исполнилось 72 года, даже по нынешним меркам это весьма почтенный возраст. А если верить указанным датам, Гераним Лыщинский в этом возрасте только включается в судебную деятельность. Лев Сапега тоже начинал карьеру писарем гродским в Орше, но ему не было и 20. А вот 70-летний начинающий писарь – факт более чем удивительный. Дальше – еще невероятнее. Должность, на которую Гераним Лыщинский был назначен якобы в 1664 – 1665 годах, гораздо более весомая и значимая, – судья гродский брестский. На тот момент он уже находился в возрасте 83 – 84 лет.
На наш взгляд, верить купчей на имение Кустынь, в которой Гераним Лыщинский фигурирует в качестве подстолия мельницкого и судьи гродского брестского40, нельзя. Эта сделка была совершена 1 мая 1652 года, а занесена в актовые книги брестского земского суда задним числом, только 14 июля 1668 года.
Далее рассмотрим, в какой период Лыщинский-отец стал соответствовать всем критериям для назначения на должность судьи. И исходить будем из того, что на все государственные должности назначали только местных жителей («оседлых»). В Статуте ВКЛ 1588 года под оседлостью понимается постоянное проживание на одном месте и наличие недвижимости в пределах повета. Таким образом, ценз оседлости был в определенном смысле двойным: местный по отношению к стране в целом и местный по отношению к повету. В состав воеводства Брестского, в котором располагались семейные имения Лыщинских, входило два повета: Брестский и Пинский. Основное место службы Геранима Лыщинского находилось в первом.
По Статуту ВКЛ 1588 года в каждом повете было три вида суда: земский, подкаморский и гродский (городской, замковый). К компетенции первого относились в основном гражданские иски, второй рассматривал земельные споры, а третий вел в основном уголовные дела. Гераним Лыщинский был судьей «об обидах в делах кровавых», то есть судьей по уголовным делам, причем, скорее всего, первым в роду Лыщинских.
Городской суд – наиболее древний по времени создания институт судебной власти в ВКЛ. Его заседания проводились в замке (гроде, городе), отсюда и название – гродский, или, в более привычном для современного уха звучании, городской.
Суд действовал в двух составах: высшем и низшем. Главная роль в городском суде принадлежала служебным лицам местной администрации: воеводе, старосте и их заместителям. В состав высшего суда входил воевода или староста, а также представители местной феодальной знати. Высший суд был апелляционной инстанцией по отношению к низшему и рассматривал жалобы на его действия. Низший городской суд представляли три человека: заместитель воеводы (старосты), судья и писарь41. Осуществлять правосудие они могли только в полном составе.
Таким образом, находясь в должности судьи, Гераним Лыщинский был вторым человеком в нижней палате уголовного суда Брестского повета.
Исходя из состава суда, мы можем утверждать, что судья должен был иметь специальную подготовку в области права либо практический опыт работы. Наместник воеводы или подстароста председательствовали в суде в силу занимаемой ими административной должности, писарь фиксировал ход уголовного процесса. Основная нагрузка приходилась на судью, именно он разбирал дело в соответствии с законом.
Так кто же мог получить должность судьи? Городским судьей мог стать только человек добрый, добродетельный, достойный, обладающий знаниями в праве и письме русском, шляхтич, в том же повете оседлый, и уроженец ВКЛ, который принес присягу, аналогичную присяге судьи земского42. Таким образом, к претенденту на должность судьи городского предъявлялось как минимум девять требований. Три из них носят явно оценочный характер – добрый, добродетельный, достойный. Что конкретно понимать под данными характеристиками, Статут ВКЛ 1588 года не разъяснял, а потому нередко на этой почве случались жаркие споры.
Хочется отметить еще одно требование, которое прямо не устанавливалось для судьи гродского, но наряду со всеми перечисленными предъявлялось к судье земскому, – набожность. Возможно, это подразумевалось само собой. Но, скорее, составляя артикул 37 раздела 4 Статута ВКЛ 1588 года, данную характеристику случайно пропустили. В пользу этого предположения говорит тот факт, что присягу оба судьи приносили по одной и той же форме (отдельной формы для судьи городского не было), и из текста присяги однозначно следует, что судья должен принадлежать к христианскому вероисповеданию.
Мы не знаем точно, когда именно присягал в качестве судьи гродского Гераним Лыщинский, но текст ее был следующий:
«Я, Гераним Лыщинский, присягаю господу Богу всемогущему в Троице единому, что в том повете Брестском согласно Богу справедливо и в соответствии с правом Статута, данного Великому княжеству Литовскому, в соответствии с жалобой и возражениями сторон, а не следуя своим сведениям, ничего не добавляя и не отвергая, буду судить, объяснения и записи принимать, не давая поблажки высоким и низким сословиям, не взирая на имеющих достопочтенные звания и должности, на богатого и на бедного, на приятеля, кровного, сбереженного, ни на неприятеля, на местного, ни на гостя не глядя, не с дружбы, не с ссоры, не со страха, не за посулы и дары, ни надеясь на дары потом, и какого вознаграждения, и не советуя стороне ни боясь наказания, мести и угроз, но самого Бога и его святую справедливость, и право общее и совесть свою перед глазами имея, так сроков никогда не затягивая, кроме великой правдивой тяжелой болезни, а как на том справедливо присягаю, так мне, Боже, помоги. А если несправедливо – Боже, убей меня»43.



