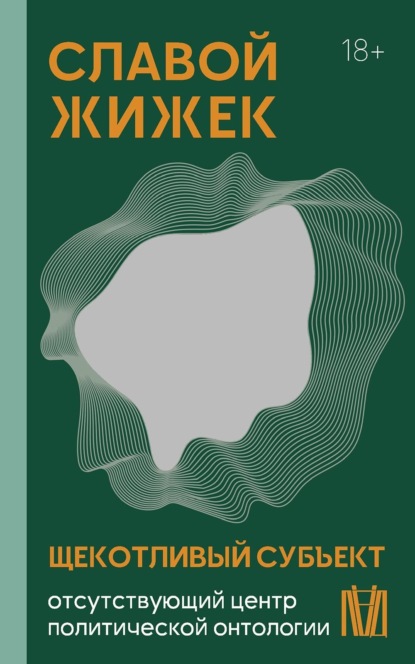
Полная версия:
Щекотливый субъект. Отсутствующий центр политической онтологии
Мы имеем здесь дело с парадигматическим случаем диалектического «прогресса»: мы переходим от Логики (имеющей дело с внешними рефлексивными оппозициями, с рассуждениями, с мышлением, противопоставленным своему объекту, бытию) к Метафизике (непосредственному описанию структуры Абсолюта) не путем какого-то «прогресса», серьезной трансформацией Логики, но осознания того, что то, что мы (ошибочно) считали простым органоном, подготовительными инструментами, предварительным шагом к нашему постижению Абсолюта, то есть к Метафизике в собственном смысле слова, что уже описывает структуру Абсолюта. Иными словами, мы неспособны постичь Абсолют именно потому, что мы продолжаем считать, что вне и над областью нашего конечного рефлексивного мышления существует Абсолют, который необходимо постичь — мы преодолеваем ограничение внешней рефлексии, просто сознавая, что эта внешняя рефлексия присуща самому Абсолюту. В этом и состоит фундаментальная критика Канта Гегелем: не в том, что Кант неспособен преодолеть внешнюю рефлексию рассудка, а в том, что он все еще считает, что по ту сторону существует нечто, ускользающее от его понимания. Кант не замечает, что его «Критика чистого разума», как критические «пролегомены» к будущей метафизике, и есть единственная возможная метафизика.
С этим различием пересекается также различие между «Логикой» в (традиционном аристотелевском) смысле органона, предлагающего концептуальные инструменты, которые помогают нам схватывать онтологическую структуру реальности (правила нашего формирования понятий и форм суждения и рассуждения) и «Метафизикой» (которая непосредственно описывает онтологическую структуру): первая триада «Феноменологии» остается на уровне «Логики», будучи феноменальной последовательностью различных способов, которыми конечный, изолированный субъект может постичь общество; тогда как вторая триада описывает феноменальную последовательность действительных исторических форм/воплощений самого Абсолюта. («Логика» раннего Гегеля, таким образом, грубо соответствует первой части «субъективной логики» зрелого Гегеля, которая следует за «объективной» логикой, развертывающей онтологическую структуру досубъективной реальности.) В этом смысле можно вполне обоснованно утверждать, что «Феноменология» Гегеля – это переходная работа, что в ней все еще содержатся следы раннего Гегеля, особенно в ее зачарованности «безумным танцем» рефлексивности, диалектических превращений как (все еще) вступительной прелюдии к Системе в собственном смысле слова с ее удовлетворенным спекулятивным саморазвертыванием. Иными словами, «Феноменология» еще не является «подлинно гегелевской» именно потому, что она воспринимает себя как «введение» в собственно Систему (и в то же время как ее первую часть, которая является источником ее основной неразрешимой двусмысленности).
По Гегелю, Разум – это не еще одна, более «высокая», способность по сравнению со способностью «абстрактного» Рассудка; Рассудок определяется самой иллюзией, будто вне его существует другая область (либо невыразимого Мистического, либо Разума), которая ускользает от ее дискурсивного схватывания. Короче говоря, чтобы перейти от Рассудка к Разуму, нужно не добавить, а наоборот, вычесть нечто: Гегель называет «Разумом» сам Рассудок, лишенный иллюзии того, что по ту сторону его существует нечто. Именно поэтому при непосредственном выборе между Рассудком и Разумом необходимо выбрать Рассудок: не для того, чтобы играть в глупую игру самоослепления (абсолютный субъект сначала должен пережить свое отчуждение, положить внешнюю реальность независимой от себя, чтобы заменить/снять это отчуждение путем признания в ней своего собственного продукта…), а по той простой причине, что вне или по ту сторону Рассудка нет ничего. Сначала мы выбираем Рассудок, затем, вторым шагом, мы вновь выбираем Рассудок, но ничего не прибавляя к нему (то есть без иллюзии, будто существует другая, «высшая» способность по ту сторону или за ним, даже если эту «высшую» способность называют Разумом) – и этот Рассудок, лишенный иллюзии того, что по ту строну его существует нечто, и есть Разум.
Это позволяет нам пролить новый свет на старый вопрос об отношениях между Кантом и Гегелем. Наиболее убедительный ответ сегодняшнего кантианца на гегелевскую критику Канта (в том виде, в каком она изложена, скажем, в его тщательном рассмотрении несоответствий и несообразностей, присутствующих в «моральном видении мира» в «Феноменологии духа») прост: и что? То, что Гегель критикует как несообразности (тот факт, что моральная теория Канта считает необходимостью нравственную деятельность, одновременно делая невозможным совершение подлинного нравственного поступка и т. д.), и есть парадокс подлинно кантианской позиции… Гегельянский ответ на это был бы таким: да, но Кант не способен признать, открыто изложить эти парадоксы, которые составляют основу его философского здания; и вовсе не прибавляя ничего к Канту (скажем, «высшей» способности Разума, которая способна преодолеть кантианскую противоположность феноменального и ноуменального, свободы и необходимости и т. д.), гегелевская критика просто открыто признает и принимает парадоксы, конститутивные для позиции Канта. Достаточно вспомнить отношения между Сущностью и ее Явлением: Канту, конечно, «неявно» уже известно, что ноуменальная Сущность вне феноменальной реальности не просто является трансцендентным «в-себе», а так или иначе должна явиться в самой этой реальности (см. его известный пример с воодушевлением как знаком ноуменальной Свободы: в воодушевлении, которое Великая французская революция вызвала у просвещенных наблюдателей по всей Европе, ноуменальная Свобода явилась как вера в возможность исторического деяния, которое как бы начинается ex nihilo, которое приостанавливает цепочку причинных связей и осуществляет свободу); но это окончательное тождество ноуменального с явлением оставалось для Канта «в-себе» – в рамках его построения невозможно открыто сказать, что ноуменальная Свобода – это не что иное, как разрыв в феноменальной реальности, предвестие другого измерения, которое является в феноменальной реальности[93].
Спекулятивное тождество субстанции и субъекта
Вернемся к основной критике Гегеля у Хесле: Гегель не замечает необходимости второго примирения Природы и Духа (как Природы, возвращающейся к себе из своей внеположности), потому что он не способен извлечь все следствия из того факта, что движение Er-Innerung (интернализации внешнего, того, что просто дано как необходимое/случайное) строго соответствует противоположному движению экстернализации, повторной «натурализации». Гегель, который всегда подчеркивает аспект Er-Innerung, «возвращения Духа к себе» от внеположности Природы, не учитывает противоположное движение экстернализации – тот факт, что Дух, который «возвращается к себе от Природы», все еще остается конечным Духом, абстрактно противоположным Природе, и должен как таковой, в еще одном диалектическом повороте, вновь быть примирен с Природой… Тем не менее кажется, что Хесле упускает здесь собственно гегелевское движение, в котором «абстрактная» интернализация (уход к внутриположному мысли) сопровождается утверждением (еще одним его аспектом) бессмысленной внеположности, абстрактно противостоящей субъекту. Классическим политическим примером, конечно, служит Римская империя, в которой субъект уходит от Sittlichkeit греческого полиса в абстрактную внутреннюю свободу и именно потому внеположность заявляет о своих правах под видом государственной власти империи, переживаемой субъектом, как внешняя сила, в которой он больше не распознает своей нравственной сущности.
Наиболее элементарной формой экстернализации Духа, конечно, является язык: поскольку Гегель не устает замечать, что наш внутренний опыт может утрачивать следы внешних чувств и приобретать форму чистой мысли, только вновь экстернализируясь в бессмысленном знаке – мы мыслим только в словах, в языке. То же относится и к обычаям: обычай образует необходимую основу, пространство нашей социальной свободы. И то же относится к самой социальной субстанции, позитивному порядку Sittlichkeit лакановского «большого Другого», который составляет нашу «вторую натуру»: «объективный дух», повторную натурализацию и/или экстернализацию духа[94].
В своем подходе, который, называя историческую диалектику единственным аспектом у Гегеля, заслуживающим того, чтобы быть сохраненным, полностью противоположен систематической реконструкции Хесле, Чарльз Тэйлор также пытается показать внутреннюю непоследовательность гегелевской логики экстернализации Идеи. Согласно Тэйлору[95], гегельянский Дух имеет два воплощения: он полагает свои предпосылки, условия своего существования и проявляется в своей физической внеположности. В случае с Абсолютным Духом эти два воплощения совпадают, тогда как в случае с человеком как конечным существом они всегда разделены, то есть человек всегда помещен в условия существования, которые он не может полностью «интернализировать», превратить в выражение своей субъективности – всегда сохраняется элемент случайной внеположности.
Первой ассоциацией, которая приходит здесь на ум, конечно, является Шеллинг: шеллинговская идея различия между божественным существованием и его несводимой основой состоит в том, что разрыв, который навсегда отделяет выражение от внешних условий существования, всегда касается также Абсолютного Субъекта, Самого Бога – Бог и сам находится в обстоятельствах, которые навсегда остаются непроницаемыми Другим. Поэтому Шеллинг служит загадочным «исчезающим посредником» между абсолютным идеализмом и постгегельянским историзмом. Этот переход от идеализма к историзму, возможно, лучше всего иллюстрируется известным высказыванием Маркса в самом начале «Восемнадцатого брюмера Луи Бонапарта» о том, что люди создают историю, но не из ничего или в условиях, которые они сами для себя выбрали, – они создают историю в условиях, в которых они оказались и которые навязаны им. Здесь наблюдается отличие от (определенного образа) гегелевского Идеализма, в котором абсолютная Идея действует как Субъект, полагающий все свое содержание и, таким образом, раскрывающийся только из себя самого, не основываясь ни на каких внешних случайных предпосылках, то есть он не связан ограничениями временности-случайности-конечности. Но между абсолютным Идеализмом и постидеалистическим историзмом Шеллинг занимает уникальное положение «исчезающего посредника»: Шеллинг сохраняет Абсолют в качестве Субъекта (то есть он говорит о Боге, а не о человеке), но при этом применяет к нему фундаментальный постулат временности-случайности-конечности, в конечном итоге утверждая, что Бог создал мир не из ничего – Он создал его в условиях, в которых он оказался и которые были ему навязаны (эти «условия», конечно, суть непостижимое Реальное Основание Бога, в чем сам Бог еще не является Богом)[96].
Ошибка Тэйлора состоит в том, что он удваивает понятие субъекта в человеческую субъективность (конечную, пребывающую в разрыве между предпосылкой и выражением) и призрачного монстра, именуемого «Абсолютным Субъектом», Духом [Geist], Богом – или, как называет его Тэйлор (в совершенно негегельянском ключе), «космическим духом», простым «носителем» которого служит (само)сознание конечного человеческого субъекта. Таким образом, мы имеем дело с расколом между двумя субъектами, бесконечным абсолютным Субъектом и конечным человеческим субъектом вместо диалектического спекулятивного тождества между бесконечной Субстанцией и Субъектом как агентом конечности/видимости/раскола: «Субстанция – это Субъект» означает, что раскол, который отделяет Субъекта от Субстанции, от недоступного в‑себе по ту сторону феноменальной реальности, присущ самой Субстанции. Иными словами, ключевая идея состоит в прочтении гегелевского суждения «Субстанция – это Субъект» не как прямого утверждения тождества, а как примера (возможно, образцового примера) «бесконечного суждения», как «Дух – это кость». Суть не в том, что Субстанция (окончательная основа всех сущностей, Абсолют) – это не досубъективная Основа, а Субъект, сила саморазличения, которая полагает свое Инобытие, а затем вновь присваивает его и так далее: «Субъект» означает несубстанциальную силу феноменализации, явления, «иллюзии», раскола, конечности, Рассудка и так далее, и понимание Субстанции как Субъекта означает как раз, что раскол, феноменализация и так далее присущ жизни самого Абсолюта. Не существует никакого «абсолютного Субъекта» – субъект «как таковой» относителен, саморазделен, и как таковой Субъект присущ Субстанции.
В отличие от этого спекулятивного тождества Субстанции и Субъекта, понятие их прямой тождественности связано с удвоением субъектов, которое вновь сводит субъективность в собственном смысле слова к случайности («носителю») субстанциального Абсолюта, Другому, который говорит «через» конечных человеческих субъектов. Это также создает ложное, псевдогегельянское представление о диалектическом процессе, в котором его Субъект («космический дух») полагает свою внеположность, отчуждает себя, чтобы восстановить свою целостность на более высоком уровне: ошибочная предпосылка состоит в том, что Субъект процесса так или иначе дан изначально, а не порождается самим процессом раскалывания Субстанции.
Еще один способ изложить эту мысль связан с двумя различными прочтениями ситуации субъекта, который сталкивается с непостижимым избытком Вещи, ускользающей от его рефлексивного символического схватывания. «Субстанциалистский» способ прочтения состоит просто в утверждении, что наша (конечного субъекта) способность схватывания Объекта, с которым мы сталкиваемся, всегда и априорно превосходит нас: в объекте содержится нечто, что всегда сопротивляется переводу в нашу концептуальную сеть (идея «преимущества объекта», неоднократно высказываемая Адорно в его «Негативной диалектике»). Но из чего состоит этот избыток? Что если то, что ускользает от нашего схватывания, то, что «в объекте превышает его самого», – это следы того, чем в прошлой истории этот «объект» (скажем, историческая ситуация, которую пытается анализировать субъект) мог стать, но так и не стал? Понимание исторической ситуации «в ее становлении» (как выразился бы Кьеркегор) означает не понимание ее как положительного набора черт («то, каковы вещи на самом деле»), а различение в ней следов неудачных «эмансипационных» попыток освобождения. (Здесь я, конечно, намекаю на беньяминовское понятие революционного взгляда, который воспринимает действительное революционное действие как искупительное повторение прошлых неудачных попыток эмансипации.) Но в этом случае «преимущество объекта», того, что ускользает от нашего схватывания в Вещи, – это больше не избыток его позитивного содержания по отношению к нашим познавательным способностям, а, напротив, его нехватка, то есть следы провалов, отсутствия, вписанные в его позитивное существование: постичь Октябрьскую революцию «в ее становлении» – значит распознать огромный освободительный потенциал, который был одновременно пробужден и сокрушен ее исторической действительностью. Следовательно, этот избыток/нехватка – это не часть «объективного», которое превосходит познавательные способности субъекта: скорее он состоит из следов самого субъекта (его разбитых надежд и желаний) в объекте, так что «непостижимым» в объекте оказывается объективное соответствие/коррелят самого глубокого внутреннего ядра желания самого субъекта.
Гегельянский принудительный выбор
Эти парадоксы служат ключом к гегельянскому противопоставлению «конкретной» и «абстрактной» всеобщностей. Гегель был первым, кто разработал по-настоящему современное понятие индивидуализации через вторичную идентификацию. Вначале субъект погружен в особенную жизненную форму, в которой он был рожден (семья, местная община); единственный способ для него вырваться из своего изначального «органического» сообщества, порвать связи с ним и утвердиться в качестве «автономного индивида» заключается в том, чтобы изменить свою фундаментальную привязанность, распознать субстанцию своего бытия в другом, вторичном сообществе, которое является всеобщим и одновременно «искусственным», более не «спонтанным», а «опосредованным», опирающимся на деятельность независимых свободных субъектов (нация versus местная община, профессия в современном смысле – работа в крупной анонимной компании – versus «персонифицированные» отношения между мастером и подмастерьем; академическое сообщество знания versus традиционная мудрость, передаваемая из поколения в поколение; и т. д.; вплоть до матери, которая больше полагается на руководства по уходу за детьми, чем на родительские советы). В этом сдвиге от первичной к вторичной идентификации первичные идентификации подвергаются своеобразному превращению: они начинают функционировать как форма видимости всеобщей вторичной идентификации (скажем, будучи хорошим семьянином, я способствую правильному функционированию своего национального государства). В этом и состоит гегельянское различие между «абстрактной» и «конкретной» всеобщностью: всеобщая вторичная идентификация остается «абстрактной», поскольку она открыто противопоставляется особенным формам первичной идентификации, то есть постольку, поскольку она вынуждает субъекта отказаться от своих первичных идентификаций; она становится «конкретной», когда она воссоединяет первичные идентификации, превращая их в формы проявления вторичной идентификации.
Данное противоречие между «абстрактной» и «конкретной» всеобщностью четко различимо в неопределенном социальном статусе раннехристианской церкви: с одной стороны, имел место фанатизм радикальных групп, которые не видели никакой возможности сочетать подлинно христианское мировоззрение с существующим пространством господствующих социальных отношений и тем самым представляли серьезную угрозу для социального порядка, но, с другой стороны, имели место попытки примирения христианства с существующей структурой господства, позволявшие участвовать в общественной жизни, занимать место в ней свое определенное место (прислуги, крестьянина, ремесленника, феодала…) и при этом оставаться добропорядочным христианином – исполнение своей определенной социальной роли не только считалось совместимым с христианством, оно даже признавалось особой формой исполнения всеобщего долга христианина.
При первом приближении все кажется ясным и однозначным: философом абстрактной всеобщности является Кант (и, вместе с Кантом, Фихте): в философии Канта всеобщее (нравственный закон) действует как абстрактное Sollen, то, что «должно быть» и что как таковое обладает террористическим/подрывным потенциалом – Всеобщее означает невозможное/безусловное требование, сила негативности которого неизбежно подрывает всякую конкретную тотальность; вопреки этой традиции абстрактной/негативной всеобщности, противостоящей своему особенному содержанию, Гегель подчеркивает, что истинная всеобщность раскрывается в ряде конкретных определений, воспринимаемых абстрактным Рассудком как препятствие полному осуществлению Всеобщего (скажем, всеобщий моральный Долг раскрывается, становится действенным через конкретное богатство особенных человеческих страстей и стремлений, уничижительно называемых Кантом «патологическими» препятствиями).
Но так ли все просто? Чтобы не упустить подлинно гегельянский привкус противопоставления абстрактной и конкретной всеобщностей, необходимо «скрестить» его с другим противопоставлением: позитивной Всеобщности как простой пассивной/нейтральной среды сосуществования ее особенного содержания («немая всеобщность» вида определяется тем, что является общим для всех членов вида) и Всеобщности в ее действительном существовании, которая является индивидуальностью, утверждением субъекта как уникального и несводимого к особенной конкретной тотальности, в которую он погружен. Пользуясь кьеркегоровским языком, это различие является различием между позитивным Бытием Всеобщего и всеобщностью-в-становлении: изнанкой Всеобщего как умиротворяющего нейтрального средства/вместилища его особенного содержания оказывается Всеобщее как сила негативности, которая подрывает фиксированность всякой особенной констелляции, и эта сила появляется в виде абсолютного эгоистического самоограничения индивида, его отрицания всего определенного содержания. Измерение Всеобщности становится действительным (или, говоря гегельянским языком, «для себя»), только «вступая в существование» как всеобщее, то есть противопоставляя себя всему своему особенному содержанию, вступая в «негативную связь» со своим особенным содержанием.
В том, что касается противопоставления абстрактной и конкретной Всеобщностей, это означает, что единственный путь к действительно «конкретной» всеобщности проходит через полное принятие радикальной негативности, посредством которой всеобщее отрицает все свое особенное содержание: несмотря на обманчивую видимость, эта «немая всеобщность» нейтрального вместилища особенного содержания служит преобладающей формой абстрактной всеобщности. Иными словами, единственный способ, позволяющий Всеобщности стать «конкретной», состоит в том, чтобы перестать быть нейтрально-абстрактной для своего особенного содержания и включить себя в свои особенные подвиды. Парадоксальным образом это означает, что первый шаг к «конкретной всеобщности» состоит в радикальном отрицании всего особенного содержания: только путем такого отрицания Всеобщее обретает собственное существование, становится зримым «как таковое». Вспомним здесь гегелевский анализ френологии, который завершает главу о «Наблюдающем разуме» в его «Феноменологии»: Гегель обращается к явно фаллической метафоре для объяснения противоположности двух возможных прочтений суждения «Дух – это кость» (вульгарно-материалистическое «редукционистское» прочтение – форма нашего черепа действительно и напрямую определяет особенности нашего мышления, и спекулятивное прочтение – дух достаточно силен, чтобы утвердить свое тождество с самым инертным материалом и «снять» его, то есть даже самый инертный материал не может избежать опосредующей силы Духа). Вульгарно-материалистическое прочтение подобно подходу, который видит в фаллосе только орган мочеиспускания, тогда как спекулятивное прочтение также способно увидеть в нем намного более высокую функцию оплодотворения (то есть «зачатие» [conception] как биологическое предвосхищение понятия).
На первый взгляд, мы имеем здесь дело с известным элементарным движением Aufhebung («снятия»): необходимо пройти через самое низкое, чтобы вновь достичь самого высокого, утраченной тотальности (необходимо утратить непосредственную реальность в самоограничении «мировой ночи», чтобы восстановить ее как «полагаемую», опосредуемую символической деятельностью субъекта; необходимо отречься от непосредственного органического Целого и подчиниться омертвляющей деятельности абстрактного Рассудка для восстановления утраченной тотальности на более высоком, «опосредованном» уровне как тотальности Разума). Этот шаг, по-видимому, предлагает себя в качестве идеальной мишени стандартной критики: да, конечно, Гегель признает ужас психотического ухода в себя и его «утраты реальности», да, он признает необходимость абстрактного расчленения, но только как шаг в окольном пути, который, в соответствии с суровой диалектической необходимостью, возвращает нас к воссозданному органическому Целому… Мы утверждаем, что в таком прочтении упускается суть рассуждений Гегеля:
Глубина, которую дух извлекает изнутри наружу, но не далее своего представляющего сознания, оставляя ее в нем – и неведение этим сознанием того, что им высказывается, есть такое же сочетание возвышенного и низменного, какое природа наивно выражает в живущем, сочетая орган его наивысшего осуществления – орган деторождения – с органом мочеиспускания. – Бесконечное суждение как бесконечное можно было бы назвать осуществлением жизни, постигающей самое себя, а не выходящее из представления сознание его можно было бы сравнить с мочеиспусканием[97].
Внимательное прочтение этого пассажа показывает, что идея Гегеля заключалась не в том, что, в отличие от вульгарного эмпирического сознания, которое видит только мочеиспускание, соответствующая спекулятивная установка должна выбрать оплодотворение. Парадокс состоит в том, что прямой выбор оплодотворения – верный способ упустить суть. Невозможно выбрать «истинное значение» напрямую, то есть необходимо начать с «неверного» выбора (мочеиспускания): по-настоящему спекулятивное прочтение появляется только при повторном прочтении, как следствие (или побочный продукт) первого, «неверного» прочтения[98].



