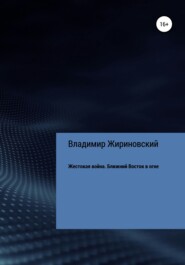 Полная версия
Полная версияЖестокая война. Ближний Восток в огне
У кого больше автоматов, патронов – у того и власть. Тем и суд вершить. Но над кем? Над своими же гражданами…
Пора уже честно и откровенно признать: война против России никогда не прекращалась и никакого «нового мышления» никогда не было, нет и не может быть в помине.
Прекращение такой войны противоречило бы объективным законам геополитики. В мире всегда были и будут сильные и слабые, победители и побежденные.
Как только за счет разрушения СССР усилились США, сразу же выросла экономическая мощь Китая, до этого влачившего жалкое существование на задворках цивилизации. Как только стала усиливаться политическая роль России, тут же противоборствующие ей силы начали натравливать на нее Украину, чтобы ослабить растущее влияние нашего Отечества на европейском пространстве.
Весь фокус в том, что все страны и народы живут в диалектическом пространстве или, как говорили те же классики, в единстве и борьбе противоположностей.
При таком характере отношений сегодняшние победители могут, даже не подозревая об этом, оказаться в роли побежденных. И наоборот.
Древние греки определили это явление очень метко – Пиррова победа. Это когда победивший затратил столько сил и возможностей, что уже не в состоянии воспользоваться плодами своей победы.
Именно это и произошло с США и ее сателлитами. Победив в холодной войне после войны горячей СССР и его сателлитов, США оказались откровенно неспособными воспользоваться результатами своей победы над «лагерем социализма». Им не под силу переварить новую расстановку сил как на мировой арене, так и внутри «золотого миллиарда».
БЛИЖНЕВОСТОЧНАЯ ВОРОНКА
В современной классификации конфликтов (есть целая политическая наука, называемая конфликтологией) ближневосточный конфликт относится к третьей группе, называемой конфликты-воронки.
Это самая сложная со всех точек зрения конфликтная ситуация. Она значительно отличается от первых двух групп конфликтов.
Чтобы было понятнее, дадим оценку этим группам.
Первая группа – это внутренние конфликты страны. Их условно можно разделить на две подгруппы: гражданские войны за власть над страной (Ливия, Нигерия, Кения и др.) и эт- но-конфессиональные войны сепаратистов за создание своих государств (Филиппины, Сирия, Судан и др.).
Во вторую группу входят локальные двух-трехсторонние конфликты, не привлекающие другие силы и не являющиеся самовоспроизводящимися. Примером могут служить эритрейско-эфиопско-сомалийские и индо-пакистано-китайские противоречия, а также противостояние КНР и Тайваня, КНДР и Республики Корея. Практика показывает, что эти конфликты могут быть решены, хотя иногда длятся десятилетиями.
Наконец, третья группа, к которой и относится ближневосточный конфликт-воронка.
Уже в самом названии заключена их сущность. Такие конфликты являются многосторонними и плохо управляемыми, хотя каждая из участвующих сторон уверена, что эффективно его контролирует.
Но поскольку уверены в этом десятки стран и государств, то конфликт-воронка приобретает специфические внутренние закономерности. Причем главная из них – постоянное расширение с втягиванием в него все новых масс людей.
Таких конфликтов в современном мире, по нашим подсчетам, всего четыре: «старейший» ближневосточный (с 1947 года), кавказский (с 1992 года), балканский (с 1992 года), средне-азиатский (с 1996 года).
Как видим, большинство из них сравнительно молодые. Несмотря на то что они унесли уже тысячи человеческих жизней, их потенциал полностью раскроется лет через 10—15.
Все конфликты-воронки – постоянно действующие. Некоторые из них удается «заморозить» на короткий период. Скажем, ближневосточный конфликт был приостановлен на несколько лет (с 1993 до 1999 года).
Однако затем они вспыхивают с новой силой и продолжают свое кровавое дело, как это и было с вышеупомянутым конфликтом, в котором теперь участвуют десятки стран, удаленных от Ближнего Востока на тысячи километров.
Перечисленные глобальные конфликты-воронки еще и связаны между собой. В XXI веке уже обозначилась тенденция к их разрастанию и слиянию. Поэтому они представляют наибольшую опасность и, по сути, являются внешним проявлением возможной третьей мировой войны.
Ближневосточная воронка охватывает регион со всеми его ресурсами, прежде всего нефтью. Война в эпицентре ближневосточного конфликта принципиально отличается от всех предыдущих войн с арабскими странами. Она, как уже говорилось, по сути, является гражданской.
Чтобы понять, почему мы называем ближневосточный кризис воронкой, необходимо вспомнить о детонаторе всех конфликтов (между курдами и турками, шиитами и суннитами, Асадом и ИГИЛ и проч.) в регионе.
Это прежде всего Израиль. Его позиция понятна. Чтобы не быть уничтоженным арабами и не возвращать земли в Палестине их коренным жителям, израильтяне делают все, чтобы стравить между собой страны ислама.
За Израилем стоят США, большая часть стран Западной и Восточной Европы, а в последнее время в какой-то степени и Россия.
Исламский же мир после разрушения стабильности в Ливии, Ираке и Сирии расколот, а его члены готовы сражаться друг с другом. Любой союз между мусульманскими лидерами «друзья» с Запада тут же либо разрушают, либо делают своим вассалом.
Какой бы ни была ситуация в Сирии, Ираке, Иране, Египте, Саудовской Аравии или Турции, главный детонатор в Палестине постоянно искрит и находится в готовности номер один для подрыва всего узла ближневосточных конфликтов.
С обострением ситуации в эпицентре конфликта обостряется противостояние между политическими силами и странами, стоящими за конфликтующими сторонами.
Израильские власти называют ракетные и танковые атаки на палестинские объекты «акциями возмездия», но при этом начинает действовать уже отмеченный нами механизм: чем жестче политика Израиля по отношению к палестинцам и их лидерам, тем активнее террористическая деятельность против Израиля.
У палестинцев, которые не имеют ни современной авиации, ни артиллерии, ни бронетехники, ни других современных средств ведения войны, единственным ответом может быть только террор – индивидуальный и коллективный.
За последнее время небывалых в Новейшей истории масштабов достиг так называемый «смертный терроризм». Обострение ситуации в эпицентре ближневосточного конфликта влечет за собой расширение терроризма практически во всем мире, поскольку он направлен и против тех, кто поддерживает Израиль.
Что касается России, то ей нецелесообразно занимать безоглядно произраильскую позицию, поскольку она ущербна с двух точек зрения.
Во-первых, наша страна теряет влияние на арабских оппонентов Израиля. Во-вторых, стимулируется терроризм на собственной территории.
С международно-правовой точки зрения такая позиция тоже не выдерживает критики, поскольку противоречит многочисленным решениям Генеральной Ассамблеи ООН, ряду резолюций Совета Безопасности ООН и других международных организаций.
Постоянные столкновения на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а также между Израилем и действующей в Южном Ливане проиранской организацией «Хезболла» привели к сотням человеческих жертв, в основном среди палестинцев, поскольку израильская армия и полиция действуют намного грамотнее и эффективнее, чем их враги.
С 1974 года появились некоторые признаки арабского единства. Наиболее радикальные арабские страны уже оказали возможную помощь палестинской стороне, несмотря на жесткую блокаду Израилем ее основных каналов.
Ряд арабских стран тогда даже выразил прямую готовность принять участие в военных действиях против «сионистского врага». А семейство Саудидов – верных слуг США – даже выразило недовольство произраильской американской позицией.
Впервые за всю свою историю ближневосточный конфликт не только в политическом, но и военном плане охватил такие государства, как Иордания, Иран (об этом говорят факты захвата оружия, якобы предназначенного для палестинского восстания).
Степень кровопролития в эпицентре конфликта (Палестина) превосходит все имевшиеся ранее. Борьба палестинского народа за самоопределение все больше приобретает общемусульманский характер.
Не случайно исламский фактор сыграл значительную роль в образовании балканской кризисной воронки и продолжает оказывать существенное влияние на все мировые конфликты, где одной из сторон являются мусульмане (включая Индию, Индонезию и Филиппины).
В настоящее время ситуация в Палестине на первый взгляд вроде бы затихла. Она, если кратко, характеризуется для всех сторонучастниц общим знаменателем – выжидательной позицией.
Это связано в первую очередь с победой в феврале 2006 года на парламентских выборах в Палестине самого непримиримого противника Израиля – движения ХАМАС (исламского движения сопротивления), штаб-квартира которого находится в Тегеране.
Что интересно, несмотря на экономическую нестабильность в секторе Газа, правящая там с июля 2007 года ХАМАС до сих пор пользуется уважением среди народа, что позволяет ей вести рациональную политику в отношении Израиля, действуя больше на фронтах внешней политики, нежели в уличных перестрелках.
Для многих аналитиков и специалистов по Ближнему Востоку такая тактика ХАМАС является свидетельством стремления палестинцев использовать имеющиеся возможности для создания своего независимого государства.
Движение ХАМАС представляет интересы не только мусульман, но и христиан: оно контролирует Газу и Западный берег Иордана. В городе Вифлеем мэром тогда же был избран представитель ХАМАС – православный христианин. Православная церковь Палестины и Иерусалимский патриархат поддержали ХАМАС на выборах.
В целом в сложившейся сложной ситуации в ближневосточной воронке виновен американский гегемонизм, который проводит нынешняя американская элита. Она подтолкнула США на войну с Ираком, а сейчас разрабатывает военные планы против Ирана.
Однако в гораздо большей степени арабские страны беспокоит ядерный арсенал Израиля, насчитывающий, по мнению международных экспертов в области вооружений, по меньшей мере 200 боеголовок, включая авиабомбы, боеголовки ракет и нестратегическое оружие.
Израиль официально не признает наличие у него ядерного оружия, но и не отрицает этого. Кроме того, он отказывается сотрудничать по данному вопросу с международными организациями, прежде всего с МАГАТЭ.
Арабов всерьез беспокоит тот факт, что поддерживаемый США Израиль стремится быть единственным государством на Ближнем Востоке, обладающим оружием массового поражения.
Данное обстоятельство расценивается как стремление Израиля нарушить относительный военный паритет и утвердить свое господство на Ближнем Востоке. Попытки Израиля монополизировать право на обладание ядерным оружием на Ближнем Востоке рассматриваются как желание Израиля установить свою гегемонию и воспринимаются как прямая угроза региональной безопасности и главное препятствие для развития сотрудничества в регионе.
В последнее время появились сообщения, свидетельствующие о стремлении Израиля не только к более тесным отношениям с НАТО, но и даже о его вступлении в этот военно-политический блок.
Сообщается, что в Иерусалиме идут дискуссии о том, каким образом строить отношения с Североатлантическим альянсом.
Процесс начался более десяти лет назад – 24 февраля 2005 года, когда Израиль посетил генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер.
Визит главы Североатлантического альянса стал первым визитом за всю историю Израиля. Этот шаг расценивался в Израиле как приглашение к участию в альянсе. Однако это оказалось не совсем так, поскольку для США Израиль – фигура, которую можно пожертвовать, если ставки в геополитической игре на Ближнем Востоке будут достаточно высоки. Жертвовать же всем альянсом, пустив в него Израиль, США не собираются.
Поэтому до сих пор Израиль кормят обещаниями, а он тратит более 10 % своего ВВП на оборону, его действующие вооруженные силы насчитывают 167 тысяч мужчин и женщин, а корпус резервистов – 358 тысяч.
В распоряжении Израиля имеется серьезный ядерный потенциал и хорошо оснащенные ВМС и ВВС. По сути, Израиль уже работает на НАТО, поскольку разведывательные возможности Израиля поставлены на службу США, что позволяет осуществлять информационный контроль Восточного Средиземноморья.
Однако уже не в первый раз было отмечено, что деятельность ядерных центров Израиля несет большую угрозу для безопасности и экологии арабских стран и всего ближневосточного региона.
Без ядерного разоружения на Ближнем Востоке невозможно достигнуть прочного мира, что создает тупиковую ситуацию в решении вопросов безопасности в регионе.
Политика защиты слабых от угнетения со стороны сильных держав, находит поддержку у палестинцев, четыре миллиона которых находятся в положении беженцев. Проблемы палестинцев достигли почти катастрофической черты, поскольку перспективы трудоустройства избыточной массы населения, как на территории Газы, так и в регионе в настоящее время представляются нереальными.
До тех пор пока не будут определены границы размежевания палестинцев и израильтян, а беженцы не вернутся в свои дома, мир на Ближнем Востоке невозможен.
Поскольку наша книга носит не только научно-аналитический, но и практический характер, следует обозначить конкретные меры, которые могут привести к нормализации ситуации на Ближнем Востоке в соответствии с интересами России.
1. Россия придерживается международно-правовой концепции, вытекающей из соответствующих резолюций и решений ООН: резолюции ГА ООН № 181/2 от 29 ноября 1947 года «О разделе Палестины»; резолюции СБ ООН № 242 1967 года и № 338 от 1974 года в совокупности с решениями ГА ООН от 1974 года, признающими палестинцев в качестве народа, лишенного своей родины: как участник процесса ближневосточного урегулирования, Россия поддерживает соглашение от 13 сентября 1993 года «О создании Палестинской автономии», рассматривает это соглашение как первый шаг к созданию реальной палестинской государственности, без которой урегулирование невозможно; Израиль отказывается от концепции «единого и неделимого» Иерусалима – его общепризнанной столицей остается Тель- Авив. Статус Иерусалима и Вифлеема должен быть определен на основе резолюции 1947 года ГА ООН «О разделе Палестины». Такой подход – единственный выход для Израиля из фактически начавшейся гражданской войны; этот вопрос является предметом переговоров заинтересованных сторон.
Проблема израильских поселений на Западном берегу реки Иордан, в секторе Газа и на Голанских высотах (Сирия) решается в рамках концепции многонациональности. Представляется, что сохранить (восстановить) мир возможно только в случае мирной интеграции многонационального Израиля. Первый шаг в этом направлении был сделан еще И. Бараком, который провозгласил «светскую революцию в Израиле». На наш взгляд, необходимо сделать следующий шаг: провозгласить Израиль многонациональным государством с равными правами всех этносов и конфессий (евреев, сабров, сефардов, ашкенази, арабов, друзов и др.).
Россия рассматривает урегулирование на Ближнем Востоке только комплексно. Учитывая, что фактическими участниками ближневосточного процесса являются многие арабские страны, Иран, ряд европейских стран, мировые сионистские организации, то и решать проблему необходимо с учетом интересов всех заинтересованных сторон. Если же следовать американскому плану, то проблема будет нерешаема в принципе.
Россия как участник процесса ближневосточного урегулирования предлагает провести в Москве международную мирную конференцию по Ближнему Востоку в расширенном формате. Один из вариантов широкого формата:
–президент России;
–премьер-министр Израиля;
–президент Всемирного еврейского конгресса;
–представитель Европейского союза по международным делам и безопасности;
–лидер палестинского народа;
–генеральный секретарь Лиги арабских государств;
–генеральный секретарь ОПЕК;
–представители сопредельных арабских государств – Египта, Иордании, Сирии, Ливана.
Возможен и более узкий формат конкретных переговоров.
Одновременно создается рабочая группа из представителей спецслужб заинтересованных государств для выработки механизма гарантий удержания ситуации от широкомасштабной гражданской войны, постепенно перерастающей в региональную (в нее фактически уже втянуты Иордания, Иран, Ливан).
К этому следует добавить, что после крайнего обострения терроризма на территории Израиля и Палестинской автономии вновь становится актуальным первоначальный тезис: «Мир в обмен на землю».
РАЗДЕЛ II. ТАКТИКА
ТУРЕЦКИЙ ФАКТОР
С 2015 года Турция стала одним из главных игроков за доской ближневосточных шахмат. Но шла она к этой роли не один десяток лет.
Во второй половине 1980-х и первой половине 1990-х годов в мире и в регионе Ближнего и Среднего Востока, Причерноморья, Закавказья и Центральной Азии произошли события, которые коренным образом повлияли на внешнюю политику Турции.
В годы холодной войны задача Турции как члена НАТО состояла в том, чтобы препятствовать расширению Советского Союза в геополитическом пространстве.
Внешняя политика, проводимая Турцией в то время, соответствовала этой стратегической задаче западного блока. Исключение составило лишь ее поведение в период кипрского кризиса 1974 года, когда вооруженные силы Турции вторглись на территорию северного Кипра. Остров в результате оказался разделенным на север, контролируемый турками-киприотами (а в действительности – Турцией), и юг, контролируемый греками-киприотами.
Соответственно, Турция, как член западного сообщества, участвовала в политических, оборонительных, экономических структурах Запада, получала помощь прежде всего Мирового банка, МВФ и других организаций.
С середины 1980-х годов система двухполюсного мира, сохранявшаяся в течение 40 лет, стала меняться. С исчезновением Восточного блока, роспуском Организации Варшавского Договора, и в целом с окончанием холодной войны для Турции, ранее не имевшей возможности проводить политику, отвечавшую ее национальным интересам, наступили новые времена.
Первоначально переход к ним сопровождался определенной растерянностью властей, поскольку утеря своей стратегической значимости лишала Турцию прежнего чувства безопасности.
Несмотря на то что с распадом Восточного блока советская угроза уменьшилась, в новых условиях сохранялось ощущение угрозы со стороны некоторых соседей Турции.
Иран, Ирак и Сирия стали обладателями мощного (в том числе, вероятно, и химического) оружия и средствами его доставки.
Их ракеты типа «земля – земля» дальностью от 50 до 650 км, а также иранская ракета «Шахид-2» (с дальностью полета свыше 1300 км), стали представлять угрозу безопасности Турции.
Обеспокоенные таким соседством турецкие власти предприняли энергичные меры по технологическому обновлению, отраслевой перестройке оборонной промышленности во второй половине 1980-х годов, расширению сотрудничества с США в этой области, в частности в сборке в Турции самолетов F-16.
Беспокойство Турции за свою национальную безопасность в регионе не уменьшилось и в 1990-е годы – под воздействием таких событий, как иракская война против Кувейта, начатая гражданская война в Боснии и Герцеговине, разразившаяся между азербайджанцами и армянами война вследствие этнического конфликта в Нагорном Карабахе.
Заинтересованность Турции в решении проблем региона определила и осознание ею своего особого положения в этом регионе.
Уже с конца 1992 года Турция начинает заявлять о том, что она с различных точек зрения в состоянии играть роль моста между Европой и Азией, выступать в качестве региональной силы.
Турецкие политологи стали всерьез говорить об объединяющей роли Турции между христианской Европой и мусульманским Средним Востоком, между Севером и Югом, о том, что Турция олицетворяет собою одновременно и Восток и Запад, экономическую отсталость и модернизацию, имперское прошлое и современное национальное государство, религиозный консерватизм и гражданское общество.
Географически Турция оказалась в самом центре территорий, составляющих пространство, именуемое геополитиками Евразией.
Известный специалист по проблемам международных отношений, бывший советник американского президента Джимми Картера по вопросам национальной безопасности Збигнев Бжезинский формулирует понятие Евразии как некоего прямоугольника, границы которого простираются от адриатического побережья Балкан до Синцзяня, от Персидского залива, Ирана, Афганистана и Пакистана до южных территорий бывшего Советского Союза.
Столь уникальное положение Турции в евразийском регионе, пережившем громадные перемены, неизбежно заставляет осознавать себя региональной силой. Изменения в геостратегическом положении Турции вынуждают Турцию вносить изменения в концепцию внешней политики, которой Турция следует с 20-х годов.
Турецкие власти пришли к выводу, что их страна достигла такого положения, когда она уже не должна играть роль пассивного игрока в международных политических и экономических акциях.
Турция может оказывать воздействие не только на своих соседей, но и на более отдаленные от нее регионы. Президенту Турции, ныне покойному Сулейману Демирелю принадлежат слова о том, что «турецкий мир распростерся от Адриатики до Великой китайской стены».
Предшественник Демиреля, Тургут Озал говорил о том, что «XXI век станет веком турок». Объективным является факт, что значимость Турции для Запада вновь возросла и причина этому – не только распад СССР.
Турция является самым стабильным государством ближневосточного региона. Для мусульманских стран, включая тюркские республики, она является моделью и примером светского, современного, демократического государства.
К наиболее острым внутренним и внешним проблемам, стоящим перед современной Турцией, относятся: проблема надежного снабжения энергоносителями, нефтью и газом; ситуация с транспортировкой нефти через турецкие проливы; вопрос обеспечения водой и возникающие в связи с этим международные конфликты.
Завершение юго-восточного анатолийского проекта – амбициозного замысла строительства оросительной системы и производства электроэнергии, приведет к ощутимому сокращению стока реки Ефрат, которая течет в Сирию и оттуда в Ирак. В обеих странах опасаются, что у них неизбежно возникнут проблемы с водой.
И наконец, самая главная – курдская проблема. Политическое и военное противостояние Турции в курдском вопросе ведет к тому, что эта проблема все в большей мере приобретает региональное измерение.
Продолжение операций турецкой армии в иракском Курдистане и поддержка, оказываемая Сирией Курдской рабочей партии, сильно и надолго отяготили отношения в треугольнике Ан- кара—Багдад—Дамаск.
Особенно настораживает арабов сближение между Израилем и Турцией, которое может обернуться тем, что две самые сильные в военном отношении державы региона могут отказаться от политических решений в сложных отношениях с соседями и прибегнуть при определенных обстоятельствах к применению военной силы.
Различные военные соглашения, заключенные между Турцией и Израилем с 1996 года, дают новую пищу подобным опасениям.
Как пример – напряженные взаимоотношения Турции с Грецией, вызванные территориальными спорами из-за островов в Эгейском море, размещением на территории Греции лагерей для подготовки курдских боевиков, этническими конфликтами между греческим и турецким населением Кипра, стремлением правительства Южного Кипра разместить на территории, контролируемой греками-киприотами, российских комплексов ПВО «С-300».
Турецкие правящие круги заинтересованы в том, чтобы беспокоить Россию, а ультраправые партии ставят своей целью создание великой Турции в основном за счет Северного Кавказа, Закавказья, Поволжья и Средней Азии, вплоть до Якутии.
Планы грандиозные, часть правящих кругов стала поддаваться им, хотя еще каких-нибудь 10—20—30 лет назад эти планы казались ересью. Например, Туркеш, лидер местной политической партии «Национальное движение», был даже посажен в тюрьму за его лозунги о возможности создания Великого Турана.
За последние годы националисты резко усилили свою деятельность, особенно в отношении Чечни. Они действуют фактически в открытую.
В Турции есть лагеря по подготовке наемников. Постоянно идет переброска боевиков в Чечню. Турецкое правительство оказывает им помощь по захвату заложников, наших судов и самолетов.
Сегодня мы наблюдаем в Турции очень широкий набор антироссийских сил, от спецслужб и партий до части депутатского корпуса, националистических молодежных групп и организаций.
К тому же в отношении Турции в советское время проводилась ошибочная политика. В 1921 году Ленин не понял характера сложившегося в Турции политического режима. Это был антикоммунистический режим, а Ленин помогал ему оружием, деньгами, точнее, золотом.
В 1941 году мы не смогли, а в 1945 году не реализовали возможность возврата наших территорий, занятых Турцией в Закавказье.



