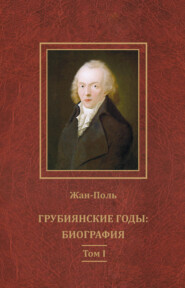
Полная версия:
Грубиянские годы: биография. Том I
К чему эти дьявольские муки! Он попытался, как прусский кавалерист, запрыгнуть на коня справа. И если люди наподобие Вульта и трактирщика присвистнули, глядя на его пробу, они тем самым лишь показали, что никогда не видели, как усердно прусские кавалеристы учатся вскакивать на лошадь, ставя ногу в правое стремя – чтобы быть во всеоружии, если левое перебьет пулей.
Оказавшись в седле в роли собственного квартирмейстера, Вальт столкнулся с целым рядом проблем: он должен был всё упорядочить (то есть придать себе прямую осанку и прочное положение в седле), распределить (собственные пальцы на поводьях, фалды сюртука на спине лошади), разместить (носки сапог в стременах); и, наконец, приступить к главному – к прощанию с домашними и выезду.
На последнее умудренная жизнью лошадь упорно не соглашалась. Вальт деликатно щелкнул клячу стеком, но та и ухом не повела – как если бы ее пощекотали конским волоском. Пару материнских шлепков по шее лошадь восприняла как ласку. В конце концов судья перевернул вилы и рукоятью нанес сивке несильный рыцарский удар по крупу, чтобы таким образом отправить своего сына как новоиспеченного рыцаря из деревни в большой мир учености и красоты. Для коня такой жест стал внятным знаком, побудившим его прошествовать шагом до ручья; там он остановился перед образом рыцаря, выпил это зеркальное отражение; и, поскольку нотариус, сидевший сверху, с неописуемыми систолами и диастолами колотил его пятками и стременами по бокам (тогда как половина села, не говоря уже о трактирщике, откровенно потешалась над юношей), рысак признал допущенную им ошибку и доставил Вальта от водопоя обратно к дверям конюшни, существенно ограничив свободу движений неумелого всадника.
– Ну, погоди! – пригрозил отец рысаку, кинулся в дом и, вернувшись, протянул сыну ружейную пулю со словами: – Вложи ему в ухо, и я ручаюсь, что ленивая тварь побежит как миленькая – потому, наверное, что свинец холодит.
Едва скакуна, словно пушку, развернули головой к воротам и зарядили ему ухо скоростной пулей: как он рванул за ограду и устремился прочь; и через усеянное любопытными глазами село, прочь от Шомакерова пожелания удачи, полетел, сидя на сивке, сам нотариус – как олицетворение наконец отлившейся в изложницу первой попытки, напоминая собой изогнутую запятую. «Он уже далече!» – с облегчением вздохнул Лукас и отправился к копнам сена. Мать молча смахнула подолом фартука слезы с глаз и спросила рослого работника, а чего он-то ждет и на что глазеет. Гольдина приложила платок только к одному плачущему глазу, другим же всмотрелась вдаль и сказала: «С ним все в порядке!», – после чего медленно поднялась по ступенькам в опустевшую учебную комнатку Вальта.
Вульт поспешил – пешком – вслед за скачущим на коне братом. Но когда он проходил мимо майского дерева и увидел в окне Гольдину, ее чудные глаза, а в садике возле дома – заплаканную мать, которая, сидя на корточках с согбенной спиной, подвязывала к колышкам фасоль и чеснок: тогда его сердце внезапно захлестнула горячая и мягкая волна братниной крови, и он, прислонившись к дереву, заиграл церковный хорал – чтобы обе пары глаз легче оторвались от уходящего прочь и чтобы их грусть рассеялась; ведь Вульт очень высоко оценил свойственный обеим женщинам непреклонный, четкий абрис души.
Жаль, что сам нотариус – который вместе с сивкой летел по-над лугами, меж сверкающих зеленью холмов, в голубую тихую даль – не знал, что тем временем, далеко позади, брат наполняет его родное сельцо и растроганные сердца дорогих ему женщин отголосками музыки. Оказавшись на вершине какой-то горы, Вальт наклонился над шеей летучего коня, чтобы вытащить у него из уха пулю. Едва он ее извлек: как животное опять перешло на степенный шаг, свойственный человеку, идущему за гробом; и только склон горы будто сам передвинул его вниз, на равнине же конь стал перемещаться совсем незаметно для глаза – как серебряная гладкая река.
Теперь возвращенный в состояние покоя нотариус смог вполне насладиться и своим сидячим – всадническим – образом жизни, и простором поющего дня. Возвышенное место пребывания – на седельной сторожевой башне – впервые позволило ему, этому вечному пешеходу, увидеть внизу, под собой, все горы и пойменные луга, и он почувствовал себя властелином этой сверкающей местности. Впереди, на новую возвышенность, поднималась череда возов с семью возчиками, которых Вальт бы охотно догнал и перегнал, чтобы они, оглядываясь назад, не мешали ему грезить; да только у подножия того холма оседланный им светлогривый конь тоже, как и всадник, захотел насладиться природой – которая для него состояла из травы – и окончательно остановился. Вальт, правда, поначалу пытался изо всех сил этому воспротивиться и хлопал коня со всех сторон, как спереди, так и сзади; но поскольку сивый жеребец все-таки настоял на стоянии, молодой человек позволил ему безмятежно щипать травку, а сам устроился в седле задом наперед, чтобы обводить блаженным взглядом оставшийся позади просторный природный ландшафт и заодно дожидаться момента, когда эти семь насмешливых возчиков так далеко уедут вперед, что ему уже не придется ехать за ними под устремленными на него любопытствующими взглядами.
Но всему в конце концов наступает конец – и вот уже наш наездник, снова развернувшись в седле, от всего сердца пожелал себе тронуться с места и подняться по склону: ведь семь Плеяд наверняка давно спустились с холма. И еще он заметил, что сзади приближается пешком симпатичный студент, который был свидетелем того, как он садился на лошадь. Однако если кто и придавал особое значение празднику урожая, то это был бледный жеребец: у подножия холма, то есть в Восходящем узле, он занял позицию Хвост Дракона – и ни натягивание уздечки, ни пинки не могли заставить его двинуться вперед. А поскольку нотариус теперь уже не хотел амальгамировать коня, этот живой ртутный шарик, с фиксированным белым Меркурием пули – из-за невыразимых трудностей, связанных с извлечением последней из лошадиного уха, – он предпочел спрыгнуть с седла и стать тягловым животным для собственной лошади: Вальт буквально втащил ее на холм, используя в качестве подъемного механизма уздечку. Но на вершине холма уже пышным цветом расцвели новые неприятности: позади себя нотариус увидел длинную вереницу католических паломников; а прямо перед ним, внизу, в удлиненной деревне, наслаждалась выпивкой Злая семерка возчиков, которую ему явно предстояло догнать, хотел он того или нет.
Для него, правда, забрезжила надежда, но она оказалась бесплодной: нотариус намеревался, заставив лошадку двигаться в темпе allegro ma non troppo, значительно опередить возчиков, надолго засевших в трактире; он, повеселев, спустился с горы и въехал в деревню достаточно бодрой рысью; однако там благочестивый конь, не слушая никаких возражений, сразу повернул в сторону знакомого приюта: этого трактирщика сивка хорошо знал, и вообще каждый кабак в округе был для него дочерней церковью, а каждый постоялый двор – материнской. «Ладно, пусть, – вздохнул нотариус, – поначалу у меня самого мелькнула такая мысль»; и он неопределенно попросил первого подвернувшегося человека, чтобы клячу накормили. Теперь к Вальту приблизился и проворный студент в зеленой шляпе. Это был Вульт, чье сердце буквально закипело от любви, когда он увидел, как его разгоряченный брат-красавец обмахивает шляпой снежно-белый выпуклый лоб, как на утреннем ветерке братнины локоны овевают нежное, залитое розоватым румянцем детское лицо, и как глаза Вальта с любовью и без претензий смотрят на всех людей, даже на Семеричное созвездие возчиков. И все же Вульт не удержался от насмешки над лошадью.
– Этот конь-доходяга, – сказал он, сверкнув карими глазами на брата и потрепав гриву лошади, – бегает куда лучше, чем выглядит: словно жеребец муз промчался он по деревне.
– Ах, бедное животное! – посочувствовал коню Вальт и тем полностью обезоружил Вульта.
Все проезжие гости, завернувшие в трактир, пили вино под открытым небом – паломники с пением проходили через деревню – все живые твари, в деревне и в воздухе, ржали, мычали и каркали от радости – освежающий норд-ост шевелил листья фруктового сада и нашептывал всем здоровым сердцам: «Туда, дальше, за деревню, на просторы жизни!»
– Прямо-таки божественный день, – сказал Вульт. – Вы уж простите мою назойливость, сударь!
Вальт ошеломленно взглянул на говорящего и все же горячо поддержал его:
– О, конечно, сударь! Вся природа, можно сказать, поет одну радостную, освежающую сердца охотничью песню, но и с синего неба тоже изливаются вниз мягкие звуки альпийских рогов.
У возчиков, слышавших такой обмен репликами, отвисли челюсти. Вальт быстро расплатился, сдачу не взял, а кое-как взгромоздился на лошадь, желая полететь впереди всех. Но у лошадей есть один основополагающий принцип: они, подобно планетам, движутся быстро только когда приближаются к Солнцу, то бишь к постоялому двору; потом же, удаляясь от него к афелию, существенно замедляют ход; поэтому бледный конь крепко укоренился всеми четырьмя конечностями – как нюрнбергская игрушечная лошадка штифтами – в лакированной дощечке-земле и упорно не хотел покидать эту якорную стоянку. Уздечка, пусть за нее и дергали, была для коня лишь якорным канатом – внешнее по отношению к нему движение, сколь угодно бурное, никак не могло привести в движение его самого, – так что легкий всадник в зелено-атласном жилете и буро-огнистой шляпе напрасно щелкал кнутиком: с тем же успехом он мог бы покрыть седлом вершину горы и потом попытаться ее пришпорить.
Некоторые (самые мягкосердечные) зрители принялись похлопывать коня-квиетиста по задним ногам; и сивка действительно начал переступать этими ногами – не двигая передними. Вальт долго выслушивал выражения соболезнования в связи с поведением его лошади; наконец, пресытившись ими, решительно засунул металлический шарик в ухо своему траурному коню – и действительно получилось так, что миниатюрный бильярдный шар смог вытолкнуть коня, вытолкнуть этот массивный кий, в зеленое бильярдное поле. Вальт полетел. Он быстро, с присвистом, настиг куриную вереницу паломников, которые все испуганно бросились врассыпную – кроме, увы, шествующей впереди глухой запевалы, которая не услышала ни стука копыт, ни предостерегающего свиста; напрасно обмякшие от смертельного страха пальцы всадника ковырялись в лошадином ухе, желая стать извлекателями пули, – летящая коленная чашечка врезалась в старушечью лопатку, повергнув на землю ее обладательницу; та, правда, тотчас вскочила на ноги, чтобы вовремя, при поддержке своих единоверцев, выпустить вслед Вальту залп совершенно неописуемых проклятий. Только когда проклятия остались далеко позади, Вальт после долгого баллотажа наконец извлек из конского уха, зажав двумя пальцами, свой единственный счастливый-несчастливый шар – и горячо поклялся, что никогда больше не станет применять этот рог Оберона.
Теперь, когда он стал обращаться со сволочной лошадью как с гармоникой, то есть перешел на медленный темп (так что, если ехать в таком темпе до города, времени вполне хватило бы, чтобы положенный срок отсидел в этом седле даже самый закоренелый должник, включая и государство, если бы для последнего могла существовать иная тюремная башня, кроме Вавилонской), – теперь Вальт чувствовал бы себя вполне хорошо, если бы случайно не обернулся и не увидел, какой шлейф тянется за ним, принявшим облик statua equestris и – curulis; а увидел он, что его азартно преследует целое воинство, на повозках и в пешем строю: изрыгающие проклятия паломники, семь белых мудрецов, насмешничающих во всю мочь, и знакомый ему студент. Человеческий разум – явно очень ненадежный инструмент, ведь иначе во всем, что он планирует, важную роль играло бы предчувствие из прежних времен: что собственное прошлое, которое за ним гонится, не только принудит его совершить переход через Красное море, но и само море тоже стронется с места – потому что разум хоть и восседает на живом передвижном троне, ничего этого избежать не сумеет. Уже одна мысль о громогласных преследователях наверняка, подобно навязчивой барабанной дроби, заглушала те прекраснейшие тихие звуки, которые фантазия Вальта – в такой безоблачно-синий день – легко могла бы подслушать у небесных сфер.
Поэтому Вальт свернул с проселочной дороги и через луга направился к овчарне, где он, отчасти проявив равнодушие к тому, как смехотворно выглядит, отчасти же покраснев, потому что все-таки ценил собственную репутацию, упросил работавших там девушек – соблазнив их деньгами, добрыми словами и красотой своих глаз, – чтобы они угощали его сивку сеном (ибо сам он ничего не смыслит в конской диете) так долго, пока враги не опередят его в пути на целый час и ему не станет с математической точностью очевидно, что он уже никогда не нагонит их, даже если они застрянут на два часа в каком-нибудь трактире.
Теперь, по-новому счастливый и избавленный от всех бед, нотариус уселся позади дома под черно-зеленой липой, в бодрящей зиме отбрасываемой деревом тени, и тихо погрузил свой взгляд в сверкание зеленых гор, в ночь эфирной глуби и в снег серебряных облаков. По давней привычке он вскарабкался на садовую ограду будущего и заглянул сверху в свой парадиз: какие же пышные пунцовые цветы и какая вьюга белых соцветий наполняли этот райский сад!
Наконец – после одного или двух вознесений на небо – он сочинил три длинностишия: одно о смерти, одно о детском бале и еще одно – о подсолнухе и ночной фиалке. Собравшись – поскольку конь уже насытился сеном – расстаться наконец с дарующей прохладу липой, Вальт принял решение: что сегодня больше далеко не поедет, а остановится в так называемом трактире «У трактира», не доезжая мили до города. Между тем в этом самом заведении остановились около часу дня все его враги; и Вульт тоже дожидался там брата: потому что знал, что ни проселочная дорога, ни бледный жеребец, ни брат никак не смогут разминуться с трактиром. Ждать Вульту пришлось очень долго, и он поневоле сосредоточивал мысли на ближайших предметах: например, думал о хозяине трактира, гернгутере, который на вывеске своего заведения велел нарисовать, опять-таки, вывеску трактира, на которой тоже нарисована такая же вывеска, а на той маленькой вывеске нарисована еще меньшая; такова нынешняя философия юмора: если юмор философии, похожий на нее, превращает Я-субъекта в объект и наоборот, то она тоже суб-объективно дает отразиться его идеям; например, я приобрел бы репутацию глубокомысленного и весомого человека, если бы сказал: «Я рецензирую рецензию одной рецензии о рецензировании рецензирования», или: «Я рефлексирую о рефлексии по поводу рефлексирования некоей рефлексии по поводу щетки». Действительно – очень весомые фразы, в которых отражения могут повторяться до бесконечности и которые обладают глубиной, доступной далеко не каждому; может быть, только тот, кто способен выстроить цепочку из нескольких одинаковых отглагольных существительных (образованных от любого глагола) – которые все стояли бы в родительном падеже, – вправе сказать о себе, что он занимается философией.
Наконец, около шести часов пополудни Вульт, выглянув из своей комнатки, услышал, как трактирщик сверху, из чердачного окошка, гаркнул: «Эй, патрон, убирайтесь-ка вы оттуда! – Во имя кукушки, когда вы приструните свою клячу?!» – Трактир стоял на поросшем березами холме. Готвальт по оплошности свернул с дороги и заехал на гернгутерское кладбище, где теперь его сивка объедала стручки из-за штакетника, в то время как поэтический взгляд самого всадника блуждал по далеким нездешним садам, щедро засеянным не цветами, но самими садовниками. Хотя органиста, произведшего столь грубый педальный тон, из-за берез невозможно было разглядеть – и вообще существам чувствительным после услышанной грубости трудно сосредоточить внимание на том, кто ее произнес, – конь тотчас выпростал морду-хоботок из штакетника и вскоре уже стоял, со стручками в повлажневших зубах, под дверью трактирной конюшни. Хозяину, теперь грозно стоящему на пороге трактира, Вальт, обнажив голову, задал вопрос издалека – подъехать ближе у него никак не получалось, – прямо от двери конюшни: может ли он заночевать здесь, вместе с лошадью.
При этих словах целое светлое небо, полное звезд, вспыхнуло в груди у Вульта и снова погасло.
Трактирщик тоже внезапно преобразился, став звездно-солнечным: разве могло бы ему еще недавно прийти в голову – а если б пришло, он говорил бы со своего чердака повежливее, – что путник на лошади, находясь так близко от города и так далеко от ночной поры, окажет ему честь, попросив о пристанище? – А когда хозяин заметил, что путник, спускаясь с клячи, описал в воздухе правой ногой странный многоугольник или треугольник, что он устало поплелся в дом, влача за собой свое натуральное седалище и даже не оглянувшись на собственного коня и конюшню: с этого момента старый шельма уже отлично знал, с кем имеет дело; и он засмеялся над гостем, пусть и не губами, а только глазами: удивляясь, что тот считает его порядочным человеком и вообще полагает возможным, что овес, за который придется заплатить завтра, его сивке действительно дадут – еще сегодня.
– Теперь, – метафорически выразился Вульт, спускаясь с колотящимся сердцем по лестнице, навстречу брату, – начнется совершенно новая глава.
И она в любом случае должна начаться, даже если забыть о метафорах.
№ 13. Берлинский мрамор с блестящими пятнами
Путаница и узнавание
Внизу, в корреляционном зале или симультанной горнице для гостей, нотариус, как все путешественники-новички, сказал, что хочет быстро получить чего-нибудь выпить, а еще – комнату на одного человека и такой же ужин: чтобы хозяин не подумал, будто гость не принесет ему сколько-нибудь значимого дохода. Тут к нему подошел улыбающийся Вульт – очень доверительно, с манерами светского человека – и выразил радость по поводу того, что им предстоит провести ночь в одном трактире.
– Если… ваш жеребец продается, – сказал он, – то я хотел бы купить его по поручению третьего лица: ему нужен охотничий конь; ибо я думаю, что это животное прекрасно умеет стоять на месте.
– Это не моя лошадь, – возразил Вальт.
– Жрет она, однако, за троих, – встрял хозяин, после чего попросил Вальта последовать за ним в отведенную ему комнату.
Когда трактирщик отворил дверь, оказалось, что стена, обращенная в сторону заката, не только совсем уничтожена (она лежала этажом ниже, на земле, в виде обломков), но и удвоена: рядом с ней внизу уже лежала новая – в виде кирпичей и известки.
– Никакой другой, – невозмутимо объяснил гернгутер, когда гость, слегка удивившись, устремил взгляд широко раскрывшихся глаз сквозь окно из воздуха шириной в семь шагов, – никакой другой свободной комнаты во всем доме нет, и сейчас ведь лето.
– Хорошо, – решительно сказал Вальт и попытался проявить твердость: – Но вы хоть метлу принесите!
Трактирщик безропотно и послушно стал спускаться по лестнице.
– Наш хозяин самый настоящий filou, не правда ли? – сказал Вульт, входя в комнату.
– В сущности, сударь, – радостно отозвался Вальт, – мне так даже больше нравится. Какая великолепная длинная река, состоящая из пашен и деревушек, забрасывает сюда свои блики, увлекая мой взор вдаль; а вечернее солнце, вечерняя заря и луна будут целиком и полностью в моем распоряжении: я смогу наслаждаться ими, даже лежа в кровати, всю ночь!
Такое согласие с собственной судьбой и с порядками, заведенными в трактире, проистекало не только из врожденной мягкости Вальта, который повсюду замечал только красиво расписанную, лицевую сторону людей и жизни, а не пустую изнанку, но и от того божественного восторга, того опьянения, с каким некоторые юноши – особенно поэты, прежде никогда не бывавшие в путешествиях, – завершают сверкающий грезами и новыми местностями путевой день; в глазах таких юношей прозаические поля жизни, словно подлинные поля в Италии, обрамлены поэтическим миртом, а на голых тополях для них вырастают виноградные гроздья.
Вульт похвалил собеседника за то, что тот – как он только что видел, – ловко, словно серна, перепрыгивает через бездны, переносясь с одной горной вершины на другую.
– Человек, – откликнулся Вальт, – должен нести жизнь на руке, как пылкого сокола; должен уметь отпускать этого сокола в эфир, а потом, когда нужно, звать обратно; так я думаю.
– Марс, Сатурн, Луна и бесчисленные кометы, – ответил Вульт, – как известно, очень мешают движению Земли; но тот Земной шар, что находится внутри нас и удачно именуется сердцем, не должен – дьявол меня забери! – отклоняться от своей орбиты под воздействием какого бы то ни было чуждого ему движущегося мира, разве что воздействовать на него будет мудрая Паллада – или щедрая Церера – или красавица Венера, которая, будучи Геспером и Люцифером, изящно соединяет жителей Земли с живым Меркурием. Если вы позволите, сударь, мы сегодня соединим наши трапезы; и я поужинаю с вами здесь, перед брешью, где четвертинка луны, возможно, будет плавать в нашем супе, а вечерняя заря – золотить жаркое.
Вальт радостно согласился. Ведь люди во время путешествий охотнее заводят романтические знакомства по вечерам, чем утром. Кроме того, Вальт, как все юноши, мечтал завести много знакомств, особенно с благородными господами, к каковым он причислял и этого забавного чудака в зеленой дорожной шляпе – явной антагонистке епископского головного убора, который только внутри зелен, а снаружи черен.
Тут появился трактирщик с метлой, чтобы вымести из комнаты строительный мусор; в левой руке он держал широкую, обрамленную деревом шиферную табличку. Он заявил, что гости должны написать свои имена: потому что в этой местности дело обстояло так же, как в Готе, где каждый сельский трактирщик обязан относить в город, к властям, шиферную табличку с именами всех тех, кто накануне остановился у него на ночлег.
– Знаем мы вас, трактирщиков! – сказал Вульт, выхватывая табличку. – Вам самим так же любопытно узнать, что за птица ваш гость, как и любому правящему дому в Германии, который вечером требует со всех входящих расписку о прохождении через ворота и о намерении провести ночь в замке, потому что не знает лучшего Index Autorum, чем этот.
Вульт с помощью прикрепленного цепочкой к табличке шиферного грифеля, шифером по шиферу (ведь наше фихтеанское «я» есть одновременно и пишущий, и бумага, и перо, и чернила, и буквы, и читатель), написал свое имя так: «Петер Готвальт Харниш, публично принесший клятву нотариус и протоколист, следует в Хаслау». Затем табличку взял Вальт: чтобы, в качестве нотариуса, допросить себя самого и занести свое имя и прочие данные в протокол.
С удивлением он увидел, что уже занесен на табличку, и поднял глаза сперва на зеленую шляпу, потом на хозяина, который стоял в позе ожидания до тех пор, пока Вульт, взяв табличку, не протянул ее трактирщику со словами: «Позже, друг мой! – се nest quun petit tour que je joue a notre hote». Говорил он так быстро, что Вальт не понял ни слова и потому поспешил ответить: «Oui». Но сквозь окутавшую его дымку смущения пробивались искры ликования: всё, как он думал, обещало ему одно из прекраснейших приключений; ведь Вальт был в такой мере переполнен ожиданием совершенно романтических природных игр судьбы, поразительных морских чудес на суше, что даже не удивился бы (при всем уважении, которое он, кабинетный ученый и сын шультгейса, питал к представителям высших сословий), если бы ему на шею вдруг бросилась какая-нибудь княжеская дочка, или на его голову свалился бы княжеский головной убор ее отца. Мы столь мало знаем, как люди бодрствуют, еще меньше – как они грезят; нам неведомы их величайшие страхи, не говоря уже о величайших надеждах. Для Вальта шиферная табличка стала картой движения комет, предсказавшей ему бог весть какую новую пламенно-хвостатую звезду, которая должна промчаться сквозь небо его монотонной повседневности.
– Пусть господин трактирщик, – радостно сказал Вульт (на которого присвоенная им главенствующая роль производила столь же благотворное воздействие, что и присутствие мягкосердечного, лишенного гордости брата), – приготовит нам здесь обильный ужин и принесет две-три бутылки настоящего и лучшего розового вина, какое найдется в погребе.
Вальту он предложил прогуляться по соседнему гернгутерскому кладбищу, пока комнату приберут.
– Я только прежде поднимусь наверх, – прибавил он, – возьму свою flauto traverso и потом немного поиграю на ней под лучами вечернего солнца над мертвыми гернгутерами; – вы любите флейту?
– О, как вы добры к незнакомому человеку! – ответил Вальт, и глаза его наполнились любовью: потому что, несмотря на озорной блеск в глазах и иронический изгиб губ, весь облик флейтиста возвещал о сокрытых в нем верности, способности к любви и порядочности. – Конечно, я люблю флейту, – продолжил Вальт, – люблю эту волшебную палочку, которая преображает внутренний мир, прикасаясь к нему; эту рудоискательную лозу, распахивающую внутренние глубины.



