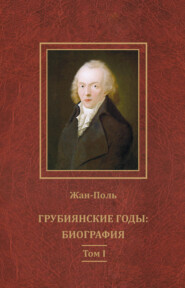
Полная версия:
Грубиянские годы: биография. Том I
Старые люди
Они, конечно, длинные тени, и их вечернее солнце лежит, холодное, на самой земле; но все они, словно стрелки часов, обращены в сторону утра.
Ключик от гроба
“Мое прекраснейшее, любимое дитя, накрепко запертое внизу, в глубинном темном доме, я буду вечно хранить ключ от твоей темницы, но никогда, никогда не смогу ее открыть!” – Но тут на глазах у горюющей матери ее дочь, прелестная как цветок и сверкающая, начала подниматься к звездам и крикнула сверху: “Матушка, брось этот ключ, я ведь наверху, а не внизу!”»
№ 10. Зловонное дерево
Поединок каплунов-прозаистов
– О небо, скорей бы уж наступило завтра, дорогой брат! Это проклятье, что всегда приходится приспосабливаться, – пробормотал Вульт.
– С меня довольно, – сказал Кнолль, который прежде, во время чтения, медленно выпускал одно за другим равновеликие облачка табачного дыма.
– Я, со своей стороны, – подвел итог Лукас, – ничего для себя извлечь из этих стихов не смог: они мне кажутся какими-то бесхвостыми, – а ты что скажешь?
– Там высказаны благочестивые и печальные мысли, – откликнулась мать.
У самого Готвальта голова и уши еще были окутаны золотой утренней дымкой поэтического искусства, а где-то за пределами этой дымки – так ему представлялось – пребывал далекий Платон, как солнечный шар, и согревал ее своими лучами. Кандидат Шомакер пристально смотрел на пфальцграфа и ждал от него решений. Как человек, привыкший к религиозной свободе, он полагал, что совершает грех всякий раз, когда чересчур торопится и на что-то отваживается. Потому-то кандидату и не хватало хирургического мужества, чтобы как следует пороть учеников – его пугали возможные переломы, травматические лихорадки и тому подобное, – и он предпочитал воздействовать на своего воспитанника издалека, строя ему из соседней комнаты ужасные рожи.
– Мое мнение, – начал Кнолль, грозно насупив темные кущи бровей, – если говорить совсем коротко, сводится к следующему: подобные вещи – поистине пустая трата времени. Я вовсе не презираю стихи – если они написаны на латыни или, по крайней мере, зарифмованы. Я сам, когда еще был желторотым юнцом, занимался подобными фокусами и – поверьте, я себе не льщу – мог сочинить кое-что получше. Да, как comes palatinus я собственноручно посвящаю в поэты и уж тем более могу полностью отвергнуть претендента на это звание. Обладатели денежных капиталов или владельцы дворянских поместий – те действительно, от нечего делать и от обеспеченной жизни, могут сочинять или читать стихи, сколько им захочется; но не серьезный человек, который освоил хорошую солидную дисциплину и желает сделаться разумным юристом, – такой человек должен презирать поэзию, и особенно стихи без всякой рифмы и размера, каких я за час настрогаю тысячу штук, если потребуется.
Вульт между тем молча наслаждался мыслью, что в Хаслау он уж как-нибудь найдет время и место, чтобы в награду пфальцграфу приготовить для него благословенное купание в кипящей воде и раскаленном подсолнечном масле. И все-таки он едва сумел сдержать гнев, когда подумал, что кандидат и пфальцграф уже так долго находятся здесь, а о радостной вести – о завещании – до сих пор не упомянули. Если бы он мог видеть и писать в темноте, он бы обернул камень листком с таким известием и отправил бы его, как нежную голубиную почту, в полет через окно.
– Слышал? – спросил сына Лукас. – Твои стихи еще и написаны некрасивым почерком, как я вижу. – И он, перевернув несколько листов, сделал попытку поднести манускрипт к горящей свече. Однако поэт, который до сих пор, опустив голову, неотрывно смотрел на пламя свечи, внезапно протянул руку и вырвал у него рукопись.
– Но в свободные часы можно же заниматься чем-то таким? – спросил Шомакер, в чьих глазах уже сам титул придворный фискал соединял в себе сдвоенного Рупрехта и мушкет, сиречь «двойную аркебузу»; ведь стоило ему увидеть словечко придворный или приставку лейб- – пусть даже речь шла всего лишь о придворном литаврщике или лейб-форейторе, – и он, восприняв это как своего рода «шлемоголовый пролог» (praefatio galeata), страшно пугался; насколько же больше должно было ужасать его слово фискал, грозящее любого человека посадить на кол или заключить в башню.
– В свои свободные часы, – ответил Кнолль, – я читал все юридические документы, какие только мог раздобыть, благодаря чему, вероятно, и сумел стать тем, кто я есть. Увлечение же высокопарными пустыми фразами, напротив, приведет к тому, что в конце концов они проникнут в стиль деловой переписки юриста и совершенно ее отравят; любой суд такие документы отошлет обратно как непригодные.
– Тогда понятно и простительно, – начал Шомакер, как бы добровольно налагая на себя оковы, – что я, по причине своего невежества в правоведении, хотел объединить это последнее с поэзией; однако отсюда же с большой вероятностью следует, что господин Харниш – теперь, когда он с еще большим пылом посвятит себя единственной избранной им дисциплине, – от поэзии совершенно откажется: не правда ли, так оно и будет, господин нотариус?
Тут молодой человек, прежде такой деликатный, фыркнул – увидев, как учитель, всегда его хваливший, вдруг от него отрекся ради низкопоклонства перед придворным и теперь, словно бритва в руках цирюльника, кланяется то вперед, то назад (хотя Шомакер просто не был способен вот так на месте, быстренько, перед лицом служителя трона и при той любви к собственному ученику, что таилась у него в сердце, изобрести новое отношение к праву, тем более что и всегда немного боялся невольно учинить бунт против своего князя, – вообще же, придавая большое значение справедливости, охотно выступил бы против любой беды и насилия), – итак, деликатный Вальт фыркнул как раненый лев, подскочил к кандидату, ухватил его обеими руками за плечи и крикнул из глубин давно истерзанной груди столь громко, что его учитель, словно опасаясь смертельного удара, подпрыгнул:
– Кандидат! Клянусь Богом, я стану хорошим и прилежным юристом, ради моих бедных родителей. Но, кандидат, пусть удар грома расщепит мое сердце и пусть Всевышний зашвырнет меня к самому жаркому демону, если я когда-нибудь откажусь от длинностиший и от небесного искусства поэзии.
Тут Вальт с диким вызовом посмотрел вкруг себя и весомо добавил:
– Я буду продолжать стихотворствовать.
Все удивленно молчали – в Шомахере теплилась еще лишь половинная жизнь – Кнолль демонстрировал лютую железную улыбку – а Вульт на своей ветке тоже впал в одичание, воскликнул: «Правильно, правильно!» и вслепую схватился за незрелые яблоки, желая бросить целую горсть таковых в участников прозаического собрания. – Но тут новоиспеченный нотариус, как победитель, вышел из комнаты, и Гольдина последовала за ним, бормоча: «Так вам и надо, скучные прозаисты!»
Вопреки ожиданиям Вульта нотариус встал под его яблоней и поднял к звездной стороне жизни, к небу, одухотворенное лицо, на котором можно было пересчитать все его стихотворения и грезы. Флейтист едва не упал сверху, как мягкая перина, на израненную братскую грудь: он с радостью поднял бы эту славную, повлажневшую от слез певчую птицу – с коей судьба обошлась как с жаворонком, который устремился к поверхности Мертвого моря, как если бы это была цветущая земля, и теперь тонет в нем, – поднял бы ее высоко, к иссушающему всякую влагу солнцу; однако появление Гольдины воспрепятствовало прекрасной сцене взаимного узнавания: девушка взяла Вальта за руку, но тот все еще смотрел оглохшими глазами ввысь, где стояли только светлые звезды и не было никакой мрачной Земли.
– Господин Готвальт, – обратилась к нему Гольдина, – не думайте больше об этих прозаических идиотах! Они вас отчехвостили. Но этому юристу я еще сегодня подсыплю перцу в табак, а кандидату – табаку в перец.
– Нет, дорогая Гольдина, – заговорил Вальт мучительно мягким голосом, – нет, я сегодня не заслужил того, чтобы великий Платон меня поцеловал. Возможно ли такое? – О Боже! Ведь это должен был быть радостный прощальный вечер. – Дорогие родители отдают тяжело доставшиеся им деньги, чтобы я стал нотариусом, – бедный кандидат с самого моего детства дает мне уроки чуть ли не по всем дисциплинам – Бог благословляет меня небесным блаженством, позволяя припасть к груди Платона – и после всего этого я, сатана, устраиваю такую адскую сцену ярости! О Боже, Боже! – Но как же подтвердилась, Гольдина, моя старая мысль: что за каждым подлинным переживанием сердечного блаженства обязательно следует тяжкое несчастье.
– Я так сразу и подумала, – гневно сказала Гольдина. – Если бы вас распяли на кресте, вы бы оторвали от поперечной балки прибитую гвоздем руку, чтобы пожать руку распявшему вас солдату. – Что-то я не пойму: вы или соломенные головы там наверху испортили нам сегодня винный месяц, превратив его в винно-уксусный?
– Я, – ответил он, – на самом деле не знаю никаких других несправедливостей кроме тех, которые сам я причиняю другим; несправедливости же, совершаемые другими по отношению ко мне, никогда не представляются мне – поскольку я не знаю мотивов тех, кто их совершает, – однозначными и решающими. Ах, заблуждений, проистекающих от ненависти, куда больше, чем заблуждений, обусловленных любовью! Если бы существовал человек, чья натура представляла бы собой полный диссонанс и антитезу к моей натуре (как существуют антитезы для всего на свете): то он спокойно мог бы со мной встретиться; и поскольку я точно так же диссонировал бы с ним, как он со мной, у меня было бы не больше поводов жаловаться на него, чем у него – на меня.
У Гольдины, как и у Вульта, не нашлось, что возразить против таких рассуждений, хотя на обоих они произвели крайне гнетущее впечатление. Но тут мать мягко позвала сына; и отец тоже позвал, гораздо громче: «Беги скорей сюда, Петер! Мы, оказывается, упомянуты в завещании, и предварительное решение будет принято уже 15 числа сего месяца».
№ 11. Желтинник
Радостный хаос
Пфальцграф немного разрядил атмосферу всеобщей неловкости, сгустившуюся после стремительного побега Вальта, сказав: мол, ваш sansfagon не заслуживает того, чтобы быть упомянутым в важном завещании, на оглашение которого он, пфальцграф, собирался его пригласить и которое как раз не очень согласуется с рифмоплетством. Теперь будто повернулось колесо, обеспечивающее удар молоточков в башенных часах, будто законным образом была снята заглушка с учительской души, полнящейся звуками и словами, – и учитель смог наконец ударить во все колокола: он ведь знал и теперь пересказал самые приятные клаузулы завещания, а фискал только подтвердил правдивость рассказа, когда дополнил его неприятными подробностями. Кандидат обычно так долго проявлял необычную мягкость после любой нанесенной ему обиды, пока его не просили эту обиду простить. Лукас уже – прислушиваясь лишь наполовину – звал, точно обезумев, Вальта, потому что не находил никаких других слов.
Наконец появился молодой человек, с нежным румянцем стыда на щеках; на него, однако, не обратили внимания: все, за исключением Кнолля, заглядывали в завещание. Этот последний с момента, когда Вальт начал читать вслух свои стихи, испытывал к молодому человеку настоящую ненависть – ведь если у соловьев музыка вызывает желание петь, то собак она провоцирует на вой; ибо то обстоятельство, что столь плохой, увлекающийся поэзией юрист должен унаследовать больше, чем он сам (эта мысль неотступно грызла ядро фискаловой личности), расстраивало его больше, чем утешало другое: что при всем своем корыстолюбии он не нашел бы наследника, больше, чем Вальт, предрасположенного к тому, чтобы проворонить собственное наследство.
Вальт растроганно слушал повторение и продолжение рассказа о наследственных обязанностях и частях наследства. Теперь, когда до ушей Лукаса донеслись слова об «11 000 георгдоров, вложенных в берлинскую лавку заморских товаров», а также об «обоих барщинных крестьянах в селе Эльтерляйн и соответствующих земельных участках», лицо шультгейса, на которое вдруг повеял южный зефир счастья, от изумления как бы растаяло, и он переспросил: «Пятнадцатого числа? Одиннадцать тысяч?» – А потом отбросил прочь через всю комнату свою шапку, которую прежде держал в руке, и спросил еще: «В этом месяце?» – А потом запустил пивной кружкой в дверь комнаты, едва не угодив в голову Шомакеру.
– Судья, – прикрикнула на него жена, – да что это с вами?
– Я так проявляю свою Gaudium, – сказал он. – Пусть теперь какая-нибудь собака из города попробует вякнуть, что я хочу украсть ее блох: эта скотина получит от меня хороший пинок. Нас всех, сидящих сейчас здесь, возведут в дворянское достоинство, и я по-прежнему буду судьей, но уже в дворянском звании, – или я стану судебным управляющим и смогу получить образование. А на земельных участках, доставшихся мне от Кабеля, я буду сажать исключительно рапс.
– Мой друг, – с досадой перебил его фискал, – вашему поэтичному сыну – прежде, чем всё это исполнится, – предстоит раскусить несколько твердых орешков, ведь наследником-то является он.
Тут нотариус со слезами радости на глазах шагнул к обделенному наследством фискалу и потянул на себя его неподатливую руку, говоря:
– Поверьте, посланец радости и евангелист, я сделаю всё, чтобы получить это наследство, всё, чего вы потребовали («Чего вы от меня хотите?» – прошипел в этот момент Кнолль, отдергивая руку): ибо я буду делать это ради людей (продолжил Вальт, обведя глазами всех прочих), которые, со своей стороны, сделали для меня еще больше; может, и ради брата, если он еще жив. Разве условия не очень просты, и разве не прекрасно последнее из них – требующее, чтобы я стал пастором? – Как же добр этот ван дер Кабель! Почему он так добр к нам? Я живо помню его, но раньше мне казалось, что он меня недолюбливает. Но я, кажется, читал ему свои длинностишия. Так разве могут наши мысли о людях быть слишком хорошими?
Вульт засмеялся и сказал:
– Едва ли!
Вальт совершенно по-дурацки, стыдясь себя, подошел к Шомакеру со словами:
– Не исключено, что я обязан этим завещанием именно поэтическому искусству – а уж знанием поэтического искусства я определенно обязан своему учителю, который пусть простит мне недавние неприятные минуты!
– Забудем же, – откликнулся тот, – что вы только что даже не назвали меня господином учителем, чего требуют обычные правила вежливости. Но теперь пусть царит радость! – Что же касается вашего господина брата, о котором вы вспомнили, то он все еще жив и даже процветает. Некий бойкий господин ван дер Харниш не так давно заверял меня в этом, но потом втянул в непозволительную болтовню о вашем семействе, из-за чего я так же мало заслуживаю вашего прощения, как вы – моего!
Тут нотариус крикнул на всю комнату, что его брат, оказывается, жив.
– Упомянутый господин встретил вашего братца в рудных горах, в городке Эльтерляйн, – сказал Шомакер.
– О Господи, тогда он наверняка появится здесь еще сегодня или, на худой конец, завтра, дорогие родители! – восторженно крикнул Вальт.
– Пусть только попробует! – возмутился шультгейс. – Я этого бродягу на порог не пущу: скорее сам подрежу ему ноги косой и заставлю насмерть подавиться диким яблочком!
Но Готвальт уже шагнул к Гольдине, которая, как он видел, заплакала, и сказал:
– О, я знаю, о чем вы думаете, моя хорошая. – После чего тихо прибавил: – О счастье вашего друга.
– Так оно и есть, клянусь Господом! – ответила девушка и подняла на него еще более восторженные глаза.
Мать не смогла удержаться от короткого замечания: что ее душа уже очень часто обманывалась подобными слухами о возвращении славного дитятки; после чего обратилась к раздосадованному фискалу и принялась дружелюбно расспрашивать его обо всех неприятных клаузулах, содержащихся в завещании. Но пфальцграфа настолько раздражал этот праздник радости (оплаченный, как он считал, его собственной наследственной долей), что в конце концов он поспешно поднялся с места, потребовал, от имени чиновника ратуши, полагающуюся в таких случаях пошлину и лишил ликующих мужчин надежды разделить с ним праздничный ужин: потому что, как он выразился, он лучше поужинает напротив, у трактирщика, который задолжал приличную сумму еще его отцу, из-за чего пфальцграф уже много лет – всякий раз, когда приезжает по судебным делам в это село, – старается побольше съесть и выпить в счет старого долга, чтобы таким образом мало-помалу ликвидировать задолженность.
Когда он ушел, Вероника поднялась на свою женскую кафедру и обратила к мужчинам пламенную проповедь, или инспекционную речь: они, дескать, проявили неучтивость, когда фискал объявил им о предстоящем получении капитала, – ведь их ликование наверняка раздосадовало пфальцграфа, который сам исключен из числа наследников.
– Но сейчас-то кто получил выгоду, он или я? Он! – сказал Лукас.
Шомакер же стал рассказывать, что воскресный проповедник Флакс уже получил целый дом на Собачьей улице, ранее принадлежавший Кабелю, – оплатив это приобретение всего лишь недолгим плачем.
Тут опечаленный шультгейс вскочил с места и заверил всех, что упомянутый дом, можно сказать, украден у его сына: потому что плакать умеет каждый; Вальт же сказал: дескать, его утешает – и помогает смириться с обрушившимся на него счастьем – то обстоятельство, что еще один бедный наследник тоже хоть что-то получил. Вероника оборвала его:
– Ты сам еще ничего не получил. Хотя я всего лишь женщина, но и от меня не укрылось, что по всему тексту завещания разбросаны какие-то подвохи. Еще с позавчерашнего дня чужие господа, понаехавшие из города, распространяли в нашем селе слухи о завещании; но я решила ничего об этом не говорить своему судье. Ты, Вальт, слишком неопытен в житейских делах; и вполне может получиться так, что незаметно пролетят десять лет, а ты и не получишь ничего, и останешься никем; что тогда будет, а, судья?
– Я его своими руками прибью, – сказал Лукас, – до смерти: если окажется, что он настолько глуп: хуже скотины; а с твоей стороны, Вронель, тоже было не очень умно не поставить меня в известность.
– Я готов поручиться, – сказал Шомакер, – что господин нотариус обладает утонченным умом. Поэты – хитрые лисы, которые держат нос по ветру. Некто Гроциус, философ, был дипломатическим посланником – некто Данте, поэт, был государственным деятелем – Вольтер же был и философом, и поэтом, а в своей деятельности тоже объединил то и другое.
Вульт засмеялся – но не над словами учителя, а над добросердечным Вальтом, который мягко прибавил:
– Я, может, почерпнул из книг больше жизненного опыта, чем вы, дорогая матушка, готовы поверить. – Но что нас ждет через два года, о всемогущий Боже! – Давайте сегодня хотя бы мысленно нарисуем себе это благословенное время, когда все здесь присутствующие заживут свободно и радостно; сам же я ни в чем не буду нуждаться и ничего для себя не буду желать, поскольку и без того стану чрезмерно счастливым, обосновавшись сразу на двух старинных священных высотах: на пасторской кафедре и на горе Муз.
– Ты тогда, – сказал Лукас, – наверняка будешь сочинять длинностишия целыми днями, потому что ты помешан на них не меньше, чем я, твой отец, – на юриспруденции.
– Но теперь я буду очень усердно, – сказал Вальт, – заниматься нотариальной практикой: тем более, что это и есть первая предписанная мне наследственная обязанность; зато об адвокатуре отныне можно не думать.
– Гляньте-ка! – крикнула его мать. – Он опять думает только о своих длинных стихотворных строчках; он недавно и соответствующую богохульную клятву принес – я, Вальт, этого не забыла!
– Так я ведь этого и хотел, разрази меня гром! – возопил Лукас (хотевший, чтобы ничто сейчас не мешало его чистой радости). – Неужели нужно из каждого слона делать муху, как поступаешь ты? – Он собирался сказать прямо противоположное. Но все-таки, как супруг, не удержался от обидного: «Молчи!» – Вероника тотчас подчинилась, решив про себя, что после еще возьмет свое.
Все расселись за праздничным столом, кто в чем был; Вальт – в своем длинном плаще с прилипшими к нему соломинками, поскольку хотел поберечь парадный сюртучок из китайки. У Гольдины вино радости было сильно разбавлено слезами, пролитыми в связи с предстоящей – уже на следующий день – разлукой. Нотариус же бесконечно восторгался восторженностью своего отца, который мало-помалу, немного переварив ее, пришел в более мягкое расположение духа и начал гоняться с транширным ножом и вилкой за жареной голубкой наследства, пока еще летающей в небе; Лукас даже впервые в жизни сказал сыну: «Ты мое счастье!» Эти слова Вульт еще услышал, сидя на дереве. Но когда его мать захотела прижать к своей теплой груди все подробности, которые Шомакер знал о беглом флейтисте, он поспешно слез с яблони, чтобы ничего не слышать: поскольку упреки казались ему более горькими, чем хвала – сладкой; и вообще он был уже достаточно осчастливлен встречей с повзрослевшим братом, чье простодушие и приверженность поэтическому искусству опутали Вульта столь крепкими любовными узами, что он охотно утопил бы ночь в вечернем багрянце: лишь бы поскорей увидеть новый день и обнять поэта.
№ 12. Ложная винтовая лестница
Конный портрет
Ранним росистым голубым утром нотариус уже стоял у дверей родительского дома, готовый к верховой езде и к путешествию. Вместо длинного плаща он надел хороший желтый летне-весенний сюртук из китайки, потому что, как универсальный наследник, мог теперь позволить себе не очень скупиться; на голове у него была круглая белая, с бурыми пламенеющими разводами, шляпа; в руке – скаковой стек; а в глазах – детские слезы. Шультгейс крикнул «Стой!», бросился в дом и тотчас опять выскочил с «Указом о нотариате» императора Максимилиана, сунул эту брошюру в карман сыну. По другую сторону улицы, перед трактиром, стояли пронырливый студент Вульт, в тесно облегающих штанах и зеленой дорожной шляпе, и сам трактирщик, который был, можно сказать, потомственным Антихристом и левым. Сельчане уже обо всем проведали и внимательно следили за происходящим. Универсальному наследнику предстояла первая конная прогулка в его жизни. Вероника – которая все утро давала сыну наставления касательно церемонии обнародования завещания и выполнения его условий – с трудом вывела на длинном поводу из конюшни белую конягу. Вальту предстояло на нее взобраться.
О конной поездке и о самой кляче люди уже много чего наговорили – в Эльтерляйне хватало охотников создать жалостный конный портрет, да только на холст они могли нанести разве что грубые исходные пигменты, а не их тончайшие производные, – для меня это тоже первое значимое анималистическое полотно, которое я вывешу и выставлю в галереях создаваемого мною произведения – поэтому я приложу все усилия и постараюсь добиться величайшей правдивости и вместе с тем пышности изображения.
Конь бледный, старый и покрытый плесенью, так долго обретался в Апокалипсисе, пока на него не взобрался мясник и не перескочил на нем в наше время. Для коня-бедолаги далеко позади остались те восторженные вёсны, когда он нес на себе свою плоть, а не чужую, и под седлом еще не истерлась его собственная шерсть; слишком долго пришлось ему терпеть жизнь и человека – эту скачущую верхом пыточную кобылу для израненной природы. Нотариус (существо, будто сотканное из подрагивающих чувствительных усиков насекомых), который накануне, в конюшне, долго ходил вокруг коня и рассматривал запечатленную на нем клинопись времени – эти стигматы, оставшиеся от шпор, седла и трензелей, – ни за какие деньги не согласился бы вложить персты в его раны, не говоря уж о том, чтобы на следующий день обрушить на него лезвие кнута или вонзить ему в бока кинжалы шпор. О, если бы небо даровало тем животным, что являются конфедератами человека, хоть какой-то стон боли: чтобы человек, у которого сердце определенно помещается в ушах, сжалился над ними! Каждый человек, ухаживающий за животным, становится для этого животного мучителем; хотя он поистине ведет себя с ним как мягкошерстный ягненок в сравнении с тем, как, например, охотник относится к своей лошади, извозчик – к охотничьей собаке, а офицер – ко всем людям, кроме солдат.
Итак, этот бледный конь утром вступил на подмостки мирового театра. Нотариус еще накануне крепко привязал коня к одной из своих мозговых стенок и – как правая сторона Конвента и Рейна – дальше все время почему-то представлял себе только левую сторону, которую ему предстоит одолеть; в своих четырех мозговых камерах он вертел эту учебную воображаемую лошадку и ставил ее по-всякому, быстро вскакивал на нее с левой стороны и в результате совершенно заездил себя самого ради клячи. Теперь эту клячу привели и поставили перед ним. Готвальт не сводил взгляда с левого стремени, но собственное «я» вдруг показалось ему не вмещающимся в собственное «я», а слезы – слишком темными для глаз; ему предстоит, внезапно подумал он, скорее вознестись на некий трон, нежели подняться в седло, – он все еще крепко держался за левый бок сивки; но теперь перед ним возникла новая задача: каким образом так соединить с лошадью собственную левую ногу, чтобы и его лицо, и лошадиная морда одинаково смотрели вперед.



