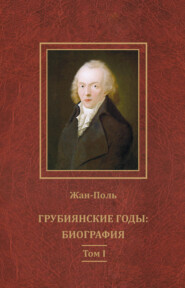
Полная версия:
Грубиянские годы: биография. Том I
– Он говорил, – вернулся Вальт к своему рассказу, – самые лучшие вещи. Бог, сказал он, дает через природу ответ, как оракул, – еще прежде, чем прозвучит вопрос; и еще, Гольдина: дескать, то, что нам представляется серным дождем наказания и ада, в конце концов оказывается просто желтой пыльцой, предвестницей будущего цветения. А еще одно очень хорошее высказывание я совершенно забыл, потому что слишком пристально смотрел в его глаза. Да, ведь вокруг нас мир полнился волшебными зеркалами, и повсюду в небе стояло одно и то же солнце, и на Земле для меня не существовало никакой боли – кроме боли его глаз, столь дорогих для меня. Милая Гольдина, я в тот момент, прямо там же – так я был воодушевлен, – сочинил полиметр: «Двойные звезды являются на небе, как одна звезда; но ты, единственный, расточая себя, превращаешься в целое небо, полное звезд». Тогда он взял мою руку своей очень мягкой, нежной рукой и попросил показать ему наше село; я же набрался дерзости и произнес еще один полиметр: «Смотрите, как красиво всё связано одно с другим: солнце следует за цветком подсолнечника». Тогда он сказал: мол, так же поступает и Бог по отношению к людям, обращаясь к ним чаще, чем они к Нему». Потом он поощрил мое желание заниматься поэзией, но изысканно пошутил по поводу излишней пылкости, от которой, по его словам, я уже завтра отвыкну: чувства, сказал он, это звезды, по которым можно ориентироваться, когда небо безоблачное; разум же – это стрелка магнитного компаса, способного повести корабль еще дальше, даже если звезды скрылись и больше не светят. Так, наверное, звучала последняя часть фразы; но я услышал лишь первую часть, поскольку испугался, что он сейчас сядет в экипаж и мы расстанемся. Тут он дружески посмотрел на меня, как бы в утешение, – и мне показалось, будто откуда-то из вечернего багряного зарева полились звуки флейты.
– Это я вдувал их внутрь зарева, – сказал себе Вульт, но слова брата его растрогали.
– Под конец – верьте мне, родители, – он прижал меня к груди и к своим милым устам, а потом коляска покатила прочь, вместе с этим небожителем. —
– И что? – спросил старый Лукас, который до сих пор, учитывая высокий должностной статус Платона, каждую минуту ждал, когда же сын покажет ему туго набитый кошелек, вложенный в его руку великим человеком. – Он так и уехал, не подарив тебе ни пфеннига?
– Ах, как вы можете, отец? – воскликнул Вальт.
– Вы ведь знаете его деликатный нрав… – вмешалась мать.
– Я такого писаку не знаю, – сказал пфальцграф. – Но думаю, что вместо бессмысленных историй, ни к чему хорошему не приводящих, нам следовало бы, наконец, заняться экзаменом, который я просто обязан провести, прежде чем производить кого-то в нотариусы.
– Я готов, – откликнулся Вальт, в своем плаще-рокероле делая шаг вперед-и-прочь от Гольдины, чью руку он прежде взял, на глазах у всех, чтобы девушка тоже причастилась к недавно испытанному им блаженству.
№ 8. Кобальтовые цветы
Экзамен на звание нотариуса
– Как зовут господина экзаменуемого? – начал Кнолль.
Дело обстояло так, что, во-первых, Кнолль, похожий на сросшихся воедино и окостеневших членов революционного трибунала, можно сказать, навесил на лицо висячий замок курительной трубки и играл здесь главенствующую роль; далее: что Лукас поместил свою голову над столом, подпирая ее руками, словно кариатидами, думая над каждым вопросом, и благодаря такой позе его матовые серые глаза и бескровное лицо ученого – по крайней мере, оно выглядело бескровным из-за покрывающего загорелую кожу мертвящего слоя пудры – оказались очень хорошо освещенными, как и его нескончаемый военный поход под дождем против собственной судьбы; далее: что Вероника, молитвенно сложив на животе руки, стояла очень близко к сыну и переводила смиренный женский взгляд, будто желающий проникнуть в тайны дурацких мужских тайных сообществ, с экзаменатора на экзаменуемого и обратно; и наконец: что Вульт, тихо чертыхаясь, сидел среди незрелых еще плодов дикой яблони, а рядом с ним – поскольку все читатели сейчас тоже заглядывают через окно в комнату – примостились на соседних ветвях все десять немецких имперско-читательских областей, или читательских округов, то бишь много тысяч читателей и душ, относящихся ко всем сословиям, которые, соединившись столь тесно на одном дереве, являют собой довольно-таки смехотворный вид. – Все с великим нетерпением ожидали начала экзамена, но нетерпение Кнолля было наивеличайшим, поскольку он надеялся, что невежественные ответы испытуемого – в соответствии с тайными статьями завещания – на много месяцев отсрочат получение им наследства или причинят наследнику еще худший вред.
– Как зовут господина экзаменуемого? – начал (мы уже это знаем) Кнолль.
– Петер Готвальт, – ответил обычно застенчивый Вальт на сей раз удивительно непринужденно и громко.
Любимый, но улетевший от него богочеловек еще заставлял восторженно вздыматься его грудь; после таких встреч, как и в пору первой любви, все прочие люди хотя и становятся нам ближе и дороже, но словно мельчают в наших глазах. Вальт думал сейчас больше о Платоне, чем о Кнолле и о себе; он мечтал, что наступит час, когда можно будет обсудить недавнюю встречу с Гольдиной. «Петер Готвальт», – так он ответил.
– Нужно еще прибавить: Харниш, – вмешался его отец.
– А как зовут родителей испытуемого, и где он родился? – спросил Кнолль.
Вальт тут же дал исчерпывающие ответы.
– Родился ли господин Харниш в законном браке? – спросил Кнолль.
Готвальт от стыда не смог вымолвить ни слова.
– У нас есть свидетельство о крещении, – вмешался шультгейс.
– Я спросил это только порядка ради, – успокоил всех Кнолль и продолжил расспросы.
– Сколько вам лет?
– Столько же, сколько моему брату Вульту (сказал Вальт): двадцать четыре.
– Двадцать четыре года, – поправил его отец.
– Какого вероисповедания? – Где учились? (И так далее.)
В хороших ответах – пока – недостатка не ощущалось.
– Кого из авторов работ о деловых контрактах читал господин Харниш? – Сколько персон требуется для проведения судебного заседания? – Из каких существенных частей состоит законный судебный процесс?
Экзаменуемый, правда, перечислил самое необходимое, но не упомянул случай с обвинением в непослушании.
– Нет, сударь, тринадцать – о чем сказано даже в Volkmanno emendato Bieri, – раздраженно уточнил пфальцграф.
– Читали ли вы указ о нотариате императора Максимилиана, изданный в 1512 году в Кёльне, – не просто часто, но и правильным образом? – прозвучал следующий вопрос.
– Никто не переписывал упомянутый вами указ чище и собственноручнее, чем это делал я, господин пфальцграф! – подал голос шультгейс.
– Кто такие lytae? – спросил Кнолль.
– Lytae, или litones, или люди (радостно ответил Вальт; тогда как Кнолль, пока сын шультгейса ошибочно смешивал в одно разные термины, спокойно курил) – так у древних саксов назывались кнехты, которые пока еще владели третьей частью собственности и потому могли заключать контракты.
– Сошлитесь на источник! – распорядился пфальцграф.
– Мёзер, – ответил Вальт.
– Превосходно, – ответил после некоторой паузы фискал и задвинул трубку в угол своего бесформенного рта, походившего теперь на резаную рану, которую ему нанесли, отправив в сибирскую ссылку земной жизни. – Превосходно! Но только lytae – совсем не то же самое, что litones; lytae – это молодые юристы, которые в правление Юстиниана на четвертом году своего учебного курса заканчивали изучение Пандект[2]; и, значит, данный вами ответ свидетельствует о вашем невежестве.
Готвальт смиренно ответил:
– Действительно, я этого не знал.
– Тогда, наверное, вы не знаете и того, что должно быть на чулках, которые император носит во время коронационной церемонии во Франкфурте?
– Выточки, Готвальт, – подсказала из-за его спины Гольдина.
– Конечно, откуда вам знать, – продолжил Кнолль. – Господин Тихсен оставил нам следующее описание, переведенное на немецкий из арабского источника: «Роскошные королевские подвязки».
При упоминании чулочного текста и его переводчика девушка откровенно засмеялась; однако отец и сын почтительно наклонили головы.
Непосредственно после того как Вальт, с дурацким видом и молча, кое-как выбрался из рваной сетки для взвешивания экзаменуемых рыб, пфальцграф перешел к церемонии посвящения. Не вынимая трубку изо рта и не поднимаясь с кресла, он, ко всеобщему изумлению, начал произносить наизусть клятву нотариуса, Вальт же растроганно повторял за ним каждую фразу. Отец почтительно снял шапку; Гольдина отложила чулок. Первая клятва всегда настраивает человека на серьезный лад: ведь ложная клятва это грех перед Святым Духом, поскольку она с величайшей хитростью и наглостью произносится перед троном нравственного закона.
Далее новый нотариус был сотворен вплоть до последней оконечности тела, с макушки до пяток. Кнолль торжественно вручил ему чернила, перо и бумагу, сказав, что, мол, сим посвящает его в нотариусы. Золотое кольцо было надето на палец Вальта и тотчас снова удалено. Наконец, comes palatinus достал из кармана круглую шапочку (береточку, так он выразился) и надел ее на голову новоиспеченному нотариусу, присовокупив, что такими же – округлыми и без единой складочки – должны быть в будущем его нотариальные действия.
Гольдина крикнула, чтобы Вальт повернулся; и он обратил к ней и к Вульту пару больших синих невинных глаз, высокий выпуклый лоб, лицо с тонким изгибом губ – сформированное в большей степени внутренним, нежели внешним миром; всё это сидело на несколько покосившемся торсе, который в свою очередь покоился на двух сдвинутых коленных углах; однако Гольдине Вальт показался просто смешным, брат же воспринял его как комедийного персонажа, напоминающего – из-за длинного плаща- нюрнбергского мейстерзингера. Затем Вальту передали персональную нотариальную печать и составленный в Хаслау диплом, удостоверяющий его новое звание; – таким образом Кнолль, с помощью своей трубки, выдул, словно стеклодув, готового к употреблению нотариуса – или, если прибегнуть к другой метафоре, вынул из хлебной печи на лопате новоиспеченного нотариуса, только что принесшего публичную клятву.
Новый нотариус подошел к отцу и, пожав ему руку, растроганно произнес:
– Правда, отец, вам бы следовало увидеть, какие волны….. – Больше он ничего не сказал из-за избытка чувств или свойственной ему скромности.
– Помни, Петер, прежде всего о том, что ты поклялся Богу и императору заниматься не только завещаниями, «но, помимо них, больницами и другими необходимыми для нуждающихся персон вещами; а также – способствовать прокладке общинных дорог». Ты знаешь, как плохо в нашем селе обстоит дело с дорогами; что же касается «нуждающихся персон», то ты среди них – самый первый.
– Нет, я хочу быть последним, – ответил сын.
Мать тем временем подала отцу серебряные монеты, упакованные в бумажный сверток: потому что люди предпочитают посеребрить пилюлю, то есть грубый акт денежного подношения, пусть и с помощью бумаги, – во-первых, из свойственного воспитанному человеку стремления не привлекать внимания к корыстолюбию принимающего такой дар, и, во-вторых, из желания скрыть тот факт, что предложить они могут слишком ничтожную сумму; отец деликатно вложил сверток в уже протянутую волосатую фискальскую руку со словами:
– Pro rata, господин придворный фискал! Это, так сказать, хвостовые деньги от нашей коровы и кое-что сверх того. Корову мы продали, чтобы нашему нотариусу было на что жить в городе. Завтра же он поедет туда – на лошади того самого мясника, которому досталась буренка. Денег, конечно, отчаянно мало, но всякое начало дается тяжело: в начале гона собаки обычно еще хромают; и вообще мне не раз приходилось видеть ученых бедолаг, которым в начале карьеры есть было совсем нечего. – Ты, Петер, будь особенно бдительным, ведь как только человек в нашем мире научается чему-то хорошему…
– Нотариус, – радостно заговорил Кнолль, сунув деньги в карман (но, прежде чем продолжить, он вынул изо рта трубку и, повернув к свету, долго ее рассматривал), – это, конечно, не бог весть какая птица; их в империи много – этих самых нотариусов, – как сообщает нам имперский указ от 1500-го года, статья XIV; хотя сам я могу лишь посвящать в нотариусы на подведомственной мне территории, документов же никаких не составляю.
– Точно так же некоторые пфальцграфы и некоторые отцы, – тихо сказала Гольдина, – хоть сами и не пишут стихов, зато – создают поэтов.
– Но, между прочим, в Хаслау, – продолжил Кнолль, – очень часто нужно составлять то завещание, то Interrogatorium, то Vidimus, а иногда – правда, чрезвычайно редко – и donatio inter vivos; ну а если молодой человек займется еще и адвокатской практикой…
– Мой Петер обязательно займется, – вмешался Лукас.
– И если, – продолжил пфальцграф, – он будет все делать правильно, то есть поначалу с радостью браться за сомнительные процессы, от которых отказываются известные адвокаты, но часто консультироваться с этими последними, вертеться как волчок и не бояться гнуть спину…
– Тогда он поистине станет водой, льющейся на мельницу своего родителя, и даже мельничным валом, вращаемым силой ветра: он сможет время от времени подсоблять отцу внушительной суммой, – опять встрял старый Лукас.
– Ах, мама и папа, как бы я хотел когда-нибудь оправдать ваши надежды! – восторженно пробормотал Вальт.
– Бог мой, – гневно воскликнул шультгейс, – на кого же, как не на тебя, можем мы с матерью положиться? Ведь не на мошенника, которого ты так любишь, не на этого бродячего флейтиста, Вульта?
Тут Вульт, сидя на дереве, поклялся, что никогда не покажется на глаза такому отцу.
– Так вот, – Кнолль теперь заговорил громче, раздраженный тем, что его постоянно перебивают, – если наш молодой человек поведет себя не как самодовольный дурак или простодушный новичок, а как зрелый муж, чувствующий себя словно рыба в воде в юридической стихии, – и будет во всем следовать примеру своего разумного отца, который, может, лучше него разбирается в праве…..
Тут Лукас, ясное дело, не смог сдержаться:
– Господин придворный фискал! Петер действительно лишен отцовского нюха; это меня следовало допустить к изучению права. Бог мой! У меня-то в юности были и соответствующие способности, и лошадиная память, и усидчивость. Плох тот судья, который не является, насколько это в его силах, одновременно цивилистом – камералистом – криминалистом – феодалистом – канолистом – и публистом. Я давно сложил бы с себя свою должность – ибо что я с нее имею, кроме годового жалованья в размере трех шеффелей зерна и кувшина с каждой бочки пива, а еще множества упущений и неприятностей, – если бы во всем селе нашелся хоть один человек, способный принять ее и хорошо исполнять. Но разве много сыщется в наших краях шультгейсов, которые, подобно мне, в своем доме соблюдают сразу четыре инструкции для исполнителей этой должности, а именно: те правила, что приняты в старой Готе, курфюршестве Саксонском, Вюртемберге и Волосочёсинге? – И разве я не участвую в каждой книжной лотерее, не добываю таким образом самые толковые книги, среди прочего – «Юлиуса Бернхарда фон Рора полный юридический компендиум по домоводству: с юридическими наставлениями, касающимися как вообще поместий, их покупки, продажи и сдачи в аренду, так и, в частности, земледелия, садоводства, и т. д., и т. д., и прочих экономических материй, каковые наставления упорядоченно изложены в соответствии со здравым смыслом, имперскими и немецкими законами и являются в высшей степени полезными и незаменимыми для всех тех, кто либо владеет поместьями, либо управляет ими. Второе издание. Лейпциг, 1738. Издано И. К. Мартином, книготорговцем с Гриммише штрассе». И эта книга состоит аж из двух томов, вот посмотрите!
– У меня у самого есть такая, – сказал Кнолль.
– Ну так вот! – упоминание книги навело отца на дальнейшие размышления. – Разве судья не должен – подобно кузнецу, подковывающему лошадей, – иметь карманы под рукой, то бишь уже на фартуке, а не только в штанах? О, Боже милостивый, господин фискал, всегда, когда нужно описывать имущество должника – оценивать собственность – предоставлять кому-то жилье – делать бессчетные устные или письменные оповещения – наращивать венцы колодцев, изгонять из наших краев цыган, следить за порядком на улицах и надзирать за пожарным надзором – или когда в деревнях имеют место эпидемии, беспорядки, мошенничества: тогда судья первым оказывается на месте, а уже потом извещает о случившемся как здешних чиновников, заслуживающих всяческой похвалы, так и, если это необходимо, господ землевладельцев. Что там плохая погода! Судья ведь, в отличие от часов на кафедре проповедника, не может ходить только раз в неделю: он день за днем носится, заглядывая во все дыры и причиняя тем величайший вред собственному хозяйству, – по всем полям и лесам, по всем домам; а после должен еще явиться в город, отчитаться устно и тут же достать из кармана готовый письменный отчет. Потом ко мне подступают крестьяне – лошадные и тягловые, или же безлошадные – и говорят: Лукас, не увиливай! Ты, дескать, проявил небрежность там-то и там-то! – Ох, эти клеветники! разве они не видят, что я, стараясь ради них, сам по уши погряз в долгах, и если в будущем этот нотариус и протоколист не….
– Ну, будет тебе, судья! – оборвала его Вероника и повернулась к фискалу, чьим должником и был ее муж. – Господин фискал, он просто болтает, чтобы хоть что-то сказать. Не желаете ли чего? А после я бы хотела, чтобы вы помогли мне решить один важный вопрос.
Лукас с готовностью замолчал, поскольку уже привык, что в их супружеской сонатине левая рука, то бишь жена, порой прикасается к струнам поверх правой руки, извлекая высочайшие, способствующие гармонии звуки.
– Я бы не отказался хряпнуть стакашок перед ужином, – ответил Кнолль к изумлению Вальта, который не ожидал услышать такое выраженьице, явно из жаргона почтовых кучеров, от человека городского, больше того – придворного чиновника.
Мать Вальта вышла, но вскоре вернулась, неся в одной руке срочное почтовое отправление, содержащее согревающий кровь стихийный огонь, а в другой – толстый манускрипт. Вальт, густо покраснев, взял его из рук матери. Глаза Гольдины восторженно сверкнули.
– Ты должен почитать нам из этого песенника, – сказала Вероника, – а ученый господин пусть выскажет свое мнение – стоит ли тебе заниматься такими вещами. Господин кандидат Шомакер твои стихи очень хвалит.
– И мне тоже они очень нравятся, правда, – поддержала ее Гольдина.
Тут в комнату вошел кандидат Шомакер собственной персоной; отвесил глубокий поклон одному лишь фискалу и поприветствовал его с восторженным блеском в глазах. Кандидат сразу сообразил, что, судя по всем признакам, радостная весть о завещании в этой комнате еще не была озвучена.
– Ты опоздал, – сказал Лукас, – великолепная церемония уже полностью завершилась.
Кандидат стал пространно объяснять, почему смог выбраться из города лишь ко времени вечернего богослужения.
– Я здесь стою, – сказал он, с удовольствием глядя в лицо шультгейсу (и довольный тем, что не должен сейчас смотреть на такого благородного, но внушающего ему опасения господина, как Кнолль), – точнее, простоял здесь внизу, во дворе, целую четверть часа, не осмеливаясь войти, из-за пятерых гусей, которые загородили проход и грозили мне клювами и растопыренными крылами.
– Да нет же, их было шесть! – вмешалась насмешливая еврейка.
– Может, и шесть, – согласился кандидат Шомакер. – Но, как я читал, достаточно даже одной гусыни, чтобы посредством яростного укуса заразить человека бешенством и водобоязнью.
– Ах, да! – повернулся он к Вальту (это единственное, что он знал по-французски). – Ваши полиметры!
– А это еще что такое? – поинтересовался Кнолль, допивая шнапс.
– Господин граф (первую половину титула, «пфальц», Шомакер на сей раз опустил), речь на самом деле идет о новом изобретении этого юного кандидата, моего ученика: он сочиняет стихотворения со свободным размером, которые состоят, каждое, из одного-единственного, но свободного от рифмы стиха; и автор, по своему усмотрению, может удлинять такой стих, даже растягивать его на целые страницы или печатные листы; сам он называет их длинностишиями, я же предпочитаю название полиметр.
Вульт, затаившийся между яблоками, выругался от нетерпения. Вальт наконец встал, держа в руках манускрипт и развернувшись выпуклым лбом и прямым носом в профиль: так, что свет освещал его сзади; неописуемо долго и по-дурацки перелистывал он страницы в поисках фронтисписа своего храма муз – кандидат Шомакер тем временем, сунув руку за лацкан жилета, а другую в карман брюк, на три длинных шага приблизился к окну, за которым прятался Вульт, чтобы, свесившись через подоконник – сплюнуть вниз. Запинаясь от смущения, но произнося слова каким-то крикливым, необученным голосом, поэт приступил к декламации:
№ 9. Серный цвет
Длинностишия
– Право, не знаю, не могу найти подходящего стихотворения, придется читать наудачу:
«Отражение Везувия в море
“Смотрите, как мечутся внизу, под звездами, языки пламени, а багряные потоки тяжело перекатываются вокруг горы в глубине, пожирая прекрасные сады. Но мы, невредимые, скользим над этим холодным огнем, и собственные наши отражения улыбаются нам из горящей волны”. Эти слова произнес, не без удовольствия, шкипер; и тут же встревоженно поднял глаза на саму громыхающую гору. Но я сказал: “Смотри, так же и Муза легко несет в вечном зеркале тяжелые горести нашего мира, и несчастливцы заглядывают в это зеркало, но и им доставляет удовольствие такая отраженная боль”».
* * *– Почему этот странный человек плачет, если он сам же всё для себя выдумал? – воскликнул Лукас.
– Потому что он блаженный, – сказала Гольдина, но не угадала: ведь слезы Вульта свидетельствовали лишь о волнении, которое совсем не обязательно бывает восторженным или печальным, – свидетельствовали о волнении как таковом. Теперь он прочитал вот что:
«Детский гроб на руках
Как хорошо: не только ребенка легко качают те руки, но и его колыбель.
Дети
Вы, малыши, стоите близко к Богу: ведь и Земля, самая малая из планет, для Солнца – ближе всех прочих.
Смерть во время землетрясения[3]
Юноша стоял возле задремавшей возлюбленной, в миртовой роще, а вокруг девушки спало небо, и земля затихла – птицы молчали – сам Зефир задремал в ее волосах, похожих на лепестки роз, и ни один локон не шевелился. Но море, живое, приподнялось, и волны уже стягивались в стада. “Афродита, – взмолился юноша, – ты сейчас близко, твое море мощно волнуется, и земля затаилась в страхе; услышь же меня, царственная богиня: соедини любящего – навеки – с его любимой”. Тогда священная земная поверхность незримыми сетями опутала его стопы, мирты наклонились к нему, земля загрохотала, и ее врата распахнулись перед ним. – И внизу, в Элизиуме, проснулась возлюбленная, и блаженный юноша стоял перед ней, потому что богиня услышала его просьбу».
* * *Вульт в яблоневой листве сильно выругался – от чистейшей радости: его душа, в других случаях легко захлопывающаяся, сейчас распахнулась для муз. «Дорогой Готвальтхен! тебе одному предстоит узнать меня; ибо, клянусь Господом, это уже начинается, он сделает это для меня. О небо! как же удивится робкий божественный шут, когда я ему всё расскажу», – сказал себе Вульт, уже имея в виду некий новорожденный план.
– Должен отметить, – сказал Шомакер, – что юноша не без пользы для себя изучал под моим руководством авторов антологии.
Поскольку Кнолль ничего не ответил, отец попросил:
– Читай дальше!
И Вальт стал читать слабым голосом:
«У горящего театрального занавеса
Новые радостные пьесы показываешь ты обычно, медленно взмывая вверх. Но сейчас тебя стремительно поглощает голодное пламя, и сцена радости кажется сумбурной, злосчастной, окутанной дымом. Пусть медленно вздымается и опускается занавес любви, но пусть он никогда не упадет – навечно, как раскаленный пепел, – вниз.
Ближайшее солнце
За солнцами покоятся другие солнца в последней синеве; их чуждые лучи уже много тысячелетий свершают путь к маленькой Земле, но все не могут приблизиться к ней. О ты, ласковый, близкий Бог: едва человеческий дух приоткрывает свой маленький юный глаз, ты уже сияешь для него, о Солнце всех солнц и духов!
Смерть нищего
Однажды старый нищий заснул рядом с бедным человеком и часто стонал во сне. Тогда бедняк громко вскрикнул, желая пробудить старика от кошмарного сна, чтобы ночь не давила на его и без того усталую грудь. Нищий не проснулся, только отблеск лунного света пробежал по соломе; тут бедный человек взглянул на соседа и увидел, что тот уже умер: Бог пробудил его от совсем долгого сна.



