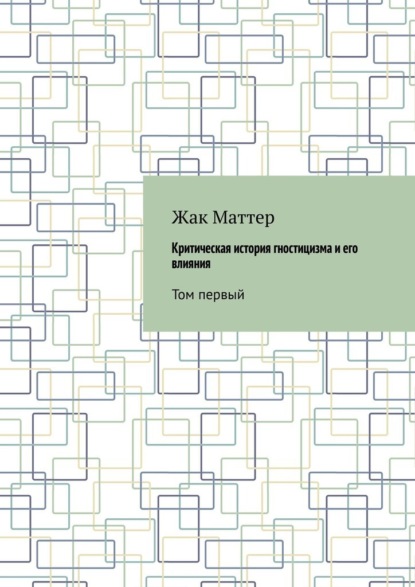
Полная версия:
Критическая история гностицизма и его влияния. Том первый

Критическая история гностицизма и его влияния
Том первый
Жак Маттер
Переводчик Валерий Алексеевич Антонов
© Жак Маттер, 2025
© Валерий Алексеевич Антонов, перевод, 2025
ISBN 978-5-0065-4447-5 (т. 1)
ISBN 978-5-0065-4448-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Критическая история гностицизма и его влияние
на религиозные и философские секты первых шести веков христианской эры.
Лауреат премии Королевской академии надписей и изящной словесности Жакк Маттер Генеральный инспектор Университета Франции.
2-е издание, переработанное и дополненное.
Первый том.
1843
Предисловие
Между угасающим многобожием и христианством, пришедшим на смену иудаизму и захватившим мир, возникла третья система – гностицизм. Родившись из нескольких других, эта система лишь обобщила наиболее важные из них.
Это было время эклектики. Эклектика царила в философии, как мы можем видеть из тенденций Плутарха и Аммония; в религии, как мы можем видеть из Оригена и Климента Александрийского; в морали и политике, как мы можем видеть из трудов и учреждений Антонинов.
Представляя собой более полную эклектику, чем любая другая, охватывая Восток и Запад, христианство и политеизм, система, занявшая место между этими двумя доктринами, льстила себе тем, что одержит верх над обеими, тем более легко, что одна, казалось, сохранила слишком много, а другая слишком мало тех теорий, которые любил древний мир: Он предложил Космогонию, более обобщенную, чем политеизм, более развитую, чем священные кодексы, свою Теогонию, свою Эогонию, свою Пневматологию и свою Антропологию, которые также добавляли к христианским теориям и вычитали из языческих доктрин. Он ставил себя выше всего, что его окружало, и, сказав ученикам Моисея: «Вы никогда не знали ни Верховного Существа, ни его закона, и ваше откровение – лишь работа подчиненного божества», он сказал политеистам: «У вас нет религии, у вас есть только мифология, у вас нет философии, у вас остался только скептицизм». Наконец, – говорил он христианам, – у вас больше нет истинных текстов ваших первых учителей, а эти учителя, сбитые с пути иудаизмом, не поняли своего божественного учителя».
Говоря на этом языке с обеими сторонами, гнозис добавил свои тайны к тому, чего не хватало в их публичном или интимном учении, и реформировал оба института и доктрины.
Гностицизм добавил уроки и примеры к своим опровержениям, и, кажется, на мгновение у него зародилась честолюбивая надежда на великие завоевания. У него действительно было много школ в Сирии, Египте, Малой Азии, Лисе, Италии, Галлии и Испании. Но нигде ему не удалось завоевать большинство, покорить общественное управление. Во всей своей работе и во всех своих тенденциях он пренебрегал именно тем, что так долго поддерживало политеизм, тем, что должно было сделать христианство религией цивилизованного мира, а магометизм – значительной части Востока, то есть политикой или союзом с государством.
Как мог гностицизм пренебречь или отмахнуться от этого союза?
Неправильно было бы сказать, что он пренебрег или презрел его: вот причины, по которым он не мог вступить в него.
Она никогда не была фиксированной системой; это был ряд систем, все свободные и независимые друг от друга. В таком состоянии она не могла достичь общего успеха и сохранить единство, достаточное для управления обществом.
Кроме того, в ее примитивных принципах отсутствовала социальная мораль, которая позволила бы политике принять ее и доверить ей судьбу нации. Это был просто набор спекуляций, более подходящих для соблазнения школ, чем народов, и более подходящих для формирования теософов, чем практических людей.
И наконец, он, казалось, обвинял себя в фундаментальной ошибке, поскольку не испытывал энтузиазма в отношении своей веры, бежал от преследований и мученичества, отказывался от публичного исповедания своих теорий и стремился спрятаться в рядах других, вместо того чтобы нести свое знамя.
Лишенный, с одной стороны, той моральной и социальной ценности, которую христианство предлагало в таком изобилии и так возвышенно, той ценности, которой Константин первым воспользовался с таким блеском; с другой стороны, той философской, литературной и монументальной ценности, которую могла предложить полихристианская религия; С другой стороны, той философской, литературной и монументальной ценности, которой греческий и римский политеизм обладал до своего упадка и которую Юлиан последним оценил во главе империи, гностицизм противопоставил этим двум силам, одна из которых была основана на недавнем откровении, другая – на древнем институте, только две большие претензии, ни одну из которых он не узаконил.
Первая заключалась в том, чтобы предложить традицию, древнюю как мир; вторая – в том, чтобы быть интуицией, превосходящей все науки.
С этими двумя принципами, скорее поэтическими, чем философскими, и более достойными святилищ древнего мира, чем ряда школ, претендующих на реформирование всего, гностицизм, тем не менее, продержался несколько веков. Пока он имел некоторую свободу, у него были святилища или школы во всех частях империи, и он сдался только после продолжительной борьбы, в результате законодательства, которое не давало перемирия никакому инакомыслию.
После христианства, победившего в греческом и римском мире, несмотря на его родство с иудаизмом, который был ненавистен в этом мире, и после политеизма, угасшего, несмотря на его союз с философией, великой славой того, что Юлиан называл эллинизмом, – после этих двух систем, скажем, гностицизма, который уступил со всеми религиозными и философскими элементами, которые он принял, – это самая любопытная драма первых шести веков нашей эры.
Но чтобы оценить, как он того заслуживает, этот великий факт, это столь любопытное появление в нравственном движении первых веков нашей эры, желательно, наконец, не принимать гнозис за то, чем он не хотел быть, – за отпадение от христианства.
Именно так всегда и поступали, несмотря на все его принципы. Гностицизм рассматривался как ветвь, оторвавшаяся от христианства, к нему относились как к секте и ереси, несмотря на то, что он чрезвычайно далеко отошел от своих принципов.
Чтобы быть истинным, его следует рассматривать с другой точки зрения, как набор систем, которые, несомненно, содержат некоторые христианские элементы, но в которых настолько преобладают космогония, теология, пневматология и антропология Персии, Египта, Моисея и Филона, что они представляют собой совершенно новый эклектизм. На самом деле, с христианством его объединяют лишь некоторые термины, которым он придает значение, совершенно отличное от их христианского смысла, так что было бы глупо воспринимать их в этом смысле.
Поэтому я считаю, что старая точка зрения способна исказить все представления об основах гнозиса, и цель моей книги в этом полностью переработанном издании – прояснить, отталкиваясь одна от другой, и настолько полно, насколько того требует истина, две системы, которые противоречат друг другу как по своим последствиям, так и по своим принципам.
Я только что сказал, что это новое издание моей книги полностью пересмотрено. Она изменилась как в целом, так и в деталях. Это почти новая работа.
При ее исправлении я воспользовался всеми полученными комментариями и рядом новых исследований. Я пересмотрел S. Ирене, С. Епифана, С. Клемана д'Александри, клементинов и то, что касается каббалы. Не раз я подтверждал мнения, которые были оспорены. В качестве примера приведу мнение о том, что Каббала в своих элементах предшествует гнозису, мнение, которое мало понятно христианским писателям, но которое с законной уверенностью исповедуют ученые-иудаисты. Я мог бы привести и другие мнения; в частности, что Климентины, которых сделали символом секты, которая никогда не существовала, принадлежат не к гностической школе, а к партии или, скорее, к христианскому автору, подверженному влиянию иудаизма и гнозиса; или что симониане, менандрийцы и досифеи были не мифами, а историческими школами, более или менее многочисленными.
Но правота зависит от фактов, а не от утверждений.
В этом издании, после введения, в котором дается оценка источников гностицизма, я посвятил всю первую книгу классификации его школ и его происхождению; вторую – авторам и лидерам гностицизма до основания его первых школ, сирийских; третью – его великим школам Египта; четвертую – его малым школам Египта; пятую – его кочевым школам; шестую – общей оценке его доктрин и институтов; седьмую – его влиянию на современные школы.
Как известно, источниками гностицизма являются, с одной стороны, тексты, представляющие интерес для всех читателей, а с другой – памятники, имеющие особое значение для археологов. Предыдущее издание я сопроводил подборкой этих памятников. Их количество, собранное мною за последние десять лет благодаря любезной заботе г-на Висконти и аббата Драча в Риме, г-на Штайнбюхеля из Рейнвалля в Вене, г-на Цумпта в Берлине, г-на Лиманса и г-на Янсена в Лейдене, г-на Грёффа в Мангейме и нескольких друзей во Франции и Англии, стало настолько значительным, что я решил сделать их предметом специального издания.
Это будет самостоятельная работа, которая выйдет под названием «Памятники гностицизма» и будет сопровождаться пояснительным текстом, как только мне удастся ее завершить. Она будет охватывать гностические памятники всех времен, включая даже те, что относятся к Средневековью, которым в работе М. де Хаммера придается большое значение. У меня есть несколько неопубликованных работ этого периода.
Такое разделение позволило мне посвятить три тома текста вместо двух только доктринам и избавить это издание от всего, что не предназначено для всех читателей.
Книга, которая последует за ней, как только будет завершен пересмотр «Александрийской школы», будет посвящена исключительно памятникам; ее преимущество в том, что она будет предназначена исключительно для археологов.
С самого начала моя «История гностицизма» должна была быть своего рода продолжением моей «Истории Александрийской школы». Если в этой работе прослеживалась точка зрения на литературное и философское движение веков, окружавших колыбель христианства, то «История гностицизма» должна была проследить точку зрения на моральное и религиозное движение этой великой эпохи.
Я попытался представить эту точку зрения еще более четко, переработав публикацию, которая теперь будет иметь окончательную форму.
С этой целью, помимо целой книги, я добавил несколько глав, которые образуют новое произведение, о чем свидетельствует количество томов.
Введение
Когда человек без всяких предубеждений рассматривает различные религиозные и философские системы, предшествовавшие утверждению христианства в мире, он остается настолько пораженным простым и величественным превосходством его доктрин, что уже не знает, какое происхождение им приписать, кроме того, которое они сами себе приписывают. Основатель этой новой системы передает ее с уверенностью, которая так позитивна и так чиста, так чужда всякого рода сомнений или гипотез, рассуждений или софистики; его ученики излагают ее перед врачами Палестины, мудрецами Греции, учеными Египта и священниками Рима с такой восхитительной откровенностью; И так блестяще эта система положила конец долгим дискуссиям, разделявшим святилища и школы древнего мира, что прямое влияние Высшего Существа, если его можно увидеть где-либо в учреждениях людей, должно быть признано в этой религии, которая объединяет истины, разбросанные по всем другим, и представляет их свободными от всего, что изменило их в других местах. Дело не в том, что христианство предлагает нам решение проблем, которые так долго волновали святилища и школы и будут волновать их до тех пор, пока человеческий дух обитает не в том регионе, который он по праву считает своей истинной родиной; Но на место каждой проблемы он ставит веру, которой человек может гордиться больше, чем любой другой верой; и если в древних дискуссиях он отделял заблуждение от истины с помощью божественного авторитета, то здесь он облекает последнюю в двойную печать разума и откровения. Она проявляет себя как высшая философия в том, что, придя на смену многим другим, больше не пытается метафизически установить то, что метафизика установить не может, и в том, что она дает во имя откровения то, что может дать только откровение.
Если христианство ставит человеческий дух выше умозрений метафизики, то оно также возвышает его над мифологией, и этим оно представляет собою универсальную религию, доступную для интеллекта всех степеней, снижающую все барьеры каст, святилищ, климатов, национальностей и священства, и приспосабливающуюся, как и сам человек, к обычаям всех стран, к установлениям всех веков.
Однако чем сильнее человек привязывается к христианству, тем больше он должен ценить чистоту его доктрин и с ревнивым любопытством следить за тем, как оно развивалось на протяжении веков и как боролось с учениями, противоположными его собственным.
Ни одна система не может защитить себя от развития или уберечь от влияния. Для доктрин, как и для наций, жить – значит меняться, а человеческий дух настолько активен и жизнелюбив, что не может оставить ничего из того, что он сделал, как есть. Более того, он не только презирает свои собственные творения, но и, подчиняясь высшим откровениям, которые он не желает и не может превзойти, создает в них свою собственную область и постоянно меняет формы этой области, как бы утешая себя бессилием изменить свою сущность. Всегда, по прошествии определенного времени, доктрина, которая казалась ему состоящей из столь же многочисленных аксиом, сколь и утверждений, оказывается, не зная, кто в этом виноват, если не курс, предписанный для человеческих вещей самим человеком, который был ее автором, На смену доктрине, элементы которой, возможно, все те же, но которая уже не ограничена прежними рамками и приобрела столь новые формы, что если и не является реальностью творения, то, по крайней мере, создает видимость прогресса.
Приведем лишь один пример из истории систем: мозаицизм, в котором, как и в египетском законе, заложен принцип исключения, на протяжении своего существования объединялся со всеми доктринами, с которыми ему приходилось сталкиваться. Если благодаря исследованиям своих мудрецов она обогатилась всем прекрасным, что предлагали ей Египет и Азия, то в результате заблуждений людей она была изменена всем нечистым или соблазнительным, что имели языческие нравы и суеверия. Мозаика была иной во времена Давида и Соломона, чем во времена Моисея и Арона, иной во времена Даниила и Филона; и она могла быть иной без противоречий, не отрицая своего жизненного принципа – постоянного, то есть прогрессивного откровения.
Любая религиозная доктрина, верящая в вечность или претендующая на нетленность, должна исповедовать тот же принцип, а любая философская доктрина, желающая иметь будущее, должна провозглашать постоянные метаморфозы. Действительно, если создатели доктрин полностью верят в свое дело, то этого нельзя сказать об их последователях, которые после очарования первого энтузиазма вскоре понимают, что система, чтобы быть единой, вынуждена исключить большое количество фактов и истин, которые не могут быть согласованы с ее принципами или объяснены ее гипотезами. Как только это открытие сделано, разум отделяется от доктрины, или дополняет ее своего рода синкретизмом, или отступает под власть процесса, который с тех пор, как существуют философы и системы, всегда путает философов и системы и ставит на место того, что они выдают за абсолютную и исключительную истину, некоторые мнения, некоторые убеждения и некоторые гипотезы, которые он имеет привычку скрывать от всех и предлагать всем.
Это и есть эклектика, которая всегда заполняет промежутки между одной системой и другой и которая отличается от всех других тем, что всегда сохраняет за собой, в отношении того, что является исключительным, право сомневаться во всем.
Поэтому ни одна доктрина не должна льстить себе тем, что она достаточна для умов людей, если она не утверждает, что она совершенна путем откровения или постоянной метаморфозы.
Именно незнание прогрессивного процесса, этого закона всего сущего, именно принцип изоляции и исключения привел к краху все доктрины, предшествовавшие христианству, будь то религиозные или философские. Напротив, именно принципы прогресса путем внутреннего откровения, без какого-либо исключения для естественного прогресса разума, придают христианству характер вечности и универсальности и, поставив его над всем, что ему предшествовало, поддерживают его над всем, что поднималось рядом с ним.
Она также одержала победу над целым рядом систем, выходящих из нее или образовавшихся рядом с ней, одни из которых вели против нее самую оживленную войну, другие грозили поглотить ее в своих кораблекрушениях, а третьи в конце концов обогатили ее своими трофеями.
Мы взялись изложить историю одной из этих битв, даже самой опасной, ибо это история тридцати или сорока сект, смело создавших свои школы в противовес христианству; это история тридцати или сорока сект, вышедших из рядов первобытной церкви и боровшихся с ней с помощью доктрин, которыми она их снабдила, и систем античного мира.
Если христианству с самого начала пришлось выдержать столь ожесточенную борьбу, то главной причиной этого была сама щедрость его принципов. Оно приглашало все народы вступить в свои ряды; оно не ставило никаких ограничений для своего универсализма, кроме человеческих. Все самые возвышенные надежды, которые только могли возникнуть у самого смелого философа и самого любящего тайны священника, он утверждал как догмы. С этого момента в его святилищах и школах стали появляться представители всех наций и элементов всех систем. До сих пор религиозное законодательство повсеместно ограничивалось одним народом и первоначально сталкивалось только с одним учением, которое оно заменяло: христианство, обращаясь ко всем, кто до сих пор претендовал на империю разума, должно было вызвать еще большее брожение и сопротивление.
Кроме того, христианство вступало в мир в одно из самых благоприятных для своих притязаний времен. Все сложившиеся системы сближались; общая усталость овладевала умами людей и побуждала их предаваться синкретизму, который уже давно готовила экспедиция Александра, за которой последовали более мирные начинания, установление в Азии и Африке нескольких династий и большого числа греческих колоний.
Действительно, со времени перекрестка народов, возникшего в результате войн Александра в трех частях света, доктрины Греции, Египта, Персии и Индии повсюду встречались и сливались. Все барьеры, ранее разделявшие народы, были опущены, и если народы Запада охотно соединяли свои верования с верованиями Востока, то народы Востока спешили усвоить традиции Греции и уроки Афин. Чем дальше греки отходили от своих древних мистерий, тем сильнее они ощущали желание узнать, что древняя мудрость Персии и Индии могла бы утвердить как самое прекрасное в этом мире разумов, из которого, как всегда считалось, человек пришел и в который он хочет вернуться. Они чувствовали эту потребность именно потому, что достигли той степени развития науки, когда у человека нет более высокого вопроса, чем этот. Поэтому философы Греции, я хотел сказать – платоники (ибо в эпоху христианства все философы, за исключением учеников Эпикура, были в большей или меньшей степени платониками), вскоре с жадностью ухватились за верования Востока, ожидая, что они придут и попросят у христианства то, что тщетно искали повсюду. Народы, ранее исповедовавшие самые исключительные принципы, евреи и египтяне, сами подчинились эклектизму, господствовавшему у их хозяев, греков и римлян, и эта неверность своим древним привычкам так хорошо подготовила человеческий род к широким принципам христианства, что, как только оно появилось в мире, оно воздвигло свои обители на берегах Евфрата и Ганга, Нила и Тибра.
Самыми выдающимися из его прозелитов были люди, уже искавшие истину в нескольких святилищах или в нескольких школах.
Принимая религию, которую они предпочитали всем остальным, они намеревались, несомненно, из лучших побуждений, отказаться от последней и исповедовать в простоте систему, которая пленяла их разум; но под влиянием синкретизма, под властью привычек ума и сердца, которые были сильнее их собственной воли, они смешивали сначала сдержанно, а в конце концов с гордостью, старое и новое, христианство и философию, апостольское учение и традиции мифологии. Люди, принимающие данную им религию, по крайней мере, принимают ее в том виде, в каком она им предлагается; но человек, привыкший к первой системе, редко способен принять другую во всей ее чистоте: такая череда нравственных метаморфоз дается лишь немногим умам; легче быть эклектиком. Эклектики христианства были эклектиками, одни с опаской, другие смело. Последние убеждали себя, что их долг – заполнить пробелы, которые могут существовать в этой религии; а их преемники, еще более смелые, утверждали, что в целом писания апостолов неполны, что догмы изложены лишь в зародыше и что они должны получить из рук философии не только систематический порядок, которого им недостает, но и все развитие, которое они влекут за собой.
Позже другие врачи, верные древним традициям святилищ и школ, перенесли в христианство эту линию разграничения между эзотерическим учением и экзотерической доктриной, которую новая система должна была уничтожить. Таким образом, они восстановили перед святая святых завесу, некогда разделявшую мастеров и вульгарных людей, завесу, которая, как показало христианство, была разорвана в процессе выполнения миссии его основателя. «Труды апостолов, – говорили синкретисты с энтузиазмом, который так хорошо сочетается с самозванством и скрывает его от самих себя, – могли указывать только на статьи вульгарной веры1, когда они были адресованы всем; напротив, они передавали тайны науки высшим умам, избранным». Эти тайны, как утверждалось, передавались из поколения в поколение в эзотерических традициях2, и, заимствуя для обозначения этой науки слово «гнозис», которое апостолы использовали для обозначения превосходства знания, которое дает откровение, они искусно приукрашивали утверждение, что получили его от учеников этих выдающихся людей. Это был большой соблазн для простых христиан. Другое дело, что философы язычества заимствовали у древних школ, деливших своих приверженцев на несколько классов, идею двойного учения.
Однако гностики не ограничились пустым разграничением; они действительно создали учение, отличное от вульгарного, и изложили его с такой смелостью, что история человеческих спекуляций уже не предлагает ничего подобного их концепциям. Действительно, выходя за пределы чувственного мира, они претендовали на погружение в лоно мира интеллектов и в бездну божественной силы, из которой исходят все существа, несущие небесный луч, и в которую, по их утверждению, все существа должны однажды вернуться.
Когда, по их словам, доктрины апостолов противоречили тем, которые гностики черпали из Платона или Филона, из Зенд-Авесты или Каббалы, исторические комментарии и пастырские послания основателей христианства были усечены, интерполированы и фальсифицированы; и хранителям эзотерического учения, ключа к тайнам, предстояло восстановить изначальную чистоту текстов. Некоторые из них провели эту так называемую реставрацию, используя самые произвольные процедуры.
Гнозис или гностицизм, происхождение, разновидности и влияние которого на другие современные системы мы сейчас опишем, был, таким образом, не чем иным, как введением в лоно христианства космологических и теософских спекуляций, составлявших наиболее значительную часть древних религий, в сочетании с египетскими, греческими и иудейскими доктринами, которые, в силу своей серьезности, имели наибольшее сходство с христианством, и которые новые платоники также приняли на Западе.
Не стоит возражать, что в этом случае гностицизм был не более чем своеобразной мозаикой, составленной из наиболее примечательных догм всех этих систем. Сравнивать произведения разума с произведениями вульгарного механизма – это всегда плохое обращение с разумом; и было бы особенно некрасиво по отношению к необыкновенной смелости гнозиса рассматривать его с этой точки зрения.
Гностицизм не является оригинальной системой, и его можно оспорить как философскую систему; но из всех доктрин, созданных древним миром, он является самым богатым и смелым. Это не один из тех сводов логических аргументов, к которым нас приучили греки, сформировавшие Запад; это восточная метафизика, система древних интуиций. Ее дух формируется не принципом выхода за пределы чувственного мира и создания умопостигаемого мира, объясняющего историю или драму; это принцип не сомневаться ни на мгновение, никогда не опускаться до диалектики. Мистицизм до христианской веры имел тот же характер; но он породил лишь мифологию и символизм, которые оставили все загадки. Гнозис отвергал все формы и традиции, которые не предлагали решений; какими бы веселыми, изящными и возвышенными они ни были, если они ничему не учили, он попирал их ногами с тем серьезным и серьезным духом, с которым христианство учило мир, со всей антипатией к софистической аргументации, которую оно противопоставляло школе Сократа, как та противопоставляла его другим. С одной стороны, он избегал антифилософских аспектов мифологии; с другой – антидогматических аспектов философии. Гнозис объединил некоторые из самых сильных верований христианства с учениями Востока, Египта и Греции, и представил ряд догм по всем вопросам, которые может охватить человеческий разум, принципы которых спорны как для философа, так и для христианина, но которые мощно взаимосвязаны и авторитет которых был огромен. Основополагающими учениями гностицизма являются эманация всех духовных существ из лона Бога, постепенное вырождение этих существ от эманации к эманации, искупление и возвращение всех к чистоте Творца, и, как только первобытная гармония всех восстановлена, счастливое и поистине божественное состояние всех в лоне Бога. Уникальная смесь монотеизма и пантеизма, спиритуализма и материализма, христианства и язычества, эта система ничего не оставляет без внимания.



