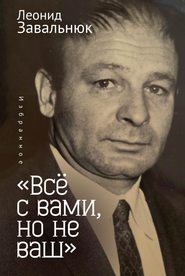
Полная версия:
«Всё с вами, но не ваш». Избранное
Самое очевидное – детство без родителей (мать рано умерла, отец воевал), пришедшееся на суровую военную пору и послевоенную разруху:
…легкокрылый голубь неустройстваПовсюду в жизни следовал за мной <…>Как не хватает мне семейного альбома,Какой-то чахлой яблони, стола,Прожжённого отцовской папиросой <…>И вещи не срастаются со мною.И нет мне дома на стезе земной.(«Сиротским сердцем на стезе земной…»)Вместе с тем прямой смысл, взывающий к сердобольности читателя, – не единственный и не главный. «Сиротство» осмысляется в масштабах бытия:
Бездомность. Сиротство…Что это – плод, не дающийся в руки,Или какое-то невидимое, нездешнее семя,Которое упало на землю и не может, вот ужТысячи лет не может никак прорасти?!(«Сиротство»)«Нездешнее семя» содержит в себе и одиночество в привычном смысле, и источник света, того особого света, в котором человеческое совмещено с надчеловеческим:
…дал мне свет и утоленье жаждыГлоток сиротского огня.Он до сих пор горит во мне.В жестокой, чёрной глубинеТо чуть чадит, то вспыхнет ясно.Он не душа, не свет в окне.Но, знаю, бог мой в том огне.Погаснет он, и я погасну.Сам Бог в этом сиротстве, ибо, как Завальнюк приписал карандашом в окончании одного из стихотворений: «господь, как и все мы, под короной своей сирота».
Речь идёт о «физике», а не о том, что за ней («О тоске дефицита родства, о вселенском сиротстве земли»). Знак равенства в сиротстве Бога и человека означает, что поэт озадачен одиночеством во вселенском смысле, близким к ужасу, охватившему Паскаля при мысли, что Бога нет. Но затерянность во вселенной не пугает сиротину и не охотит его к возврату в обжитые пространства религии:
…в нездешнем краюВ звёздном платье своём новогоднемТы брела через участь мою.– Мальчик, – молвила, – хочешь ли хлеба?..И сиротство завыло в груди:– Проходи! Не берём мы у небаПодаяния. Ну, проходи!!Демоническая гордость сейчас выглядит литературным штампом, и это «предмнение» мешает заметить оборот мысли, развиваемой Завальнюком: выбор идёт не между Богом и его недругом, а между Небом и Землей. Новым является «снятие греховности» с Земли.
Белый светНебывалый, огромный, нетленный…Его нет. Без Земли его нет <…>Но я знаю, ты – часть,И я – частьСверхразумного сердца. И счастьеВдруг себя ощутить этой частьюИ в слезах на колени упасть.Люди, годы, дороги, поля!..С красотою твоей и уродствомВсем родством,Всем несметным сиротствомЯ люблю тебя, матерь Земля!Это не атеизм в одной из его форм. Самого феномена веры Завальнюк не исключает:
Есть ли что-нибудь за гробом?Нету, – говорят друзья.Нету, – жизнь мне говорит.Нету, – говорят науки.А я вижу: тянет рукиКто-то мой и взгляд горит <…>Сон ли, явь? Кто разберёт!«Нет», «нельзя». Замки на двери.А душа ликует:– Верю!И сквозь стены. И – вперёд!Отрицаемый «умом», Бог властвует в душе:
И вот над пропастью стоим,Так вольно, так легко стоим,Как будто ото всех паденийЯ защищён его прощеньем,Его величьем и прощеньем,А он – ничтожеством моим.Предпочтение Земли – не словесная игра, а сила, меняющая систему ценностей во внутреннем мире поэта.
Это особенно заметно, когда поэт обыгрывает мгновенно узнаваемую цитату. Таково начало стихотворения «Корни»: «Высоким поиском влеком…». Имя Пушкина обязательно возникнет, и цитата «Духовной жаждою томим, / В пустыне мрачной я влачился» сыграет свою роль. А роль состоит в напоминании, что она – из «Пророка». У Завальнюка два разных стихотворения начинаются почти теми же словами: «Духовной жизни дома не имея…» и «Высоким поиском влеком». Ни в одном из них нет речи о «Пророке» как исполнителе чужой воли («исполнись волею моей!»). «Дух» движим огнём, исходящим не от Архангела Гавриила. Это не значит, что библейские заветы в глазах Завальнюка теряют цену. Он не против Творца, но и не на стороне падшего ангела.
Нельзя обойти красноречивой архивной детали в одной из авторских распечаток стихотворения о «духовной жажде»:
Духовной жизни дома не имея,Я уважал не мать и даже не отца,А старого бездомного еврея –Высокой правды тщетного ловца.В нём на месте «еврея» значится «Орфея». Колебание шло между выбором слова: античного имени – Орфея, и библейским («еврея»). Необходимость считаться с библейским контекстом выявляется прозрачной отсылкой к знаменитым словам Христа: «Оставь отца своего и мать свою и иди за Мной!». Важно и то, что для автора греческий и библейский миры практически равноценны. Кажется, можно назвать и «корень», из которого эта равноценность образовалась.
О нём говорит самохарактеристика поэта: «Я, как бы вам сказать, я доморощенный философ. Сковорода? Себя зову я Кочергой». Имя Сковороды названо, и это важно как указание на тип философствования. Себе Завальнюк дал фамилию «Кочерга». По-украински она должна была бы звучать как Коцюбá. Дело, по-видимому, не в фамилии, а в функции: кочерга – это предмет для ворошения углей, т. е. поддержания огня. Смысл самоименования Кочергой разъясняется в том же стихе:
Я понял вдруг, что песнь не для меня.Я не пою, я как бы топку целую (в самом себе) шурую,Я занимаюсь описанием огня.Чем я топлю? И песнями топлю.Тем, что во мне болит и тем, что надо мною,Грядущим светлым сном и миром возросло.Всем, что терпеть я не могу и всем, что я люблю.(«Горите вы огнём»)Всё это «шурование» пронизано токами философии Сковороды. И нам следует прислушаться.
IVНачнём со стихотворения, которое по мере чтения будет давать разные картинки (как стекляшки в калейдоскопе):
Вот летела курица, летела.Вот наткнулась грудью на забор…Далее окажется, что потуги напрасны, а курица – всего лишь еда. Вот тут и происходит первый поворот темы:
… Вот летела жизнь моя, летела.Вот наткнулась грудью на запрет…За ним другой:
Все надежды разбиваются об тело,Все мечтанья – пошлость или бред.Все мы в большей или меньшей яме.Всем равно ни жизни, ни пути.И наконец третий:
Где ты, Гений?Божий свет не явлен.Ждём тебя.Так смилуйся, взлети!(«Знак гения»)Стихотворение основано на широко известной поговорке с зачином «курица – не птица», дающим широкие возможности отрицать одно через другое: «петух – не мужик», «прапорщик – не офицер», «баба – не человек» (Даль) и т. п. Но главенствующий тезис утверждает как раз равенство курицы и человека. Оба смертны. Мысль тривиальная, но финал меняет дело – вводит ожидаемое отрицание: «автор – не гений». Прыжок к «гению» ничем не подготовлен. Отсюда подозрение о скрытой «отправной точке», предшественнике, которому нелетучесть курицы послужила рабочим образом для связи в один узел проблем бога и таланта. Сама проблема волновала, например, Пушкина в «Моцарте и Сальери», но… без курицы. А вот у Сковороды мы найдём полный набор компонент и логику, их связующую. Среди «Басен харьковских» есть и нужная, называемая «Две курицы». Вот начало: «Случилось Дикой курице залететь к Домашней: – Как ты, сестрица, в лесах живёшь? – спросила Домашняя. – Точь-в-точь, как и прочие птицы лесные, – отвечала Дикая. – Тот же Бог и меня питает, который кормит диких голубей стаю…». Курица и Бог названы, дело за «гением». Он впрямую не упомянут, но направление к нему задается моралью: «Многие, что сами не в силах совершить, в том другим не верят. <…> Какая польза знать, каким образом делается дело, если ты к тому не привычен? <…> Вéдение без дела есть мученье, и дело – без природы, без таланта». Здесь «талант» имеет значение «гения», ибо именно его находит в себе человек, «нашедший себя» (своё призвание). По логике Сковороды, «найти себя» означает найти в себе «внутреннего человека», другое имя которого – Бог. В этом ракурсе получает совершенно новое звучание классическая тема «Поэта» – его назначение в мире, в котором Бога нет. Но об этом позже.
С некоторой оторопью надо признать, что в стихотворении «Знак гения» в «знаки» попал не высокий, а низкий образ – курицы, и он способен «далеко увести речь». Термин «знак» привычен в быту в значении указателя (видов спорта, особенностей шоссейных дорог или категорий лиц, которым следует уступать место в метро). Завальнюк же поставил слово «знак» в заголовок почти четырех десятков стихотворений: «Знак реки», «Знак спасения», «Знак качества», «Знак раннего утра», «Знак чёрного кобеля», «Знак знания» и пр. Да и что такое, например, «знак чёрного кобеля» или «знак реки»? Необычность названий заставила поинтересоваться современными концепциями знака. Усредняя сведения, почерпнутые из философии, можно заключить, что знак – материальная вещь, указывающая на нечто другое. Это «другое» скрывает в себе «гнездо смысла»5 и ставит читателя перед задачей интерпретации. «Знак гения» охватывает «гнездо смыслов», куда входит удивление, что «божий свет не явлен», гений как «взлетающий над смертью» и создатель бога и света. Ответить на все «почему» и есть дело интерпретации.
Опережающее своё время знакомство Завальнюка с концептом «знака» было бы трудно объяснимо, если бы не Сковорода, у которого учение о знаках вытекало из общего «плана мира».
В соответствии с ним весь универсум представлялся как симбиоз «двух натур» и «трёх миров». Две первые – видимая (тварь) и невидимая (Бог). В другой проекции «весь мир» предстает как три взаимосвязанных мира. Весьма существенно, что Бог как самостоятельная «натура» уже не фигурирует. Первый мир – это макрокосм, не имеющий ни начала, ни конца, вечный и безграничный. Второй – микрокосм, мир человека. До сих пор ничего необычного нет: бинарное представление мира вполне в ладу с уже известным. Специфика мысли Сковороды состоит в особом представлении «трёхмерности мира». Он тоже распадается на две натуры. Первая – внешняя, передающая видимую сторону явления; она и называется «знаком». Её очень наглядно передал Заболоцкий, поминавший Сковороду в своих стихах:
В душе моей сражениеприроды, зренья и науки.Вокруг меня кричат собаки,растёт в саду огромный мак, –я различаю только знакидомов, деревьев и собак.Вторая – внутренняя, скрывающая смысл явления. Третья же, нововведение Сковороды, – это Библия. Вот она и является тем, что позже было названо интерпретацией знака. Сковорода вполне давал себе отчёт в том, что Библия фантастична, в выражениях не стеснялся, называя её обманом, подлогом, сборником небылиц и лжи. Всё её значение именно в символизме как инструменте постижения скрытых тайн мира и человеческого общежития.
Из этой точки высвечиваются несущие «фермы» поэтического мира Завальнюка. Мир делится на «видимый» и «невидимый», но позиция «невидимого» сопряжена с Богом «вообще», а не богом какого-либо конфессионального вероисповедания, христианского, в частности. Отсюда становится понятным особый смысл «сиротства». По «тварному» факту это – бездомное детство, по «невидимому» – затерянность в мироздании, эквивалентная ничтожности в глазах Бога. Всё это и образует «Знак знания»:
И ты гласишь одним сияньем глазО том, что мир, конечно же, дерьмо.Мы – гнусность и маразм.Но есть ведь Он, на это бытие благословивший нас,И в сотворенье света не было ошибки.Как отражение «невидимого», сиротство обретает непривычные обертона. Во-первых, оно означает, что бессмысленно искать «спасения»: жизнь есть только на Земле. Об этом откровенно – в «Знаке спасения»:
Любовь не спасает.Никогда, никого не спасает.Но если это так, о Господи,Я и любовь, и тебя не приемлю.Но если это так, о Господи,Для чего мне надеждаИ эта ямная явь, и все горние сны естества?Поэтому я говорю так:– Она спасает.Но только одно –Нашу грязную, горькую, грешную землю,На которой растёт всякое дерево,И всякий куст,И трава…Сокрытость «другого мира» лишает смысла разговоры о будущем. Следствием является то, что будущее уступает своё место прошлому, которое совершает какой-то странный пируэт и обретает вторую, более проникновенную прелесть:
Никто меня не понимает.Стенать ли?Радоваться ли?Меня былое обнимаетРукой, истлевшею вдали.А я живым теплом касаем,А жизнь согрета: смерти нет.То время платит мне по займамНавек невозвратимых лет.Грущу?О нет, я не грущу,А просто помню,И возвратноМне дарит прошлое стократноВсё то, что в будущем ищу.Отсюда же, из ценности уже прожитого, берёт начало ощущение глубокой древности своего бытия: история человека древнее истории богов.
Каков характер этих редких рощ?Реликтовое прячется от взгляда.Здесь старше всех невзрачный этот хвощ,А всех моложе этот дуб-громада.Так иногда мы в детское лицоГлядимИ проступает из столетий:– О, Господи, как скушно, как легкоПрожив мильоны раз,Ещё раз жить на свете!Сиротство обращает все помыслы к земле, к человеку в природном целом, на единство с нею:
…Животный мир деревни до смешного мал.Но доводилось видеть мне людей,В простом курином гоготаньеУмеющих искать и находить довольно пропитаньяДуше,Что вышла из природы,Но всегдаСквозь очи братьев наших меньших, как сквозь окна,С тоской голодною глядит, глядит туда…Я в детстве много видел их. И полюбил тот симбиоз живой,То прорастание людей и скудной живности друг в друга,Что научает мыслить нас не только головой,Не только плотью даже, но туманами, травой,Средь поля на бугре берёзкою кривой,Сосновой жаркостью и тиной луговой,И этим рвёт навек тоску любого замкнутого круга.…Кто знал быка, я думаю, тот знает и слона.И для него безмерность – вот она,За жёлтым хмелем огорода.Собака,Лев,Ихтиозавр –Слова!А суть одна. Одна на всех – природа.В центре мира оказывается не Бог, при всей важности его места в душе Завальнюка, а обитатель Земли – человек, обладающий, выражаясь языком Канта, «символической способностью суждения». Первостепенная роль этого качества в человеке меняет представление о месте и значении Поэта и Пророка.
Издавна культурное сознание сближало обе фигуры. Поэты, с одной стороны, «рождены для звуков сладких и молитв», с другой, принимали на себя функции Пророка – исполнившись высшей волей, «глаголом жечь сердца людей». У Завальнюка ассоциативный круг перестраивается: значение Поэта резко возрастает, вплоть до того, что сам Бог получает чисто человеческое измерение:
Поэзия – старинный спорт отважных.Поэт – небесный альпинист. И цель егоТе выси обживать, где даже богу страшно.Всё остальное – комплекс ГТО.Опрощение Бога уравновешено возвеличением Поэта. Он становится смыслопорождающим явлением:
Не было, не было, не было!Ничего, уважаемый, не было! <…>А теперь что происходит в небе?А теперь весна происходит в небе,А теперь любовь происходит в небе,Потому что поэт запел.От его животворных песенНичего не родится в мире,Ничего не родится в миреОт высоких прозрений его.Но там, где нету причиныБряцать на бессмертной лире,Там может быть всё, что угодно,Но нету там ничего!Аполлоновское начало – служение музам – отводится в сторону:
Вот твой читатель.Бей без промедленья!Посулы сыпь, и пестуй, и мани,Но доконай его, каналью, дотяни,Не дай ему уйти от просветленья!В обыденной жизни под просветлением понимают выход к Богу. Но из стихов поэта, методов его обращения с читателем совершенно ясно, что под просветлением имеется в виду выход за рамки обыденности, осознание себя частью вселенной, природы, т. е. расширение рамок существования. Не исключено, что для Завальнюка суть просветления очень сближена с путём к «внутреннему человеку», сиречь – Богу:
Какой-то новый свет во мне,Но сквозь рутину не пробиться.И я кричу душе:– Уж ты хоть повнимательней смотри.Порой мне кажется, пророк грядёт.Не упустить бы зодчего-провидца.И слышится ответ:Согласна. Но терпи.Для этого мне должно раздвоиться.И не как в сказках-снах,А с кровью раздвоиться,Поскольку неизвестно, он извне придётИль изнутри.Пророк теряет «небесную» ипостась – посланца Бога, сближаясь (по среде обитания) с человеком. Ни у кого, кроме Завальнюка, поэт не может сказать: «Пророчеств хочется. Хоть сам их сочини». Даже если он пророчит, то лишь как медиум. Тютчев следовал давней традиции, когда говорил:
Стоим мы слепо пред Судьбою,Не нам сорвать с неё покров…Я не своё тебе открою,Но бред пророческий духов…Кажется, против самой этой традиции и взбунтовался Завальнюк:
О радости предел! О темени порог!Неведомо, когда и кем он был поставлен.Но ведомо, что нами он прославленИ утверждён на вечные года.Поэт и перехватывает у неба право голоса, пророча о земном, а не заоблачном:
Дороги хочется.Поддамся наважденьюНемыслимых прозрений ножевых!..Уж лучше быть никем в краю навек живых,Чем быть собой средь мёртвых от рожденья.Не отрицается ни Бог, ни «тот мир», но в центр выдвигается проблема человека, его «самоуправления»:
Пророка жду… Бог в помощь, говори!Пророка жду… Он лёгких слов не скажет.Он мёртвых всех простит,А всех живых отвяжетРавно от мрака вечного и от пустой зари.Пока ничего страшного, всё ещё может выглядеть по-старому. Но вот следствия:
И понесутся люди кто куда, –Одни побежкой волчьею, другие конским скоком.– Живите, – скажет [Пророк], – врозь.– Не лезьте в небо скопом.И даже по двое не лезьте вы туда.При том, что бог один, у каждого свой бог.В речи поэта смешались амплуа моралиста и пророка. И это даёт совершенно непредвиденную отдачу – возвращение доверительного и уважительного смысла словам, скомпрометированным и обесцененным в современном обороте.
VЕдва ли кто сейчас склонен принять без улыбки слова о любви к ближнему, сочувствии, справедливости. Они остались в употреблении лишь у наивных провинциалов. Трудно допустить, чтобы Завальнюк с этим не считался, что говорок о наивности и провинциальности не достигал его ушей, – мол, пишу, как дышу. Особенно это касается слова «правда» – названия коммунистической газеты, ставшей символом того, чему никто не верит. Казалось бы, элементарное чувство реальности должно было удерживать руку поэта. Но мы видим обратное, высказанное со всей силой пророка:
Когда я говорю, пленённую зарюВдруг отпускают мёртвые твердыни.И самоуниженье без гордыниДаётся всем, когда я говорю.Когда я говорю так, словно свет творюИз горькой немоты и одичалой боли,Жизнь воцаряется на брошенном престоле,И вечен мир, когда я говорю.Когда я говорю и так душой горю,Что чужд и жуток небесам и людям,Из праха восстают все те, кого мы любим,И я вселяюсь в них, когда я правду говорю.Когда я правду говорю, когда судьбой сорюВ отважных лунатизмах потрясенья,Вам благо всем. Мне больше. Мне – спасенье.Я жив! Я есмь, когда я правду говорю!Это стихотворение названо «Монолог старого поэта». «Старого», т. е. мысль выстрадана, «небо стало небом». Опора на традицию очевидна, но не ближнюю, а дальнюю, на того, кто сказал: «Я есмь – конечно, есть и ты!». По конструкции, по звучанию она сработана по модели самопрославления, заданной Державиным:
Я связь миров, повсюду сущих,Я крайня степень вещества;Я средоточие живущих…«Правда» – любимое слово Державина, его кредо, его грозное оружие («я тем стал бесполезен, что горяч и в правде чёрт»). В этом смысле он не был свободен: «Будучи поэт по вдохновению, я должен был говорить правду». Но «стоять – и правду говорить» – ещё не всё. По свидетельству И. Дмитриева, Державин «как поэт и как государственная особа имел только в предмете нравственность, любовь к правде, честь и потомство»6. Малопочтенные сейчас слова обладали необескровленным значением для Державина.
Когда переводы псалмов – привычная практика, сближение поэта с пророком не выходит за рамки тривиального. Но в «Памятнике» нет и следа «пророка». В заслугу ставится смелость говорить императрице то, за что мог лишиться головы. Всё так, но есть нечто, недостаточно заметное или замеченное, некая поправка, без которой памятник – не памятник. Не просто говорить истину царям, но «с улыбкой». Весь смысловой вес в этой строфе принимает на себя первая строка: «первый я дерзнул в забавном русском слоге». Ведущим был не пророческий пафос, достойный «бесед о Боге», а просторечие, сниженный тон совсем иной языковой среды.
«Правда» – слово, безусловно, этически окрашенное. Но в придворной сфере употребление подобных слов считалось «моветоном», т. е. «знаком» нарушения писаных и неписаных правил светского общества. В данном случае дело даже не в уместности слова, а в самом языке. Слова живы, покуда ими пользуются. Для Державина высокие слова «правда», «честность», «нравственность», «потомство» должны были иметь живую цену. Иными словами, речевая картина мира Державина отличалась от (выпадала из) светской.
В речевой картине мира подчеркнём один из аспектов, а именно «картинность», т.е. изобразительно-красочную форму языка. Важно учесть, что в становлении послепетровской культуры особая роль принадлежала портрету, в котором соединялись возможности слова и краски. Первым образцом портретного искусства была парсуна (от «персона») – произведение, выполненное на традициях иконописи. Давление иконописной «крови» на поэтическую и живописную культуру было ещё сильным. В живописном портрете словесный образ отражается специфической формой – надписью к портрету. Живое переключение с одного образа на другой, с образа на мысль и обратно отвечает диапазону «философии портрета». Именно портрет претендует на роль полноценного выразителя образа мира. Особенно наглядно это проявилось в императорской теме – ключевой составляющей государственного мифа. Такие произведения, как портрет Д. Г. Левицкого «Екатерина II – законодательница в храме богини Правосудия» (1783) и ода Г. Р. Державина «Видение мурзы», воспринимались в едином срезе.
Сравнение произведений, решающих одну и ту же задачу прославления императрицы, обнаруживает уникальную особенность, которая метит работу именно Державина, – забавность. В неё входит сильно заявляющее о себе смеховое начало, порождаемое перепадом уровней языка. В оду императрице включаются непозволительные обороты: «Подобно в карты не играешь, / как я, от утра до утра». Но «забавность русского слога» – это не только смешение высокого с низким, это ещё и «красочность» поэтического словаря, его яркость, живописность и жизнерадостность. На Руси любили яркие краски: красный, малиновый, голубой, зелёный, жёлтый, иногда чёрный. Ценилось их резкое сочетание. Необычность поэзии Державина чрезвычайно высоко оценил и прокомментировал один из лучших знатоков литературы XVIII века Г. Гуковский: «У Державина на первом плане – красочное пятно. <…> Он ищет всевозможных средств изображения материального мира».7 Как особенность державинского «открытия природы», учёный акцентировал внимание на «яркости, бодрости, великолепии красок его живописи»8 (курсив мой – А. Б.).
Все эти компоненты – смех, причастность одновременно и литературе, и живописи – встречаются вместе только в одном из видов искусства – лубке. В этом отношении описание Гуковским популярности стихов Державина чрезвычайно показательно. О поэзии говорится языком похвалы лубку: «Его стихи рвут из рук, их переписывают в заветные тетради, они не нуждаются даже в печати, их и без того все знают наизусть; они – злоба дня, они попадают не в салон и не в школу, а на улицу; их читают не в тиши кабинетов, а на общественных гуляниях, за многолюдным обедом, в гостиной, в передней, в дворцовом аванзале, в офицерской кордегардии, в семинарском рекреационном зале, на весёлой пирушке. Их не изучают, как «Россиаду», а используют по назначению. Всякому интересно заглянуть в стихи, где продёрнут известный вельможа, где остро говорится о политике, где автор высказывается о вчерашнем событии. Иногда стихи возмущают, иногда приводят в восторг. Автор рассылает своим читателям бюллетени о своих наблюдениях, сопровождая их своими замечаниями»9. Стоит добавить, что Державин был умелым рисовальщиком, он набирал опыт на перерисовке лубочных картинок.
В 1989 г., выходит сборник стихов Завальнюка «Деревья, птицы, облака». Обе сторонки обложки – и лицевая, и закрывающая книгу – представляют собой цветные картинки. Их игровой, сказочный, упрощённый рисунок по типу приёма принадлежит лубку. В той же манере выполнена обложка сборника «Мужик ласкает даму»10. Если рисунки рассматривать как специфическую форму авторского послания к читателю, то «говорящим» является тот факт, что выбор типа обложек и исполнение рисунков принадлежит автору.
В обоих сборниках на равных началах идут тексты «смешные» и серьёзные. Для автора они равноценны, а вот для читателя, не заметившего лубочной специфики, – совсем нет. Лубочно-смеховые тексты не равноценны по изобретательности языка и хитроумию, не все свободны от дидактичности. Стих сильно приближен к разговорной речи райка, «рассказчик» толкует обо всем на свете – о политике, бюрократизме, экологической проблеме, любви, быте и т. п. Уже заголовки стихов показательны: «Разговор с человеком в белых брюках, про которые я думал, что они чёрные», «Коля и Маруся, или Как возникло Созвездие Гончих Псов», «Экологическое, или Баллада о зубро-бензоле», «Разговор о всезабавности, который прервался на самом интересном месте». Но, читая, стоит помнить «старое» (дореволюционное) отношение к лубку: картинку рассматривают (именно «рассматривают», а не смотрят), «вертят, тыкают пальцами, заливаясь при этом хохотом, за изображённых на картинке людей говорят, сочиняя целые диалоги и сюжеты, картинку разыгрывают, она выступает как стимулятор своеобразного действа. Именно на это и рассчитана лубочная живопись»11. Как это всё близко к словам Гуковского о Державине!

