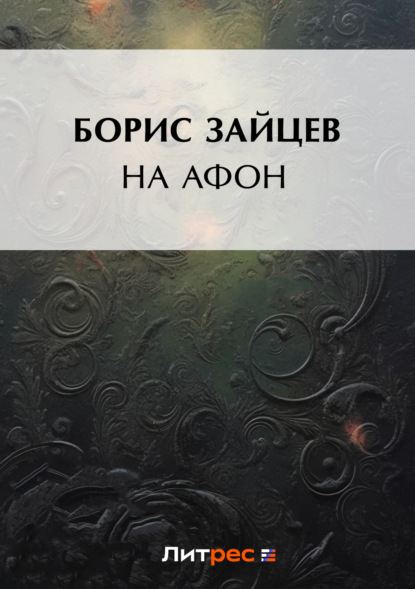 Полная версия
Полная версияНа Афон
Изредка, но все-же переписываюсь я с афонцами. Греческие марки на конверте неизменно волнуют. Небезразлично мне, что делается на полуострове. Большое-ли, малое, все для меня важно. Все будто и меня касается.
* * *Перебираю письма. Почерки то витиеватые, с загогулинами, то совсем простые.
…«А вот […] еще новость: в нашем монастыре случилось великое несчастие: пожар, начавшийся со владений Хиландарского[423] сербского монастыря, перекинулся на лес нашего владения, за трое суток 28, 29 и 30 июля истребил наш лес, сущий в отделении нашего монастыря: Крумице и Фиваиде весь до основания, который служил источником для существования монастыря и сохранения в нем братии. […] Несчастие поистине великое»[424].
Я видел лесные пожары в Провансе. Воображаю, что за апокалиптическое зарево стояло в те ночи над Афоном! Как вспыхивали и трещали, свечками, высохшие вековые сосны!
В другом послании бывший мой спутник добавляет: «Несмотря на все усилия иноков потушить пожар, огонь перекинулся в Фиваиду. И вот весь тот чудесный сосновый бор, где мы с Вами гуляли, погиб. Сгорели дальние каливы. Между прочим и тех братьев, у которых мы отдыхали.
Вскоре после этого один из них Илья (больной) перешел в монастырскую больницу»[425].
Отлично, помню этот бор, знаю и того каливита, больного, которого пришлось взять в больницу[426]. Знаю и то, что на Афоне хлеба нет, что единственный источник жизни для престарелых монахов это сводка леса и продажа его грекам – на вырученное закупают зерно. Такой пожар для монастыря ужасен. Вглядываясь в маленькую фотографию Фиваиды, присланную мне оттуда, вижу церкви, кипарисы, море и в тумане, вдалеке св. Гору – вспоминаю дни, проведенные здесь, бури, ветры, вечерние беседы с монахами. На другой карточке осенний прибой – дым и пена брызг, длинная, тяжелая волна. Мне известно, что значит отчаливать в монастырской лодке при такой волне… А вот, «Афон под снегом» – снимок Пантелеймонова монастыря зимой. Странно видеть ту дорогу, по которой ходил в летний зной, засыпанною белым снегом с узкою протоптанною тропкой. Вдали побелевшие крыши монастыря, попудренные горы и оттого еще более темное, со сталью, море… Холодно, должно быть, в кельях моих друзей! Холодно и в церкви, на бесконечных службах.
«Монахи нашей обители», читаю еще, «почти все переболели новой в нашем месте болезнию, называемой „гриппом“, или испанкой, буквально почти все монахи были больные, и меня не миновала эта болезнь, и до сего дня еще есть головная боль и чиханье, а лечить у нас некому […]»[427].
Тоже знакомая картина. Тоже знаю больницы Афона, где лечат «новую в наших местах болезнь»… Какой врач поедет сюда, на жизнь подвижническую, безвестную, полуголодную? Лечат сами-же иноки, да случайный фельдшер, травами и отварами. (В этом-же письме милая приписка карандашом: «Лавровые листы прилагаю». Эти лавровые листы я храню, разумеется, как и ссохшиеся ягоды, мною самим вывезенные: пища каливитов и отшельников).
Не я один посетил Афон за это время. Наезжал туда Уитимор[428], был известный католический деятель о. д'Эрбиньи[429]. Изучал быт афонских монахов бельгийский миссионер, чтобы у себя на родине, устроить монастырь восточного обряда[430]. («Он где-то добыл уже мон.[ашескую] рясу и камилавку и в таком виде разгуливает по мон-[асты]рям; он даже крестится по-православному»[431]). Побывал австрийский писатель – написал сочувственно. Побывал какой-то Байрон[432] (англичанин с громким именем, не тем будь помянут) – «много погрешил в своем труде против истины». Сейчас живет русский художник Перфильев[433], приехавший из Америки – этот с целями артистическими, пишет углем и красками, видимо с любовию, разные уголки св. Горы. Там есть что изобразить!
Мне недавно сообщили о большой нужде келии св. Иоанна Златоуста[434], недалеко от Кареи. Я не был в ней. Но проходя из Андреевского скита пешком в Пантелеймонов монастырь, смутно помню врата небольшой обители, которую назвал мне спутник келлией св. Иоанна Златоуста. Эта келлия едва жива. Благодаря некоторым обстоятельствам, утварь из ее храма была вывезена в соседнюю страну и положила основание новому монастырю[435]. Теперь у келлии ничего нет. Кусочек земли с огородом – все ее достояние. Монахи буквально голодают (исключительно старики). На пятнадцать дней выдается кусок хлеба и большая ложка масла, но сейчас и на масле экономят. Облачения в лохмотьях. Служить не в чем, одеваться не во что. Издохла даже старая «мулашка», единственное животное келий – на ней ездили получать с пристани редкие дары извне[436].
И даже на престольный праздник не может келлия отворить своих врат для приема гостей, как обычно делается на Афоне: принять, угостить нечем.
* * *Вот в какой суровости живет Афон. Ясно, как возмущают друзей Афона книжки вроде произведения г-жи Шуази (яко-бы тоже побывавшей на Афоне, переодевшись мужчиной). Я писал уже о ней в «Возрождении». И рад был узнать, что моя статья до писательницы дошла. Устыдилась-ли она своих клевет и издевательств над беззащитными и неимущими стариками – не знаю. Я вырезал ее «портрет» (фотографию в мужском костюме на фоне «театральной» Кареи и Ватопеда), послал его в Пантелеймонов монастырь и написал о. архимандриту Мисаилу (игумену), прося сообщить, был ли в начале апреля в монастыре итальянец со слугою, изображенным на снимке.
Привожу ответ о. архимандрита (на столь знакомой мне афонской бумаге с видом Пантелеймонова монастыря, над которым простирает свой омофор Пресвятая Дева).
«Благодать и мир Вам да умножится!
В ответ на Ваше очень любезное письмо от 24–Х – с.[его]г.[ода], можем сообщить Вам по поводу г. Шуази следующие сведения.
По наведенным справкам в Андреевском скиту оказалось, что там не помнят – посещала или нет их скит такая личность.
В Киноте все антипросопы заявили, что сия особа на св. Горе не была и ее уверение о посещении Афона – ложь.
В нашем монастыре тоже никто не видал такого человека»[437].
Ответ этот не оставляет сомнений.
Афон не возражает, не оправдывается – он выше этого. Со скромным достоинством он просто отвергает ложь.
В статье своей против Шуази я благодарил ее за то, что она разожгла меня на ответ, как-бы встряхнула, более дала почувствовать себя русским, православным. Теперь она доставила мне еще новую радость: я получил от о. Мисаила (с братией) подарок, очень взволновавший и обрадовавший. Небольшую иконку Иверской Божией Матери – «За защиту поруганного Афона», и такое-же изображение св. Пантелеймона[438].
Иверская висит у меня в изголовье. Это «вратарница» знаменитого Иверского монастыря. Когда смотрю на Ее лик со стекающими по ланите каплями крови, то вспоминаю тихий Иверон, на берегу нежно-туманного моря. Вспоминаю и нашу Иверскую, московскую, родную… к которой тысячи страждущих прикладывались – ныне тоже поруганную и опозоренную.
Думаю: не за нас ли, грешных русских, грешную Россию и стекают капли по святому лику…
* * *Еще письмо, последнее: «Многие из отцов уже ушли в вечность. Недавно почил о Господе и библиотекарь о. Марк. Его кончина была для всех неожиданностью»[439].
Очень хорошо помню о. Марка – молодого, черноволосого и застенчивого человека, трудившегося над каталогом, работавшего и клеем, ножницами. Кажется, он умел переплетать. По виду можно было думать, что как раз он всех или большинство переживет. Что было с ним? Туберкулез? Сердечная болезнь? Осложнение «гриппа»? – Кто знает на Афоне!
О. Марк покоится, наверно, на том небольшом кладбище Пантелеймонова монастыря, дорога к которому осеняется огромным деревом. По афонскому обычаю, через три года откопают его тело, и если все оно, кроме костей, бесследно истлело, если земля легко приняла его, значит и душа чиста и живет высшею жизнью. Череп-же, и кости сложат в гробницу, с благоговением. И над всем этим будет стоять летний, сияющий афонский день.
Я уверен, что кости безответного о. Марка окажутся ровного, янтарно-медового тона, как у праведников.
Афонские тучи
Сентябрьский вечер. Тихо, очень тепло. В храме Пантелеймонова монастыря идет всенощная под Крестовоздвиженье. Те же старенькие монахи, кого видел я шесть лет назад. Тот же золотой иконостас, те же стасидии, окно раскрыто, выходящее на море. И так же, во время службы, можно увидеть вдали огонь корабля. Служит архимандрит Мисаил. Медленно идет служба[440]. Но вот – в звездной безветренной ночи гул, все нарастающий, подземный… [„]Стены храмов и других строений задрожали, зашатались, их начало рвать и качать с необычайною силою. Землетрясение!“
Падают и разбиваются светильники. С купола сыплется штукатурка, паникадила качаются. Сами собой звонят колокола. Все это – минута, но может сойти за век.
В храме некоторое смятение. Кое-кто в страхе выбегает. Но большинство остается – крепка афонская выдержка! На клиросе поют «Хвалите имя Господне». Служба продолжается – долгая ночная служба. В окнах белеет. Воды залива засеребрились. Под толчки и легкое покачивание здания совершает на заре архим. Мисаил одно из поэтичнейших служений православной церкви. Поддерживаемый старейшими иеромонахами, держа обеими руками над головой Крест, под нескончаемое «Господи помилуй» (понижающаяся и с низшей точки восходящая гамма) – как бы по ступеням лестницы воздушной он нисходит, склоняясь с Крестом чуть не до земли. В растущей гамме вновь подымается, чтобы затем в том же порядке нисхождения и воздвижения благословить страны света – лицом к востоку, югу, западу и северу.
А под ногами бездна, стихия бушующая, вот-вот готовая вырваться: растоптать, в клочья обратить весь мирный, золотисто-ладанный храм и монахов в нем.
Это произошло ровно год назад, 26 сентября 1932 года. Можно себе представить, каким событием в тихой афонской жизни явилось землетрясение! Отдельные удары продолжались несколько дней. Приходилось и спать под открытым небом. Но особенно грозен был как раз нынешний день. «Что всеми старцами пережито! Вряд ли кто из монахов или мирских жителей Афона забудет эту ужасную ночь на Крестовоздвиженье».
Русский Афон людьми не понес потерь, но материально поплатился. (Севернее, у перешейка, в городке Иериссо были убитые и раненые). Особенно пострадали скиты Ильинский и Андреевский. В Пантелеймоновом монастыре оба собора дали глубокие трещины! Во многих местах повреждены крыши и трубы, отвалилась штукатурка. На монастырском хуторе Крумица и в ските Фиваида разрушения особенно велики (это места в северной части полуострова, ближе к Иериссо и главному очагу катастрофы). Понесли урон и разные мелкие скиты, и т. н. «келлии».
Землетрясения не новость на Афоне. Известно несколько циклов их. Справка хронологическая небезынтересна…
Первое землетрясение в 1276 году – бедствия Афона «от латинян», конец крестовых походов. (Живьем сожжены за отказ присоединиться к унии монахи монастыря Зограф. Повешено двенадцать иеромонахов, утоплен игумен Ватопеда, и т. п.). Затем «страшнейшее» землетрясение 19 мая 1456 г. – падение Византии и начало новой истории. Третий возврат – конец XVI в. – борьба христианского мира с исламом. В четвертый раз колебался Афон в 1790 г. весь Великий пост. «Гора тряслась как тростник», говорит источник. (Можно поручиться, что тогдашние афонцы понятия не имели о том, что происходило одновременно во Франции).
Не знаю, дошли ли до них и дела России в октябре 1905 г., когда 27-го числа раздались те же подземные удары.
Но прошлогоднее бедствие пришло на готовую почву. Теперь уже давно знает Афон, что с Родиной. В самый страшный, голодный для истерзанной России 1932 год, раскрылись опять на святой земле раны… Не самое ли «бедочувствительное» в мире место гора Афон?
* * *В нынешний день острее вспоминаешь этот уголок Руси. Вероятно, тихое солнце. В прозрачности над зеркалом залива Олимп – легким снеговым видением. Розы Пантелеимонова монастыря. Комната старинной гостиницы. Гулкие коридоры.
Много поэзии и красоты на Афоне. Но не из одной поэзии состоит жизнь. Монастырь не рай, и монахи не ангелы. Жизнь этих немолодых, в большинстве даже старых людей устремлена к вечности, но имеет и внешние условия. Эти условия из года в год хуже. Россия отрезана. Притока свежих сил почти нет. Афонцы чувствуют себя очень заброшенными. Старики вымирают – смены нет. Добывать пропитание, одеваться, поддерживать храмы и богослужения все труднее. А тут еще беды: огромные лесные пожары 1927 г., землетрясение 32-го. Пахотной земли нет – хлеб надо покупать в Греции. Для этого сводят леса – много ли может нарубить, напилить человек под семьдесят лет? И тем не менее трудится – но и лесные площади гибнут. Чинить храмы надо – да не на что.
…Я видел скудную и трудную афонскую жизнь. Она становится еще труднее. Все вести, доходящие с Афона, сходятся на том. Особенно тяжело, видимо, мелким скитам и келлиям. Что можно было продать – продано, и вот, как и в России, просто голодают слабеющие старики. Из мешков шьют одежды, за гроши идут к грекам работать: в семьдесят пять лет!
Нынче за всенощной вновь они соберутся, вновь престарелый игумен будет воздвигать Крест, который все они долгие годы уж несут.
Бор. Зайцев. 26 сентября 1933.Афон
Светлые воды Архипелага»… да, светлыми водами этими встретил меня Афон, больше сорока лет назад. Афон греческо-русский, сербский, болгарский, румынский, всегда православный – для меня, конечно, прежде всего русский.
Я был путник, пилигрим, «поклонник», как там говорят. Жил в русском монастыре св. Пантелеймона, одном из крупнейших на Афоне. Оттуда совершили мы с незабвенным иеромонахом Пинуфрием объезд всего Афона – на лодке до южной оконечности полуострова и самой горы Афон, венчающей его, дальше пешком до Лавры св. Афанасия, опять на лодке вдоль берега на север до Ватопеда, затем на «осляти», переваливая через хребет лесистый, узкою тропинкой (на Афоне нет дорог), вновь в родные края русские – в монастырь кроткого Юноши-Целителя и мученика св. Пантелеймона.
Немало он претерпел при жизни, но не окончена его страда. Суждено мучиться ему – в творении своем – и ныне. Кому мешал, кого обидел безобидный Пантелеймон? Не нашего ума дело.
Вот и дошла до нас весть: старец в монастыре св. Пантелеймона затопил вечером печку. Все там ветхое, как и сами насельники. Накопилась ли в трубе сажа, труба ли попортилась, только загорелось где-то на чердаке во время утрени (начинается на Афоне в час ночи), заполыхало под крышей. Ночь осенняя, бурная, ветер ворвался, раздувает, куда справиться старикам с пламенем бушующим!
Пожар пожирал детище св. Пантелеймона. «Иеромонах Серафим от скорби внезапно заболел и его немедленно отправили в госпиталь в Салоники»[441]. А пожар не унимался. Надеюсь, не весь монастырь погиб, – все же дело серьезное, это чувствуется по вестям здешним и из Америки. Еще удар по православию русскому, и так уже многострадальному.
* * *В 1927 г. на Афон отправился молодой поэт Дмитрий Шаховской, пробыл там сколько надо и вернулся монахом[442], там и принял постриг (ныне он архиепископ С.-Францисский Иоанн). По литературе, да и лично я его знал. Теперь встретились мы несколько необычно: это был не редактор литературного журнала «Благонамеренный»[443], а инок в рясе, все для него – Афон. Вслед беглой встрече я захотел углубления. Он назначил встречу в Сергиевом Подворье, в 7 1/2 ч. [асов] утра. Я покорно встал в шесть, и в полу подвальном, полутемном закоулке Подворья он подробно рассказал мне об Афоне. Значит же, хорошо рассказал! Денег не было ни гроша, но они явились – знаменитое слово профессии нашей: аванс. В мае плыл я уже «по хребтам беспредельно-пустынного моря» к таинственному этому Афону.
В книге, вышедшей через год, путешествие мое описано. Событием оказалось оно для меня. Сейчас горе Афона всколыхнуло былое, столь незаслуженно прекрасное.
Как и что там теперь, на смиренном «Земном Уделе Богоматери»? Что погибло, что уцелело из тех зданий монастыря св. Пантелеймона, где я провел некогда «семнадцать незабываемых дней»?
Пешком входил в монастырь, поселился в гостинице монастырской – огромном корпусе, где бесконечными коридорами можно прямо пройти в церковь Успения Божией Матери (главный действующий храм обители). Гостиница чуть не на двести номеров. Мы жили в ней вдвоем, турист-немец да я.
Такой жизни я никогда не знал, ни до, ни после. Состояла она в чередовании служб церковных, чтений у себя в номере, беседах с монахами, небольших прогулках и пятидневном объезде других монастырей и скитов.
Службы на Афоне длинны. Утреня начинается в час ночи, до шести. Затем ранняя обедня, потом поздняя. Завтрак. Отдых. Вечерня… – и так далее.
Только несколько суток отдал я полному обороту богослужений (а другие дни – поздняя литургия и вечерня).
Не забыть мне таинственного хода по длиннейшим коридорам гостиницы, из моего номера прямо в церковь, в конце, мимо уже монашеских келий. Выползают из них, как ветхие жучки́, седенькие монахи, тоже бредут в храм, там смиренно будут полудремать в стасидиях своих, пока вычитывает бесконечно канонарх. Для «мирского» непривычно, да и нелегко. Но торжественность и величие есть в этом утреннем безмолвном стоянии слабых телом, полуголодных людей перед лицом Бога, ночью, на пустынном полуострове страны древней. Рассвет застает в церкви. Из окна смутно белеет серебристо-синеватое море. Помню, донесся гудок пароходный – голос «мира» – и иеромонах Иосиф возгласил как бы ответ из алтаря:
– Слава Тебе, показавшему нам свет!
На что хор, скромно-старческий, отвечает великими словами – Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!
Усталый, но и легкий возвращаешься к себе. Гостинник, о. Иоасаф, монах неразговорчивый, но умный и внимательный, подает чай. Движения его медлительны и музыкальны, точно выходит он из алтаря со св. Дарами.
Так же торжественно и уносит свои чайники. Начинаешь читать.
Что читаешь? Не газету и не фельетон. «Мир» и его дела временно за бортом. А есть нечто и более интересное: например, о св. Ниле Мироточивом, из Афонского Патерика.
Был такой отшельник Нил, и за святую жизнь получил свойство, что когда умер, из тела его истекало целительное миро. Ручейками струилось оно в море. За этим миром приплывали издалека многие верующие на каиках, так что самое место под утесом получило название «корабо-стасион», стоянка кораблей.
«И при этом рассказывают, что ученик, оставшийся после св. Нила и бывший очевидцем скромности и глубокого смирения своего старца при земной жизни, не вынося молвы от множества стекающихся мирян, тревоживших покой св. Горы, будто бы решил жаловаться своему про славленному старцу на него самого, что он, вопреки своим словам – не иметь и не искать славы на земле, а только на небесах – весь мир скоро наполнит славою своего имени и нарушит чрез то спокойствие св. Горы, когда во множестве станут приходить к нему для исцелений. И это так подействовало на св. мироточца, что тогда же миро иссякло».
Патерик не утверждает – («рассказывают») – передает как бы легенду. Типично в ней, однако, что Афон более созерцателен и молитвен, чем действен. Молитва за себя и за мир – выше реального врачевания. Прославление божества, в тишине благоговейной, как бы выше действий на пользу ближнему земному.
Но тогда, в афонской гостинице, я размышлениям не предавался. Владело мной очарование поэзии, природы, надземного. Я вдыхал мир особенный и высокий. Над-жизненный, хоть проявлялся он будто в обычных, земных обликах.
* * *Вдоль всего ряда наших комнат тянулся снаружи балкон, перила его увиты виноградным листом, какие-то цветы прямо под окнами моими розовели и белели. По этому балкону я любил бродить, как бы по некоему воздушному мосту, с которого широко раскрывался волшебный мир афонский, мир Божий в ласке солнца майского. Ниже – купол собора (гостиница как-то выше расположена), здание библиотеки, где застенчивый и нервный иеромонах Виссарион разыскивает для меня книги. Вдали море в дымно-синеватом тумане, соседний полуостров Лонгос, и еще дальше воздымается в небо полумистическая призрачно-белая глава Олимпа снего вого – обиталище побежденных богов. Христос низверг Громовержца. Терновый венец победил Силу.
Но и в Зевсе этом, и во всем сонме богов выражалось все же (предшественно) надземное тяготение человечества. И сейчас восстает этот Олимп побежденно-вечным призраком белоснежным как-то не зря, как не напрасен этот сияющий и волшебный майский день. Он и «сам по себе», и выражает нечто высшее, чем просто полдень на афонском полуострове.
Недалеко от меня, на том же уровне, приемная зала монастыря – для посетителей, в прежние времена не таких, как я: митрополитов, архиереев, Великих Князей, генералов и адмиралов.
После прогулки по балконам можно зайти и сюда, мне дали ключ от залы.
Тоже старина и пустынность. Но это недалекий век – девятнадцатый (хотя кажется он теперь дальним, особенно его начало).
Портреты, диваны, кресла, ярко начищенный паркет, через него дорожка коврика, фикусы, напоминающие детство, сладковато-затхлый воздух нежилого помещения – и вот бредешь по коврику диагональному, среди призраков, сам, может быть, тоже призрак…
А внизу, недалеко отсюда, есть странное помещение, называется «гро́бница».
На Афоне такой обычай: хоронят как раз не в гробах, а обвертывают тело пеленами и кладут в землю временно. Через несколько лет выкапывают, собирают скелет, отде ляют череп, и все это складывается в некую как бы часовню: это и есть «гробница». Черепа на одних полках, кости отдельно. Есть и оценка: если рано освобождается кость от плоти – это хорошо. Если не совсем, кладут вновь в землю, «дозревать».
Хорошо, если кость светла, блестяща: признак высокой духовности усопшего.
Все это древность уже не девятнадцатого века. Ее истоки – нерусский восток. У нас так не хоронили.
* * *Может быть, старец, от скорби заболевший, был именно тот, кто затопил печку… – во всяком случае, горе невольного поджигателя разделяешь всемерно – не дай Бог оказаться в его положении. Он моих строк не прочтет, все равно, говорю, как по радио, в пространство, но и для него. Он не причем, он орудие. Значит, надо было еще пострадать делу духовному в земном облике. Все это область высшего Плана. Афон же был и есть, он существует, пожары и несчастия могут его уязвлять; как и всем, ему сужде но страдание – тут выражено оно в форме резкой, отчасти и примитивной. Но Афон независим от пожаров, нашествий иноплеменных, иконоборцев и атомных бомб – мало ли что может придумать наш милый век…
Афон есть образ духовный, никаким бомбам неподсудный, а, как все живущее, бедам подверженный.
Беды проходят, вечное остается. Афон остается.
Афон. К тысячелетию его
Весной, 1927 г. я уехал на Афон. Провел девятнадцать незабываемых дней на этом узеньком полуострове Греции. Ничего нет на нем кроме лесов, монастырей, виноградников – некая монашеская республика православная на земле греческого государства. Жил преимущественно в русском монастыре св. Пантелеймона.
Благоговейно вспоминаю эти дни. И теперь, в год тысячелетия Афона, еще раз мысленно покло няюсь святым местам и памяти редкостных людей, виденных мной там – никого из них нет уже в живых, но в моей душе, они живы, будто я их вчера видел.
Выбираю отрывки из моей книжки об Афоне – может быть, это даст некое прикосновение к св. Горе и ее обитателям.
Монастырь св. Пантелеймона
На Афоне двадцать монастырей – греческих, русских, сербских, болгарских, ру мынских – всех православных стран Востока. Управляется он представителями этих монастырей – эпистатами.
Русские попали на Афон в 1169 году – и сейчас еще сохранился монастырек Старый Руссик, но теперешний монастырь св. Пантелеймона – огромное учреждение, конца XVIII века (когда тесно стало наверху, в Руссике).
Я жил в двух комнатах почти пустой гостиницы монастырской: читал, ходил на службы – длиннейшие – все здесь особенное. Вспоминаю дни эти, как бы из лучших в моей жизни.
Вечерами, бесконечными коридорами, идешь ко всенощной. Она продлится в храме Покрова Богородицы всю ночь.
«Золото и синева» – так запомнился мне этот храм. Канонарх читает, хор поет, выходит диакон, служит очередной иеромонах. Ровность и протяженность службы погружают в легкое, текучее и благозвучное забвение, иногда, как рябь на глади, пробегают образы, слова «мирского» – это рассеяние внимания может даже огорчать. Часам к трем утра подбирается усталость. Борьба с нею хорошо известна монашескому быту. Для непривычного «мирского» борьба со сном особо нелегка: тупеешь и грубеешь, едва воспринимаешь службу. Но, перемогшись, в некий переломный час опять легчаешь. Все-таки, это очень трудно.
Но одно то, что вот в эту лунную ночь, когда все спит, здесь, на пустынном мысу, сотни людей предстоят Богу, любовно и благоговейно направляются к Нему души наперекор дневным трудам, усталости – это глубоко действует.



