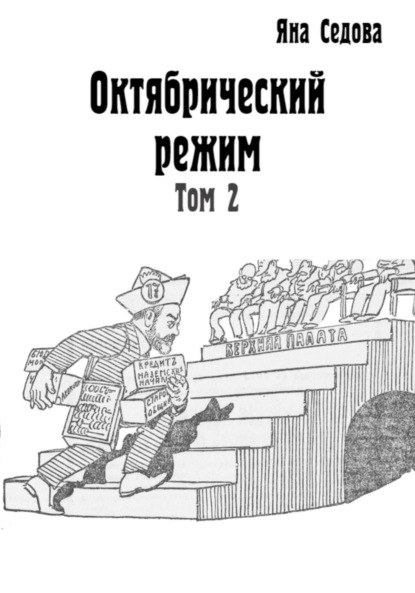
Полная версия:
Октябрический режим. Том 2
21. «Новое время» в прочувствованной передовой статье скажет: «а мы так верили в русский парламент!». «Речь» воскликнет: «вот результат выборов по закону 3 июня!». Кн. Мещерский заявит: «не даете старику и умереть спокойно». «Россия» укажет, что это обычное явление парламентской жизни и никакой опасности для Думы не представляет. Уличные газеты выйдут с иллюстрациями».
В сущности, после такого предсказания Думе можно было не заседать, ибо юморист за подписью «Тпррру» попал в самую точку!
В одной из передовых статей «Свет» задался вопросом: почему те же люди, которые сейчас того и гляди схватятся врукопашную, совершенно спокойно беседовали на разнообразных съездах и совещаниях последних лет, даже на съездах земских и городских деятелей 1904-1905 гг.? «Там шла идейная и умственная борьба, борьба за убеждения, здесь в Думе идет борьба за власть». Поэтому «Россия с ее реальными нуждами, страданиями и упованиями забыта и приносится в жертву торжеству партий. … Вот ключ к той картине, которую являет нынешняя Г. Дума».
Корень зол газета усматривает в «несчастной формуле»: «Дума призвана к участию в законодательной власти». По-видимому, «Свет» намекает, что народное представительство должно иметь законосовещательный, а не законодательный характер.
Новые ревизии. Эпоха сенатора Гарина
После Москвы Гарину была поручена ревизия интендантства. Обнаружилось много злоупотреблений. В конце 1909 г. в Казани состоялся первый судебный процесс над группой интендантов, причем все, кроме двух, были признаны виновными. Затем полномочия Гарина были расширены. Всего к 1.I.1910 сенаторские ревизии дали свыше сотни судебных дел с привлечением до 500 подсудимых, в том числе около 20 генералов.
Гарин уже не справлялся, и в январе 1910 г. Государь повелел назначить четыре новые сенаторские ревизии, возлагавшиеся на сенаторов Д. Б. Нейдгарта (шурина Столыпина), Н. А. Дедюлина, гр. О. Л. Медема и А. А. Глищинского. Между ними и Гариным были распределены для обследования военные округа. Одновременно расширены и полномочия ревизоров. Стремоухов вспоминал, что ревизия Привилинского края велась «с большим размахом, с исключительными полномочиями, предоставленными ревизующему сенатору, огромным персоналом и с затратой больших денежных средств». Вероятно, то же самое было повсеместно.
Новые обследования приносили новые скандальные результаты. Например, оказалось, что за 5 лет киевские интенданты получили взяток на 8 млн. р.. Многие чины ведомства подали прошения об отставке. В Киеве сенатор Нейдгарт отдал под суд более 30 лиц, главным образом высшего начальства, а в Варшаве – 66.
Вслед за Гариным, другие ревизоры тоже бесстрашно добирались до самых высоких лиц. Сенатор Нейдгарт, например, распорядился произвести обыск у начальника 1-го отделения главного интендантского управления полк. В. В. Акимова, близкого помощника ген. Шуваева. Главный интендант лично провел расследование и убедился в преступной деятельности подчиненного. Акимов был арестован. Тот же сенатор обнаружил злоупотребления и в петербургском самоуправлении.
Громкие разоблачения и судебные процессы заслужили ревизорам огромную славу. Консервативный «Свет» признавал: «нельзя тем не менее сомневаться, что ревизии популярны и что общество, в массе своей, очень благодарно правительству за его все новые и новые ревизии». Некий анонимный корреспондент «Голоса Москвы» даже говорил об «эпохе Гарина».
Однако и Гарин, и сам Председатель Совета Министров нажили своим бесстрашием немало врагов. Гарина обвиняли в печати в необоснованном привлечении к ответственности некоторых лиц. При одном из судебных разбирательств вроде бы даже оказалось, что ревизор основывался на оговорах клубных шулеров и некоего содержателя домов свиданий Стволова. Стремоухов, попавший под ревизию Д. Б. Нейдгарта как сувалкский губернатор, недоумевал по поводу и ее причин, и выбора ревизора, чье имя молва связывала с одесским погромом, а острословы – с Борисом Годуновым, «царским шурином». «…по совести, должен отметить, что вся ревизия велась под знаком крайне предвзятого и незаслуженно отрицательного отношения к Скалону. Производило впечатление, что последнего, во что бы то ни стало, хотят выжить».
В 1910 г. правые стали открыто призывать к сворачиванию ревизий, указывая на их чрезмерное затягивание до формы «хронической ревизионной лихорадки» («febris revizionica chronica») и обрастание «ракушками», как то происходит с судном, долго находящимся в океане. Кн. Мещерский негодовал по поводу применения ревизорами приемов «жандармского сыска», воскрешающих «ужасные времена бироновской инквизиции и бироновского сыска» и тем самым настраивающих народ против правительства. «Боже, избави Царя и Русь от таких ревизоров!». 7.IV.1910 Тимошкин с думской кафедры напал на сенатора гр. Палена. Вероятно, под влиянием всех подобных упреков в мае Государь повелел закончить ревизии Гарина, Дедюлина и Нейдгарта к июлю.
Судя по масштабу нападок, ревизоры добрались до слишком высоких лиц. Очевидно, Столыпину это не простили. Он сам говорил, что проверки нажили ему «миллионы врагов», а в кулуарах Г. Думы порой прямо отмечали связь между назначением ревизий и интригами против главы Правительства. Нельзя не заметить странное совпадение: Столыпин был убит в том самом Киеве, где ревизия привлекла к ответственности множество интендантов; более того, убийство совершилось спустя всего два месяца после громкого интендантского процесса. Любопытно, что прибывшие к одру умирающего А. Б. и Д. Б. Нейдгарты настаивали на поручении следствия какому-либо сенатору, следовательно, доверяя только такому порядку расследования.
Реформы в интендантстве
На посту главного интенданта Полякова сменил ген. Шуваев, настроенный реформаторски. При обсуждении сметы своего ведомства он сообщил Г. Думе, что оно «как светлого праздника» ждет преобразований, предложенных комиссией в виде пожеланий. «Лично, относительно себя я могу сказать только, что я, как говорится, сплю и во сне вижу осуществление этих реформ».
Ген. Шуваев составил программу преобразований, удостоившуюся Высочайшего утверждения. На смену системе торгов приходили наличные покупки и срочные заказы, к заготовкам привлекались земства и биржи. Товар предлагалось принимать самим войсковым частям при участии общественных учреждений. Предельная открытость интендантских операций обещала уничтожить почву для того «почти повального воровства», о котором говорил Гучков.
В следующем году глава октябристов имел случай лично убедиться в преимуществах новых интендантских порядков, когда предпринял большое путешествие на Дальний Восток. «Я посещал воинские части, расположенные в захолустных местах, и везде встретил крупные улучшения: сапоги, белье, пища солдат – все это уже иного качества», – рассказывал Гучков «с чувством большого нравственного удовлетворения», оговариваясь, впрочем, что желательный уровень еще не достигнут.
Положение в Г. Совете в январе
Зимой либеральная печать делала все более и более резкие выпады против Г. Совета, из-за медлительности которого «воз законодательной работы все еще «и ныне там»».
«Половина жизни нынешней Думы ушла. На что? На единственную реформу – о старообрядцах, не пропускаемую Синодом, Г. Советом и правительством?».
Вскоре «Биржевка» писала уже об «итальянской забастовке» верхней палаты и призывала Правительство освободить правых от присутствования в Г. Совете на 1910 год. «Родина ничего не проиграет, если матадоры дореформенного режима окажутся на отдыхе от своих трудов по препятствованию обновления ее».
Гучков, по слухам, заявил, что если верхняя палата не примет думскую редакцию старообрядческого законопроекта, то Г. Дума не пропустит ни одной сметы. «Очевидно, тактика усвоена чисто-купецкая», – смеялись правые.
Положение Акимова пошатнулось. Пошли слухи об его уходе, немедленно опровергнутые Телеграфным агентством. Однако 24.I на рауте у Столыпина говорили о переутомлении Председателя Г. Совета. Затем в кулуарах утверждалось, что Государь указал Акимову на медленный ход работ верхней палаты.
«Земщина» ответила на упреки либералов, что они валят «со своей больной головы на здоровую, делая Г. Совет козлищем отпущения за их же прегрешения».
Старообрядческий законопроект
Слухи пошли в конце января, но еще после каникул старообрядческая комиссия заметно взбодрилась. Если в прошлом году на месяц приходилось по три заседания, то теперь комиссия трижды собралась почти подряд – 13, 15 и 18 января. Дурново произнес речь, призывая правых пойти на уступки. Тем не менее, комиссия не только затянула дело до конца февраля, но и существенно изменила характер законопроекта в консервативном духе.
Были ограничены права старообрядческих общин по ведению метрических книг , открытию монастырей, владению недвижимым имуществом, торгово-промышленной деятельности. Порядок регистрации общин заменен на ограничительно-разрешительный. Отменено пресловутое право проповеди (ст. 1). Иерархические именования по существу запрещены (разрешены только для беспоповщинского согласия, как раз лишенного иерархии). Комиссия отказалась от введенного Г. Думой термина «священнослужитель по старообрядчеству» (ст. 29). Запрещены и религиозные процессии, а ношение облачения вне храмов и кладбищ допущено лишь по особому разрешению министра (ст. 36).
Впрочем, по некоторым статьям комиссия оказалась неожиданно согласна с Г. Думой (регистрация духовных лиц явочным порядком, перемена мирского имени при постриге), а нравственный ценз для священнослужителей и вовсе был исключен.
Март ушел на кодификацию поправок комиссии. Доклад был отпечатан лишь в начале апреля, перед пасхальными каникулами, а направлен Председателю Г. Совета после них – 25.IV. В этом докладе комиссия подвергла нападкам не только думскую, но и правительственную редакцию законопроекта, ушедшие влево от Указа 17 апреля.
Слухи об упразднении поста Председателя Совета министров
В начале года пошли слухи о грядущем упразднении должности Председателя Совета министров. Иными словами, Столыпин якобы теряет свое главенствующее положение в кабинете и становится рядовым его членом.
«Россия» опровергла слух в резких выражениях: «не только такого проекта нет, но и не было, и не только в «кругах», которые с «оппозиционной» точки зрения считаются «влиятельными», но и просто в «кругах». Весь разговор об этом является наглой, явно недобросовестной, достойной лишь газеты «Речь» и ее руководителей выдумкой, рассчитанной на то, чтобы было с чего начать серию политических сплетен, этого единственного, чем живет и дышит жалкая русская «оппозиция»».
Этот резкий выпад выглядит еще оскорбительнее, чем «наглая ложь» в адрес «Новой Руси», но никаких последствий не было.
Съезды
Зимой 1910 г. в Петербурге состоялся I всероссийский съезд по борьбе с пьянством. Крайние левые элементы решили воспользоваться им для вынесения политических резолюций, рассчитывая, что Правительство побоится закрыть собрание такого рода. Съезд вынес революционные резолюции с требованием социальных реформ. Некоторые предложения не имели никакого отношения к противоалкогольной тематике – например, о необходимости исключить из программы учебных заведений Закон Божий.
В ночь на 7.I охранное отделение произвело аресты членов столичного комитета социал-демократической рабочей партии, многие из которых участвовали в противоалкогольном съезде. По официальному сообщению репрессии произошли для предотвращения митингов, намеченных на 9 января. Прогрессивные круги, однако, усмотрели здесь преследование именно членов съезда. В Думу даже был внесен соответствующий запрос (22.I).
Предстоял еще съезд писателей, но министр внутренних дел предусмотрительно исключил из программы пункт о правовом положении печати. В знак протеста редакция журнала «Русское богатство», а за ней комитет литературного фонда решили воздержаться от участия в работах съезда. Чуть было не сорвали все дело, но съезд все же состоялся чуть позже, в апреле.
Апрельский пироговский (врачебный) съезд тоже вынес ряд политических резолюций. «Право, – писал сотрудник «Земщины», – не нужно быть врачом, чтобы эти резолюции сочинять. … Плох врач, который лечит сифилис республикой, а трахому – грабежом».
По замечанию министра торговли и промышленности Тимашева, «наши съезды, созываемые по специальным вопросам, нередко уклоняются в сторону рассмотрения общих вопросов. Бывает, что специальные вопросы так и остаются неразрешенными».
«Россия» отмечала, что «флагом общественного дела» прикрываются политические демонстрации. После антиалкогольного съезда официоз писал о попытке возобновить «эпоху съездов».
Новые рауты и совещания у Председателя Совета министров
После каникул началась новая серия парламентских раутов у Столыпина, на которых министры и члены законодательных учреждений обсуждали вопросы, находившиеся на рассмотрении Г. Думы и Г. Совета, а также внешнеполитические. Подобный вечер прошел 19.III и у Акимова.
Продолжались и частные совещания Столыпина с членами Г. Думы.
У монархистов
Союз русского народа
Пока Дубровин находился в Ялте, его сподвижники переизбрали состав главного совета Союза русского народа. В январе председатель заявил, что покидает главный совет, оставаясь в Союзе, и принял титул «почетного председателя».
«Грозившая рухнуть дырявая декорация хоть с большим трудом и издержками кое-как водружена на место, – писал Громобой. – Ее почистили по мере сил, убрав Дубровина и вообще внушив не скандалить без толку».
Однажды под очередной статьей Дубровина в «Русском знамени» по недосмотру появилась подпись «действительный председатель» Союза. Пуришкевич немедленно вызвал бедолагу к телефону, ошеломив собеседника «такими выражениями, которые вряд ли кто решился бы запечатлеть на бумаге». Дубровин иронически заявил, что на Пуришкевича он не обижен: «Есть такие счастливые люди, которым все прощается и на которых серьезно никто не может сердиться; к таким-то счастливцам я отношу и глубоко почитаемого Владимира Митрофановича, предоставляя ему ругать меня сколько угодно и по телефону, и в печати, в стихах и прозе».
Временно исполняющим обязанности председателя главного совета Союза был избран бывший ярославский губернатор А. А. Римский-Корсаков. Ходил слух, что новый руководитель намерен укреплять отношения с Председателем Совета министров.
12.II воссоединились две ветви когда-то единой монархической организации – Союз русского народа и Союз имени Михаила Архангела.
Националисты
29.XI.1909 в Петербурге состоялось учредительное собрание Всероссийского национального клуба. Задачу нового движения «Свет» определил так: «Русскому человеку нужно напоминать, что он русский и что в этом не только нет ничего дурного, но дурно, наоборот, отрекаться от своей национальности, предавать ее».
Клуб был внепартийный. На церемонии его официального открытия председатель совета старшин кн. Б. А. Васильчиков говорил, что русское общество разочаровано в партийной политике и должно объединяться на национальной почве. Из свыше 1200 членов клуба больше всего было беспартийных, а остальные принадлежали к различным политическим течениям. В совет старшин вошли 10 беспартийных, 2 октябриста, 8 националиста, 3 правых, а сам кн. Васильчиков был беспартийным.
Дело было поставлено на широкую ногу. Под клуб снят особняк (Литейный пр., 10), в котором устроены сцена, гостиные, библиотека, биллиардная, комнаты для карточной игры, столовые, гостевые комнаты, а также, как с завистью отмечала «Биржевка», – «хороший буфет и отличный погреб».
Предполагалось, что клуб будет вести просветительскую и издательскую деятельность, а также что в нем будут проводиться собрания Императорского всероссийского аэроклуба и русско-галицкого общества.
Торжественное открытие состоялось 21.II. Еп. Евлогий совершил молебен, после которого в «сильном слове» назвал клуб храмом русского дела.
Не успев открыться, новое движение потерпело первое фиаско. Совет старшин пригласил в клуб офицеров и моряков, но участие военнослужащих в политических организациях и даже присутствие на политических собраниях запрещено законом. В самый день учредительного собрания Крупенский, будучи приглашен к Столыпину на парламентский чай, попросил министров освободить клуб от этого запрета. Депутат произнес свою просьбу со свойственным ему юмором, подойдя к Столыпину, ген. Сухомлинову и адм. Воеводскому вместе с Балашовым и заявив: «Выражаясь «социал-демократическим» слогом, ненавистное правительство стоит на нашем пути…». Министры обещали, что препятствий в этом вопросе не будет. Однако Государь не дал своего согласия.
Спустя восемь месяцев после открытия национального клуба Громобой с сожалением характеризовал его как «дорогостоящую игрушку». Однако эта «игрушка» развила широкую деятельность. Клуб занялся увековечением героев русско-японской войны, устройством празднеств в день 50-летия отмены крепостного права, изданием патриотической литературы. В декабре 1910 г. Государь пожертвовал издательскому фонду клуба 15 тыс. руб.. К сожалению, столь хорошо задуманное и широко поставленное начинание просуществовало не больше года.
В начале 1910 г. произошла еще одна важная перемена – переворот во Всероссийском национальном союзе. В отличие от одноименного клуба, этот союз, созданный в 1908 г., был нищим. Один из его основателей публицист Меньшиков признавался, что у них нет ни председателя, ни налаженного совета, ни организованной деятельности, ни средств. Сейчас по заявлению 25 членов произошли перевыборы совета. Новым председателем совета был избран (2.II) Балашов. Он возглавил единый Всероссийский национальный союз, в который вошла партия умеренно-правых.
Заговорили о предстоящем слиянии двух союзов – национального и русского народа, но это были организации чересчур разных взглядов.
Законопроект 39-ти об отмене административной высылки в Европейскую Россию (20.I)
Законопроект крайних правых о прекращении высылки административным порядком в местности Европейской России был внесен 15.XII.1908. Душой этого проекта был Клочков, представитель Вологодской губ., непонаслышке знакомый с вредными последствиями появления в каком-либо крае ссыльных. Депутат сравнивал этот институт с «керосином, усердно разливаемым во время пожара по надворным постройкам».
Комиссия по судебным реформам расширила законопроект на Азиатскую Россию, сохранение в которой института ссылки было бы его «усугублением», по мнению Аджемова. В таком виде предложение правых было признано Г. Думой желательным.
Однако ведомство не сочувствовало этой мысли. По каким-то причинам и судебная комиссия умерила свой пыл. Когда Клочков попытался ее поторопить, она прибегла к формальному отводу: законопроект 39-ти поглощается более общим, об исключительных положениях. Забавно, что этот самый отвод десятью месяцами ранее прозвучал в речи представителя ведомства, но никого не смутил. Хорошо, поставьте на повестку этот общий законопроект, попросил Клочков, но ответа не получил, в конце концов придя к выводу, что центр действует в интересах Правительства.
Законопроект о чистоте нравов (29.I)
По поручению фракции бар. Мейендорф разработал законопроект о наказании за скандал. По мысли автора проекта, следовало наказывать буянов рублем, присовокупляя к устранению от заседаний лишение денежного довольствия на соответствующий срок. Пуришкевич окрестил эту законодательную инициативу «lex Meiendorfi de puritate morum» («закон Мейендорфа о чистоте нравов»).
Выход, предложенный центром, не пришелся по душе ни правым, ни левым, которые в один голос заявили, что законопроект посягает на их свободу слова, стараясь «рублем и копейкой взвесить силу и стойкость человеческих убеждений». Пуришкевич изложил свой взгляд на скандал как на естественное выражение «того нервного, того возбужденного состояния», в которое правых приводят речи, направленные против православия и русской национальности. Если устранить причину скандалов, то их и не будет. Однако октябристы находили, что беспорядки крайних флангов – это их самоцель. Кн. Тенишев возразил: «нет, мы стараемся рублем бить не убеждения, а скандалы».
Чтобы свести на нет действие законопроекта, Пуришкевич предложил своей фракции организовать фонд для вспомоществования оштрафованным членам Г. Думы.
Большинством 139 голосов против 99 законопроект был передан в комиссию по Наказу для представления заключения о желательности.
Между прочим, Пуришкевич пригрозил разгоном Г. Думы, для которого, по словам оратора, будет достаточно некоторого количества правых депутатов и членов Союза русского народа.
Приезд французских депутатов
После посещения группой русских депутатов Парижа состоялся ответный визит французской делегации в Россию. По приглашению председателя русской группы междупарламентского союза Ефремова в Петербург приехали несколько депутатов и сенаторов.
Правительство, заинтересованное в укреплении франко-русского союза, сочувствовало этой идее. Столыпин несколько раз совещался с Ефремовым, а при встрече с гостями сказал им: «Мы вас уже давно ждали».
Визит начался 5.II и продолжался неделю. На следующий день французы получили аудиенцию в Царском Селе. Дважды (6.II, 8.II) гости посетили Г. Думу. В первом случае заседания не было, во втором присутствовали на заседании. В Таврическом дворце гости появились, «конвоируемые Азрами, Поляковыми и прочими представителями «русской» печати», по выражению сотрудника «Земщины». Обсуждались кредиты по переселенческому управлению.
«На думской трибуне с.-д. Чхеидзе убеждает Думу в бесполезности ея ассигнования на переселенческое дело на Кавказе. Оппонентом г. Чхеидзе является деп.Тимошкин… Тимошкина сменяет на трибуне депутат Андрейчук, который никак не может выговорить фамилию деп. Чхеидзе. Затем опять Чхеидзе… Одним словом, весь «цвет» Думы.
Хорошо, что французские гости не понимают русского языка, а то какого они были бы мнения о русском парламентском красноречии».
Посмотрев на заседание из дипломатической ложи, в перерыве гости обменялись любезностями и рукопожатиями с членами Г. Думы, сфотографировались и покинули Таврический дворец.
Делегацию отвезли (8.II) и в Зимний дворец, где показали комнаты Александра II, драгоценности и регалии Императорского Дома. Затем в Государственном банке Коковцев воспользовался случаем, чтобы наглядно продемонстрировать Франции русское финансовое благополучие. Министр провел гостей в сопровождении Звегинцева, Ефремова и М. Стаховича в кладовые, где хранились золотые запасы в виде пудовых слитков и мешков с монетами. Коковцев даже распорядился вскрыть печати некоторых мешков, чтобы показать их содержимое своим экскурсантам. Не напомнил ли он русским спутникам французов Кощея, чахнущего над златом?
Рвение министра было связано с недавно заключенным им во Франции займом. Коковцев напомнил о нем слушателям, сообщив, что сейчас заимодавцы получают по нему «чуть ли не 17 % на капитал».
«деньги ваши целы» и «ваши деньги не пропали, смотрите и любуйтесь», – так Пуришкевич выразил мысль Коковцева. «Только у нас в России наезжим депутатам показывают государственные закрома», – негодовал депутат.
В тот же день французы встретились и со Столыпиным на чашке чая.
Делегация посетила парадный спектакль в пользу пострадавших от наводнения в Париже. Присутствовала вдовствующая Императрица с Великими Княгинями. По требованию всего зала была исполнена Марсельеза.
Из столицы делегация направилась (8.II) в Москву, где посетила древний кремль. Экскурсии сменялись банкетами в «Эрмитаже», в городской думе и в «Стрельне». «Москва нас не только встречала, но нас носила на руках с утра до ночи», – отмечал д’Эстурнель де Констан. Роль хозяев играли кадеты, твердившие в ресторанах о русской конституции. Любезность Маклакова дошла до двусмысленного признания, что, как и вся молодежь, он «был сформирован чтением, изучением, восхищением той эпопеей исполинов, которая называется великой революцией». Затем оратор заявил, что хотя «за революцией всегда следует реакция», но всякое поражение – начало победы, а победа – начало поражения.
Французы приняли все услышанное к сведению. Глава депутации д’Эстурнель де Констан тут же предложил отпечатать и раздать всем присутствующим этой текст речи, а при отъезде с Курского вокзала (12.II) крикнул: «courage, Маклаков!», т. е. «…мужайтесь!».
Вероятно, общество видело в этом визите доказательство существования у нас конституции. Выступая на том же банкете, Маклаков назвал целью приезда французских «коллег» «приветствие со стороны Франции новому режиму, конституционному режиму в России», а сам д’Эстурнель де Констан в интервью «Temps» провозгласил: «Да здравствует французский парламент, первый, который явился приветствовать русский парламент!..».



