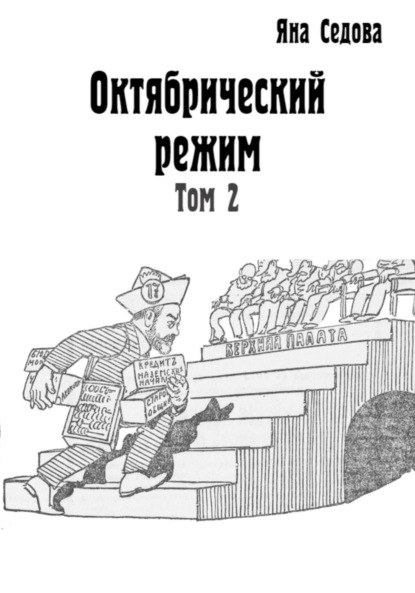
Полная версия:
Октябрический режим. Том 2
«Саша, я не берегу тебя в ущерб твоей чести, ты знаешь». Но здесь для нее опасности нет, зато дуэль спасет доброе имя гр. Уварова, который покамест «проглотил жестокое и вполне заслуженное оскорбление и заявил себя трусом». Лучше всего так и оставить дело: «ты должен молчать и не провоцировать».
Но провокация как раз входила в намерения Александра Ивановича. В тот самый день, когда в Москве встревоженные братья писали эти письма, Гучков поторопил своего противника новым письмом: «Позвольте этими несколькими строками напомнить вам, граф, о вашем долге и просить вас принять уверения в совершенном уважении».
Письмо возымело успех: на следующий день Гучкову назвали имена секундантов. Он же пока остановился на кандидатуре бар. Мейендорфа. «Биржевка» писала, что секундантом будет, «безусловно», Савич, но ему так не понравилось поведение Гучкова, что тот его не пригласил.
Начались переговоры между посредниками. Выяснилось, что гр. Уваров предпочел бы начать с третейского суда. Гучков не согласился.
Тогда посредники гр. Уварова ухватились за установленное письмом Кноля равенство между словами, переданными через лидера октябристов, и заметкой «России». Гучков признал, что 23.X оскорбление не было нанесено его собеседнику лично. Так за чем же дело стало? Повторите свое заявление официальным порядком – и разойдемся миром! Гучкову поднесли на подпись проект опровержения: «наглая ложь» относилась к газете, а не к гр. Уварову. Однако вместо этого появилось приведенное выше заявление от 13.XI: дескать, по мнению Столыпина – так, и я так и передал, но сам я думаю, что солгал именно граф.
Страхи и насмешки
Товарищи по Г. Думе не препятствовали поединку. Только Шингарев обратился ко всем депутатам с воззванием, прося их осудить дуэль и напоминая о предложении ген. Бобянского относительно организации третейского суда, внесенном в Г. Думу в 1908 г. Но Дума предпочла остаться зрительницей.
«Со дня на день все ждали кровавого поединка. Когда на заседании отсутствовали оба рыцаря – с уверенностью говорили: «дерутся!» Когда являлся один – друзья другого отправлялись справляться по телефону, жив ли их лидер. Кровавый кошмар висел над Думой». Этот фельетон «Земщины» настолько точен, что может считаться историческим документом.
В кулуарах отмечалась каждая отлучка противников из Таврического дворца: то Гучков отсутствовал почти целый день, то гр. Уваров вдруг покинул вечернее заседание. Но время шло, а дуэли все не было.
Совещания посредников шли с 8 по 16 ноября, то есть вся история затянулась на срок больше трех недель. Газеты уже начинали подшучивать над дуэлянтами. «Драма превращается в комедию, комедия – в водевиль», – писал Азра.
В уже цитировавшемся фельетоне один из посредников сообщает королю репортеров Пейсаху Остроухому, что будт образовано совещание из 40 лиц для выяснения 215 вопросов, последний из которых – «Могут ли слова «наглый лжец» считаться оскорблением?». С этой целью «вопросы будут разбиты на группы, а совещание посредников выделит из себя комиссии, а те – подкомиссии для каждой группы. И в комиссиях, и в совещаниях будут вестись подробные протоколы заседаний».
Затем в той же «Земщине» появился стихотворный фельетон Шпильки, предрекающий, что из дуэли выйдет лишь балаган. Остроумный рассказ опубликовала и «Биржевка», изобразив некоего персонажа, который в страхе перед дуэлью срывает ее, уведомив о ней полицию.
Пока газеты смеялись, Крупенский исколесил окрестности Петербурга, выбирая место для поединка.
Дуэль
Наконец, 16.XI секунданты (вторым посредником Гучкова стал Крупенский) определили условия дуэли.
Согласно дуэльному кодексу Дурасова 1908 г. оскорбление, нанесенное гр. Уварову, было квалифицировано как оскорбление второй степени. Руководителем дуэли избрали Крупенского. По выбору гр. Уварова оружием стали пистолеты. Было решено, что это будут гладкоствольные пистолеты без мушки, что противникам предоставляется право сделать по одному выстрелу и что стоять они будут на 25 шагах.
Назначено время поединка – 17 ноября, в два с четвертью часа, – и место, выбранное Крупенским, – при выезде из Старой Деревни.
Несколькими днями ранее в заседании одной из комиссий Г. Совета Крыжановский, услышав об отсутствии гр. Олсуфьева, с улыбкой сказал: «Граф Олсуфьев, очевидно, занят дуэлью. Впрочем, никакого поединка, вероятно, и не будет, так как за каждым из будущих дуэлянтов и их секундантов следят не только газетные репортеры, но и чины полиции, которым на счет дуэли даны вполне определенные инструкции».
Однако оба дуэлянта стремились к сохранению полной тайны, памятуя о фарсе, в который вылился поединок Маркова 2 и Пергамента. «Ручаюсь вам, что повторения автомобильных поездок и дежурств вам не придется пережить», – с самого начала заявил Гучков сотруднику «Биржевки».
Тем не менее, гр. Уваров все-таки проговорился. Вероятно, поэтому дата и условия дуэли просочились в газеты.
Если бы все шестеро покинули Таврический дворец одновременно, то были бы мгновенно замечены журналистами и полицейскими. Поэтому Крупенский составил хитроумный план – кто и как добирается до Старой Деревни.
«Вчера, в 12 час. утра, по этому плану гр. Уваров выехал со своей дочерью в академию художеств для осмотра выставки картин.
Гр. Олсуфьев в половине двенадцатого обязан был явиться в ресторан «Вену» и лишь оттуда вызвать себе таксомотор.
Что касается секундантов, решено было так.
Бар. Мейендорф спускается по черному ходу своего дома, прячась даже от швейцара, во избежание какого-либо наблюдения со стороны полиции.
Затем барон должен был сесть в электрический трамвай, доехать до конца Васильевского острова и оттуда на извозчике ехать по направлению к Лахте.
Н. Н. Львов в другое время, чем бар. Мейендорф, тоже спокойно выходит из своего дома, садится в трамвай по другой линии и направляется по тому же пути.
А. И. Гучкову было назначено сидеть в комиссии по государственной обороне, не подавая вида, и затем пешком пойти по Шпалерной, где его должен был захватить Крупенский.
Весь этот план до мельчайших подробностей был выполнен всеми участниками дуэли».
То заседание комиссии по государственной обороне Савич запомнил навсегда! «Я сидел рядом с Гучковым, – пишет он, – который как ни в чем не бывало руководил самым хладнокровным образом прениями, сам принимал в них деятельное участие. Против нас сидел ген. Поливанов, который как-то вопросительно на нас смотрел. За полчаса до перерыва Гучков вдруг сказал мне, что ему необходимо на время удалиться, что он передает председательствование Хвощинскому. После этого он встал и ушел, никто не обратил на это большого внимания, только ген. Поливанов нервно задергал плечом, повернулся всем корпусом на стуле и смотрел вслед уходящему Гучкову. Видимо, он что-то знал». Однако из дневника ген. Поливанова видно, что и он ничего не знал. Он был изумлен выдержкой Гучкова, проявленной в этот день: «председательствовал, предлагал вопросы, показался даже в столовой, и все это перед заранее назначенной дуэлью».
В назначенный час все участники поединка съехались к Старой Деревне. Там, на тропинке у забора, были отмерены 25 шагов. Гр. Уваров, которому в качестве оскорбленного лица принадлежал выбор оружия, взял первый попавшийся пистолет из двух. От волнения секунданты забыли предложить противникам примириться. Дуэлянты встали на места, доставшиеся по жребию.
– По команде «раз! два! три!» будете стрелять. Раз…
Гучков прицелился. Гр. Уваров «с полуулыбкой» держал пистолет дулом вверх.
– Остановитесь! – скомандовал Крупенский. – Граф, вы, кажется, не поняли условий дуэли? Вы имеете право стрелять!
– Да, знаю, знаю… – был ответ.
Дуэль возобновилась. Согласно составленному секундантами протоколу, первым выстрелил Гучков. Его пуля попала в правое плечо противника. Почти одновременно гр. Уваров разрядил свой пистолет в воздух.
Гучков не подошел к раненому, не пожал ему руку, как полагалось. Оделся и уехал. Гр. Уваров покачнулся, но удержался на ногах и был в силах идти. Присутствовавший врач тут же сделал перевязку. Рана была легкой, вскоре граф уже не ощущал никакой боли и уехал в Москву к матери, а оттуда за границу.
О том, как в Думе узнали об исходе поединка, сведения противоречивы. Савич вспоминает, что Гучков сразу же сообщил ему новость по телефону. Депутат как раз завтракал рядом с тем же Поливановым. Гучков сказал, что он цел, однако ему «как следует не удалось продырявить Уварова». Савич вернулся за стол, и Поливанов спросил только: «Цел?» и, услышав утвердительный ответ, перекрестился. Сам Поливанов записал ход событий совершенно иначе. По словам генерала, он и депутаты спускались вниз, когда «навстречу бежал Крупенский и кричал: «все кончено, Уваров ранен в лопатку, ни полиция, ни репортеры не знали, никого не было»».
Итак, хотелось «как следует» «продырявить», но не удалось. То же впечатление сложилось и у Львова 1, который, вернувшись в Таврический дворец прямо из Старой Деревни, рассказывал, «как хладнокровно и с намерением убить противника Гучкова выцеливал Уварова». Наконец, само место ранения свидетельствует о намерениях лидера октябристов: газеты писали, что при малейшем отклонении пули положение могло быть очень серьезно.
Как же Гучков, имевший репутацию меткого стрелка, промахнулся? По-видимому, за это следует благодарить секундантов, принявших ряд предосторожностей, – гладкоствольные пистолеты без мушки и крупные шаги. Но и при этих условиях, писал кн. Е. Н. Трубецкой, «цель была намечена удивительно верно».
Потом, однако, лидер октябристов утверждал, что целился в руку противника, чтобы нанести ему легкую рану и отвести обвинения в буффонаде. Это объяснение, противоречащее всем остальным фактам, смахивает на оправдание и промаха, и самой дуэли.
Что до гр. Уварова, то он еще в автомобиле на пути к Старой Деревне сказал гр. Олсуфьеву, что будет стрелять на воздух. По дуэльному кодексу такой выстрел является высшим оскорблением для противника. Гр. Уваров объяснял свой поступок желанием «выдержать принцип, выставленный им с самого начала», и «поставить Гучкова и Столыпина в положение inferior morale».
Отношение общества
Исход поединка был неожиданным для всех, кроме, пожалуй, самих дуэлянтов.
«Ведь всякий понимает, – писал поначалу Дорошевич, – что ни гр. Уваров г. Гучкова убивать не станет.
Ни г. Гучков из-за неправильной передачи отзыва начальства убивать людей не будет.
Много дыма и две дыры в воздухе.
Обычный результат девяти дуэлей из десяти».
Но пролитая кровь привела всех в ужас. Тон задал Львов 1. Примчавшись после дуэли в Думу, он «весь еще был под впечатлением только что пережитого, потрясен тем, что произошло». Он обвинял Гучкова и даже отмечал, что неспроста, дескать, лидер октябристов не популярен в обществе. Обвинял и себя как соучастника, заявляя, «что если его не посадят в тюрьму, то он сам будет настаивать на том, чтобы ему было назначено самое строгое наказание». Словом, человек был не в себе.
Действия Гучкова встретили общее осуждение. Размышляя о поединке, кн. Е. Н. Трубецкой спрашивал: «Неужели же опасность для жизни графа Уварова была сама по себе целью?». Сравнивая политическую дуэль с «политическим убийством», автор статьи горестно восклицал: «В каком противоречии и со своими политическими принципами оказался уже теперь лидер партии, ведущей борьбу против политического террора!».
Октябристы, правда, поддерживали своего лидера и даже подумывали устроить в его честь банкет. Но следует иметь в виду их жесткую фракционную дисциплину. По совести же и некоторые софракционеры Гучкова, например, тот же Савич, его осуждали.
Говорили, что Столыпин поздравил Гучкова после дуэли. Это сродни крестному знамению, наложенному на себя Поливановым. Но у премьера тут роль особая. Он не мог не понимать, что Гучков стреляется вместо него.
Глава октябристов был уверен, что поступает красиво, но в итоге оказался справедливо уподоблен политическим террористам.
Зато великодушие гр. Уварова, который, рискуя жизнью, исполнил навязанную ему роль и даже не попытался в отместку ранить своего противника, вызвало общее восхищение. Многие члены Г. Думы, включая Милюкова, нанесли визит раненому, и он уверял, что в день дуэли таковых было 160. Первое появление гр. Уварова в Г. Думе было встречено рукоплесканиями видных членов оппозиции.
О самом институте дуэли говорили с осуждением. Появилась мысль о разработке законопроекта против поединков. В Юридическом обществе прочитали доклады Набоков и Львов 1, причем последний заметил, очевидно, о гр. Уварове: «На это мерзкое дело люди не идут, их тащат…». «Биржевка» в передовой статье написала, что вопрос-то, из-за которого стрелялись, так и не разрешен.
На партийном банкете об институте дуэлей «полтора часа» спорили Маклаков и Родичев.
– Бывают, наконец, случаи, когда двум людям становится тесно жить на свете, – кричал московский депутат.
– Если мне с вами будет тесно, я просто убью вас. И постараюсь сделать это из-за угла, – кричал в ответ Родичев.
От.Никонович кратко записал, что «его лично мало интересует это греховное дело», а старообрядческий епископ Иннокентий прислал Председателю Г. Думы великолепную телеграмму «для дуэлянтов»:
«Очень печально, что народные представители, обязанные служить примером всем гражданам России, не могут решить спора между собой иначе, чем путем драки.
Да будет стыдно драчунам».
Суд
Гучков был привлечен к суду по ч.1 1505 ст. (вызов на дуэль), а грУваров – по ч.2 (согласие на дуэль). В марте 1910 г., как раз когда главу октябристов избрали Председателем Г. Думы, оба посетили судебного следователя, признав себя виновными, но отказавшись от дачи показаний. Дело слушалось в мае.
– Вы Александр Иванович Гучков, дворянин, 47 лет? – спросил судья, невольно задев подсудимого за живое.
– Нет, не дворянин, – ответил тот.
Гучков пришел с Шубинским в качестве своего защитника и с обоими секундантами в качестве свидетелей. Сначала произнес речь сам. Затем говорил адвокат, отметив одностороннее освещение дела в обвинительном акте и призвав суд смягчить приговор.
Гр. Уваров пришел один и кратко заявил, что подтверждает данные обвинительного акта и ничего не может к ним добавить к ним.
Гучков был приговорен к заключению в крепость на 4 недели, а гр. Уваров к 2-недельному аресту на военной гауптвахте.
– Что же, будете отсиживать, Александр Иванович? – спросил сотрудник «Нового времени».
– Я большой сторонник дуэли, но и сторонник того, чтобы дуэли наказывались…
На сей раз Гучков поступил действительно красиво – сложил полномочия Председателя Г. Думы, ничего, впрочем, не теряя ввиду наступивших летних вакаций, и явился в крепость отбывать наказание, чем «показал пример уважения к закону». «Во всей этой печальной трагикомедии это будет первый жест, за который г. Гучков заслужит похвалы», – писал Дорошевич.
Запросы о незакономерной сдаче участков нефтеносной земли на Кавказе (11, 18.XI)
По представлению Министра Торговли и Промышленности принадлежащие казне заведомо нефтеносные участки земли Апшеронского полуострова были сданы ряду лиц в высоких чинах. Государь согласился с крайней неохотой. Интерпеллянты указали, что при этом не было торгов и вообще не соблюдались установленные законом правила. Печать усмотрела в запросе о нефтяных землях новую панаму.
Давая разъяснения Г. Думе, Тимирязев прикрылся волей Верховной власти, сославшись на ее решение. «Разъяснение его было до такой степени цинично, – писал Шидловский, – что впечатление на Думу произвело ужасное. Я помню выражение лиц всех без исключения членов Думы, от одного фланга до другого … Омерзение и ужас были написаны на лицах всей Думы, слушавшей столь развязно дававшего ей объяснения царского министра, верного слуги своего государя». Гр. Бобринский 1 заметил, что Министр не пожелал быть тем «утесом», о который «должна была разбиться волна народного негодования». Зная, что Тимирязев уходит в отставку из-за кончины супруги, правые не скандалили, но в перерыве «рассказывали, каких страшных трудов им стоило это молчание».
В этом заседании по рукам пошла эпиграмма:
Прости!
В последний раз тебе внимаю,О Тимирязев дорогой!В последний раз я засыпаюПод равномерный голос твой.Когда другой тебя заменитВ кругу столыпинских друзей –Верь, наша память не изменитБлаженной памяти твоей.И будут жить в воспоминаньиЕхидный блеск твоих очейИ бесконечное журчаньеТвоих «парламентских» речей.Очевидно, правые были рады уходу Министра, имевшего репутацию либерала.
В следующем заседании гр. Бобринский 1 назвал отдачу нефтяных участков «домашним распоряжением государственным добром». Предупредив администрацию, что «фонарь Г. Думы осветит ярким светом самые темные закоулки нашего отечества», оратор высказал приговор «народной совести»: «ваши высокопревосходительства, вы поступили нехорошо!».
Шингарев выразил изумление «тем чувством гражданского мужества, которое раздалось, быть может, впервые здесь в Г. Думе со стороны крайней правой».
При обсуждении запроса в Думе царило редкое единодушие. Почти на всех скамьях аплодировали нападавшим на министра Дмитрюкову и гр. Бобринскому 1. Формула октябристов, признававшая действия министров незакономерными, а объяснения Тимирязева неудовлетворительными, была покрыта продолжительными рукоплесканиями центра, справа и слева и, конечно, принята.
Разделяя взгляд гр. Бобринского 1, Балаклеев от себя лично высказался против запроса. Очевидно, оратор ошибся и подразумевал формулу перехода, поскольку запрос был принят в предыдущем заседании. Балаклеев отметил, что неправильно называть незакономерной саму отдачу участков, поскольку таковая совершилась после Высочайшего повеления, которое Министр обязан был исполнить. Точнее было бы написать, что незакономерно поднесение Министром на Высочайшее утверждение соответствующего доклада.
Законопроект о неприкосновенности личности (13, 16, 18, 20.XI)
Манифест 17 октября объявил «действительную неприкосновенность личности», и на соответствующий законопроект Министра Внутренних Дел смотрели как на «пробный камень» для Правительства и Г. Думы: насколько они готовы осуществить этот принцип.
Комиссионная редакция законопроекта почти совпадала с правительственной и приводила оппозицию в негодование. Маклаков, например, сказал сотруднику «Нового времени»: «это не комиссия, а одна срамота», а на упрек Гололобова стушевался: «я не хотел ругаться, сорвалось как-то это слово, а сотрудник «Нового времени» напечатал».
Октябристы поначалу поддерживали законопроект. Он был одобрен особой фракционной комиссией. Однако осенью на одном из московских предвыборных собраний (24.IX.1909) Гучков заявил, что его фракция не примет «гололобовский» проект. В октябре на всероссийском съезде октябристов было решено добиваться проведения законопроекта, а в кулуарах кн. А. Д. Голицын заявил Азре: «Мы сделаем во фракции все возможное, чтобы закон о неприкосновенности личности прошел в Г. Думу до рождественских каникул. Для нас более не обязателен гололобовский закон. Мы им больше не связаны. Гололобов не состоит ныне членом нашей фракции, и все сделанное им может быть совершенно изменено». Ныне для фракции пришло время «уплаты по векселям выборного характера, выданным в Москве».
Новшества законопроекта
Законопроект содержал несколько гуманных гарантий, неизвестных прежде русскому законодательству. Устанавливалось, что лишение свободы составляет прерогативу судебной власти. Без ее постановления полиция вправе совершить арест или обыск только если подозреваемый ловится на месте преступления или жилище этого лица служит местом сокрытия его преступления. При этом составляются и вручаются заинтересованным лицам письменные постановления. Арест, произведенный без судебного определения, может продолжаться не более 24 часов, причем за это время судебная власть обязана проверить основательность задержания подозреваемого. Затем она вправе издать приказ о дальнейшем содержании арестованного под стражей не более чем на 2 недели. За это время должно последовать формальное привлечение обвиняемого к следствию. Словом, аресты происходят либо решением судебной власти, либо под ее строгим контролем.
Защитники законопроекта придавали большое значение перечисленным выше гарантиям от произвола. «Я скажу одно: такого рода законоположения не было в России до сих пор, – говорил Мотовилов. – Это, конечно, большой шаг вперед к свободе личности». «…ведь, гг., это небывалое в России явление», – отметил Гололобов.
Однако слева мало ценили достижения законопроекта, которыми так гордились его сторонники. Аджемов сказал, что комиссия «изменила в редакционном отношении три статьи Устава Уголовного Судопроизводства. Не правда ли, какая великая историческая заслуга?». Бобянский заявил, что в проекте только два «новаторства»: 1) «что при арестовании судебный приказ не только предъявляется, но и вручается»; 2) 24-часовое задержание. В остальном законопроект лишь повторяет существующие законодательные нормы. На таком скромном уровне неприкосновенность личности обеспечивали и прежние законы, например, Устав Уголовного Судопроизводства, но они оставались мертвой буквой. Поэтому пользы от нынешнего проекта – «пустого листка нестоящей бумаги» – не будет.
Формальное жандармское дознание и другие атавизмы законопроекта
Внося мало нового, законопроект сохранял в силе многое старое, ненавистное либералам: исключительные положения (согласно ст. 22 исключительные и военные положения доминировали над принципом неприкосновенности личности), действующий порядок ответственности должностных лиц (ст. 18), черту оседлости. Соколов 2 находил, что в ст. 15 негласно признается право административной высылки, но Гололобов возражал, что и высылка, и полицейский надзор потребуют ареста, а арест отныне обставлен рядом гарантий.
Между прочим, против черты оседлости выступил Родичев: «Что бы вы сделали с Андреем Первозванным, если бы он в настоящее время явился в Россию?».
Впоследствии Нисселович назвал плод работы комиссии «законопроектом о неприкосновенности черты еврейской оседлости».
Больше всего нареканий вызывала сделанная комиссией вставка ст. 1035 Уст.Угол.Суд. в ст. 12, то есть исключение из сферы действия законопроекта формального жандармского дознания. Именно по этому поводу Маклаков произнес свои слова о «срамоте». В общем собрании он говорил: «пока существует эта оговорка, никакой неприкосновенности нет», в таком виде закон станет «прямо вредным и нежелательным».
Оппозиция не скупилась на краски, описывая ужасы формального жандармского дознания – альтернативы судебному следствию. Тут нет никаких гарантий: сроков, обжалования, судебной проверки. Для ареста достаточно подозрения в любом преступлении. От.Титов красноречиво описывал, как жандармы врываются в дома, «похищают ваших детей», «бросают ваших жен в тюрьмы».
«Гг., что это, жандармы людоеды, что ли, что похищают ваших детей?», – удивился Тимошкин.
Подкрепляя свои слова ссылками на ст. 1035, Замысловский пояснил, что жандармские дознания не так страшны, как их малюют левые. По подозрению можно арестовать лишь в порядке усиленной и чрезвычайной охраны, и этот тип дознаний отсекается законопроектом. В порядке же формальных жандармских дознаний по ст. 1035 право ареста ограничено некоторыми условиями и все-таки подлежит некоторому надзору судебной власти: до взятия под стражу следует постановление о привлечении, после – уведомление прокуратуры. Аджемов возразил, что прокурор – не суд и не властен над Отдельным корпусом жандармов.
Бобянский подверг нападкам не только процедуру дознания, но и само сословие жандармов. «…это все офицеры, кончившие юнкерское или военное училище; затем в жандармском штабе они проходят так называемый курс полк. Добрякова в продолжение шести недель, обучаясь всем юридическим наукам». Жандармы «занимаются шпионством и провокацией, ибо других средств для исследования преступлений у них нет; у них нет ни таланта, ни ума, нет и знания той среды, в которой им приходится работать»; «эти необразованные люди, действующие в пустоте, без всякой подготовки держат в руках развитие целого общества». «Я твердо убежден, что революция последовала только от жандармов».
Пуришкевич заступился за столь огульно оскорбленных лиц, напомнив их заслуги по водворению порядка: «Мне приходится работать над изданием «Книг русской скорби», где нами издаются биографии всех тех, которые потерпели, и на каждые три, четыре биографии непременно жандармский чин». Товарищ Министра Курлов предположил, что именно деятельность корпуса жандармов во время смуты вызвала нынешний натиск на него. «Я слишком слаб, чтобы защищать его, его защитят те сотни павших от руки убийц наших товарищей. Корпус жандармов кому-то мешает, а кому – на это вам ответил член Г. Думы Гегечкори, повествуя о второй российской революции». Действительно, представитель социал-демократов заявил, что неприкосновенность личности «будет победоносно вынесена второй русской революцией на своих могучих плечах».



