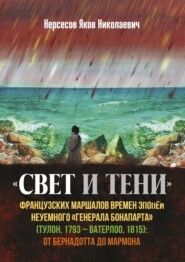
Полная версия:
«Свет и Тени» французских маршалов времен эпопеи неуемного «генерала Бонапарта» (Тулон, 1793 – Ватерлоо, 1815): от Бернадота до Мармона
И все же, 7 февраля 1790 г. (?) Жан Бернадот получил свой первый офицерский чин младшего лейтенанта, а марте 1792 г. он уже – лейтенант и его тут же (в апреле) переводят в 36-й пехотный полк, расквартированный в Сен-Серване в Бретани (северо-запад Франции), а затем в Анжуйский пехполк. Ему 29 лет и он снова уходит в отпуск по болезни. Когда Жан-Поль-Батист возвращается в армию, то французы уже вовсю воюют по всему периметру своих восточных границ против монархических Пруссии и Австрии, жаждавших задушить мятежный Париж – колыбель смуты на Европейском континенте. Вот и лейтенанта Бернадотта с его полком, , оказавшееся в , направляет на северо-восток – в Страсбург, в Рейнскую армию генерала Адама де Кюстина – «кузницу» многих будущих легенд французского оружия эпохи Наполеона Бонапарта. Там он вскоре принимает присягу на верность революции и знакомится со многими революционными генералами. Отечество Опасности
, именно во времяреволюцииЖан-Поль-Батист Бернадот добавил себе ещё одно имя – (в честь Цезаря); такие «античные» переименования были тогда популярны… …Между прочим Жюль Юлия
Хотя тогда среди королевских офицеров-дворян началось повальное дезертирство, но сколь амбициозный, столь и осторожный лейтенант Бернадотт не спешит с этим «ретирадным маневром». Он дальновидно остается в войсках: благо появляется много свободных офицерских вакансий, способный и энергичный Жан-Поль-Батист готовится к рывку вверх по служебной лестнице на «мутной волне» революционных перемен. Он знает свое место среди солдат, умеет с ними ладить и держать их в повиновении. В пору революционных перемен многие сколь даровитые, столь и решительные военные, в том числе, и из низов, быстро пошли в гору. Для этого у Бернадотта было все необходимое – он был крепким профессионалом и смелым человеком.
Именно в составе Рейнской армии под сразу ставшую патриотически востребованной «Военную песню» (более известную широкой публике, как «Марсельеза» Клода Руже де Лиля) Ж. П. Б. Бернадотт принимает первое боевое крещение под Рюльцхеймом. Тогда он очень во время выводит свою пехоту из-под удара и командование отмечает его умелые действия, беря на заметку статного, способного воздействовать на других, хладнокровного и расторопного в воинской науке лейтенанта, с орлиным взором и смоляными локонами до плеч.
Дело в том, что если по началу массовый энтузиазм и патриотизм граждан позволял добиваться успеха против хорошо вооруженных и вымуштрованных австро-прусских войск, то вскоре стало ясно, что для ведения затяжных кампаний нужна жесткая дисциплина и субординация. Именно для этого в армии появились комиссары Конвента с неограниченными полномочиями, например, правая рука Максимилиана Робеспьера «великий и ужасный» Антуан Сен-Жюст, прозванный современниками «ангелом смерти». Критериями оценки военных стали только успех и победа. Поражение грозило военачальникам самым гуманным из всех способов казни – обезглавливание с помощью гильотины, как, например, это случилось с бывшим командующим Рейнской армией генералом Кюстином. (Рассказывали, что ее изобретатель Жозеф-Игнас Гильотен убеждал власти, что за всю историю человечества это самый совершенный инструмент для мгновенного и безболезненного отрубания головы!?) Дело дошло до того, что если тот или иной генерал к назначенному часу (!) не делал того, что ему предписывалось, то его ждал эшафот. Наиболее шустрые и прозорливые из генералов не дожидались когда за ними придут для ареста и стремительно «делали ноги» (на современном молодежном сленге – «ударяли по тапкам»), перебегая к врагам.
Несмотря на все усердие, которые проявляет Бернадотт в боях, находясь в рядах Рейнской армии, оно не приносят тех лавров, которых он так жаждал: череда неудач и поражений обрушиваются на «рейнцев». И если некоторые особо одаренные военные смогли даже в такой ситуации стяжать себе лавры, то Бернадотт, в котором все сильнее проглядывает неуемное честолюбие и тщеславие, считает, что он ничего не добьется, находясь в Рейнской армии. Вот он и пишет рапорт о своем переводе поближе к родным местам – в Пиренейскую армию, где положение на театре военных действий выглядело получше, нежели в Германии. Там, как он предполагал, ему удастся, наконец, возвыситься во весь рост. Пока идет бюрократическая волокита, его по волеизъявлении солдат в течение нескольких недель судьбоносного для революционной Франции лета 1793 г. избирают сначала капитаном, потом – подполковником, а затем и полковником. А потом просьбу Бернадотта отклоняют, и ему ничего не остается делать, как продолжать служить в Рейнской армии и в ее рядах ждать своего «звездного» часа.
Тем временем де Кюстина во главе «рейнцев» сменяет генерал Александр де Богарнэ, муж той самой Жозефины, что вскоре «очень быстро и правильно расстелет на кровати генерала Бонапарта» и спустя годы после этого сколь эффектного, столь и эффективного «секс-маневра» войдет в историю Франции, как ее императрица. Богарнэ был не чужд симпатии революции, относился к солдатам по человечески и быстро нашел в обожаемом солдатами Бернадотте того офицера, с которым можно было успешно сражаться с монархической Европой. Но вскоре Бернадотта переводят в… Северную армию, а муж Жозефины, как водилось в ту пору «искрометных решений», быстренько «чихнул в мешок», так тогда шутливо говорили о… гильотинированных.
На передний план выходит Комитет Общественного Спасения и его влиятельный представитель Лазарь Николас Маргерит Карно (1753—1823), который сумел в кратчайший срок выдвинуть на руководящие должности способных генералов, в частности, неполного тезку нашего героя, генерала Жана-Батиста Журдана (1762—1833). Под его началом Бернадотт руководит под Премоном авангардом в качестве бригадного командира, попадает под удар численно превосходящих сил, 7 часов держит круговую оборону и только ночью отходит к своим. Потом Сен-Жюст меняет Журдана на Шарля Пишегрю (1761—1804), на вояку не столь агрессивного и подготовленного, при котором бригадир Бернадотт командует уже целым армейским крылом. В жарком деле с австро-английскими войсками принца Кобурга (.) под Ландреси именно он после убийства французскими солдатами своего генерала Гогэ, выравнивает ситуацию на поле боя. Он останавливает беспорядочно отступавших солдат весьма оригинальным способом: по его команде они вскрывают попавшиеся им по дороге бочки с бренди, «уничтожают» их путем распития и «разгоряченные» разворачивают брошенные пушки против наступающего врага. («Штыковые» 250—350 грамм водки либо иного крепчайшего зелья для поднятия солдат в контратаку применяли во все времена и у всех народов!) Пока ошарашенный неприятель решал, как ему быть при таком неожиданном повороте событий, Бернадотт не только перестроил свою разбитую бригаду, но и, по-львиному «громко огрызаясь» (), отошел к своим, что под силу лишь военным от Бога. того самого, что ведомый «русским Марсом» – Суворовым, бивал турок под Фокшанами и Рымником, но самостоятельно «оконфузился» под Журжей во 2-й екатерининской войне русских с турками, 1787—91 гг бросая солдат в штыковые контратаки, из которых уже возвращались, конечно, не все!
По сути дела тогда своим недюжинным хладнокровием и воинской смекалкой он не только спас своих солдат, но и самого себя, поскольку за потерю бригады ему однозначно по революционным законам того времени грозила гильотина.
И, тем не менее, именно тогда с Жаном-Полем-Батистом Бернадоттом случился некий «казус»!
Рассказывали, что в начале мая 1794 г. в жарком деле близ Гиза расторопного и энергичного полковника Бернадотта заметил только что прибывший из Парижа Сен-Жюст, жесткий и непреклонный комиссар Конвента. Облаченный Комитетом Спасения огромной властью карать и миловать, возвышать и опускать, он высказал пожелание (в его устах равносильное приказу!) немедленно произвести Бернадотта в генералы, причем, Жан—Поль-Батист скромно отказывается от повышения через ступень: дескать, ему «недостает талантов для того, чтобы занимать столь высокий пост»! минуя чин бригадного генерала, сразу в дивизионные генералы!
Разумеется, он явно лукавил! Причина, скорее всего, была иная!
Дальновидный (!) Бернадоттпредпочел быть повышенным в генеральское звание не штатским «в погонах», а вышестоящим «собратом по оружию»! Время показало, что Бернадотт не прогадал! это была чуть ли не основополагающая черта его извилистого характера
Во-первых, 9 термидора 1794 г. власть якобинцев была свергнута, а сам Робеспьер, Сен-Жюст и другие его ближайшие сподвижники были казнены и все, кого они стремительно возвысили, оказались под подозрением, за которым поблескивало… лезвие остро заточенной гильотины. Во-вторых, его недюжинная прозорливость не позволила потом никому из его завистливых коллег (среди военных она приобретает гипертрофированные формы поскольку за полководческую славу они платят морем солдатской крови!) упрекнуть Бернадотта за то, что он «паркетный шаркун», а не боевой генерал, заслуживший повышения по представлению людей, «знающих, почем фунт лиха-„пороха“» на поле боя.
Действительно, Бернадотт всегда оказывался в самых горячих точках боя, заслужив авторитет настоящего бойца Революции. Уже тогда подчиненные шутливо, а кое-кто и подобострастно прозвали его… «Богом Войны»! Жан-Поль-Батист умел быстро и жестко навести дисциплину и порядок среди подчиненных. По правде говоря, он не обладал ярко выраженными талантами тактика и стратега, как революционные генералы «первой шеренги» – Гош, Моро, Марсо, Клебер и Массена, а потом и такие наполеоновские маршалы как Ланн, Даву, Сульт, Сюше и Сен-Сир или с десяток генералов, так и не дослужившихся по ряду субъективных причин до маршальства, но вполне достойных этого. Он брал личным магнетизмом, побуждающим подчиненных следовать за ним, пренебрегая опасностью. Во многих случаях его спасал горячий наваррский темперамент.
Но в тоже время Жан-Поль-Батист не был «мясником», т. е. никогда понапрасну не жертвовал жизнями своих подчиненных, что очень ценилось в армейской среде (среди «пушечного мяса»: сержантов и младших офицеров, обязанных поднимать солдат в штыковую атаку или заставлять всех ложиться костьми, дабы не пропустить врага) всех времен и народов. Не исключено, что именно эта его черта – не кидать солдат в бой без всякого смысла, а беречь их – в гораздо большей мере, чем все иные грани военного дарования снискали ему неподдельную любовь и искреннее уважение со стороны тех, кто когда-либо сражался под его началом. Он и сам вовсе не спешит бросаться в осуществление операций, если не уверен в успехе задуманного дела. Возможно, именно эта черта в сочетании с сохранением солдатских жизней способствует особому отношению к нему со стороны простых солдат. Он учится хладнокровию и расчетливости. И вот уже явственно проявляется его главная полководческая черта: В тоже время его никто не упрекнул бы в отсутствии мужества. В пылу сражения, он – всегда на виду, всегда – в самой гуще боя. никогда не ввязываться в чересчур рискованное предприятие.
Война идет своим чередом.
Под началом Клебера (1753—1800) Бернадотт умело и бесстрашно сражается со своей 71-й полубригадой, в том числе, в судьбоносной для революционной Франции битве 29 июня 1794 г. с войсками австрийского принца Кобурга при Флёрюсе, когда тот пытался деблокировать своего соотечественника князя Каунитца в Шарлеруа. Действия Бернадотта настолько восхищают Клебера, что прибыв к нему с поздравлением с победой, он публично объявляет: «Полковник, я назначаю вас бригадным генералом здесь, на поле боя!»Естественно, что на этот раз отважный беарнец соглашается на повышение до генерала.
А к концу года (2 октября 1794 г.), после тяжелых затяжных боев под началом все того же Клебера (в составе Самбро-Маасской армии Журдана) с англо-голландцами герцога Йоркского и принца Оранского и взятия стратегически важного Маастрихта Клебер, рапортовал Журдану: «Я не могу нахвалиться генералом Бернадоттом и Неем, которые ежедневно доставляют мне все новые доказательства своих талантов и отваги… Я счастлив, что предоставил им посты, которые они занимают». В тот же день Журдан присваивает Бернадотту высший чин во французской революционной армии – дивизионного генерала.
Тогда за 15 месяцев Бернадотт пять раз повышался по службе.(Столь же быстро в ту пору двигался по служебной лестнице и его сослуживец по армии – еще одна будущая наполеоновская знаменитость – Мишель Ней, с которым у нашего героя были приятельско-уважительные отношения).
…, чин генерала Ж.-П.-Б. Бернадотт получил раньше, чем его будущий антагонист Наполеон Бонапарт, . Символично, что это «неравенство» не мешало нашему герою смотреть на поле боя совершенно по-новому – под другим ракурсом! 11.10.1795 г. при сильном ветре он не побоялся совершить необычную разведывательную операцию: пролететь над местностью, где шли бои на… воздушном шаре! Правда, длился полет всего лишь 20 минут из-за опасений командования, что порывы сильного ветра могут привести к обрыву страховочного троса, но «воздушный почин» генералом Бернадоттом был положен… Между прочим дивизионного правда, тот был дипломированным военным, в отличие от нашего героя-самородка-самоучки
Обессиленные противники разошлись в стороны: передохнуть, собраться с силами, перегруппироваться. Возникло то, что принято называть неофициальным перемирием, когда ни те, ни другие не готовы продолжать «неистово наматывать друг другу кишки на штыки». Всю зиму и весну французы и австрийцы простоят по разным сторонам Рейна в ожидании «гениальных» планов из своих столиц.
…, с той самой поры Бернадотт тесно сближается с восходящими звездами французского военного небосклона Клебером и Марсо. Он многому учится у этих больших талантов, обладавших огромным личным обаянием (оба рано погибнут: в 1800 г. в Египте, а – еще раньше, в 1796 г., ) и до конца своих дней будет с ностальгией вспоминать «грозные для его отчизны 1794—1796 гг.», что свели его тогда с этими подлинными «львами французской армии», так рано ушедшими в Бессмертие. Портрет Клебера будет висеть у него в королевском кабинете Стокгольмского дворца на самом видном месте. Истинных «братьев по оружию» Бернадотт потерял, когда все они еще были всего лишь республиканскими генералами. Среди наполеоновских маршалов у него таких уже не было. В маршалате не было принято дружить: там, в основном все были друг другу «коллегами по кровавому ремеслу». Особо у него не складывались отношения с такими выдающимися фигурами, как стратег Даву и незаменимый кавалерийский командир Мюрат ( но затем разойдутся), а также Бертье, от которого немало зависело в использовании того или иного маршала в военных операциях из-за его близости к императору в вопросах военного планирования… Кстати сказать причем, принято считать, что ни один из революционных генералов не обещал так много, как погибший в 27 лет Марсо по началу они сойдутся, первый второй
Именно в боях под Маастрихтом судьба свела Бернадотта с еще одной будущей легендой французского оружия редкостным смельчаком Мишелем Неем. Нельзя сказать, что они стали «братьями по оружию», но Бернадотт уважал былинную храбрость рыжего и «красномордого» гусара-эльзасца, а тот признавал заслуги заносчивого беарнца перед революционной Францией и вне поля боя у них не было конфронтаций. (Напомним, что спустя годы именно Бернадотт приютит сыновей расстрелянного Бурбонами Нея у себя в Стокгольме.) Тогда же в окружении Бернадотта появляются такие колоритные военные, как Морис-Этьенн Жерар, Мезон и Морен () – все трое потом станут генералами, причем, первому предстоит сыграть совершенно особую роль в корпусе маршала Груши, когда спустя 20 лет будет решаться судьба «генерала Бонапарта» и Франции под Ватерлоо. не путать с генералом Шарлем-Антуаном-Луи-Алексисом Мораном из знаменитой троицы дивизионных генералов III-го корпуса маршала Даву – Фриан, Гюденн, Моран!
В Париже тем временем, как уже говорилось выше, случился термидорианский переворот и гильотина обезглавила самого непреклонного из якобинцев Максимилиана Робеспьера, а страной начинает «рулить» Директория, где на первых ролях волею случая оказался Жан-Поль-Франсуа-Николя де Баррас (1755—1829) и начался «наибодрейший распил» госбюджета по всем направлениям. Вскорости, он вынужден был прибегнуть к услугам «героя Тулона» бригадного генерала Бонапарта, который после свержения Робеспьера сам чуть не угодил на гильотину. Но вот теперь тот – по специальности артиллерист – оказался снова востребован и без лишних сантиментов ловко со знанием дела расстреливает пушками роялистскую толпу, уже пошедшую было вешать на фонарях «директоров». Бонапарт за свою решительность и стремительность получает прозвище «генерал Вандемьер», становится дивизионным генералом (как и Бернадотт), стремительно женится на влиятельной вдове генерала де Богарнэ – сексуальнораскрепощенной «баррасовской подстилке», креолке Жозефине и отправляется навстречу своей судьбе – командовать французскими войсками в Италии.
А в это время другой революционный дивизионный ( а не за расстрел толпы картечью на городской площади Парижа!) генерал Бернадотт получает назначение комендантом в Маастрихт. получивший это звание за удаль на поле боя,
Вскоре во враждующих столицах решили возобновить военные действия.
Инициативный Лазарь Карно задумал «глобальную» операцию с привлечением сил всех трех республиканских армий. Если удачливый «генерал Вандемьер» () должен был со своими «итальянцами» наносить отвлекающий удар по австрийским владениям на севере Италии, а Рейнско-Мозельская армия Пишегрю – форсировав Рейн в районе Страсбурга – устремлялась бы через Швабию и Баварию вглубь австрийской империи, то Самбро-Мааская армия, где снова верховодил Журдан, в которой служил наш герой, также переправившись через Рейн в его нижнем течении, вытесняла бы врага в Богемию. После чего обе «германские» армии революционной Франции встречались бы в районе Регенсбурга, и с юго-запада их поддерживали бы войска Наполеона Бонапарта. Все три французские армии с разных сторон начали бы угрожать столице Габсбургов – Вене. напомним, так в армейской среде ехидно окрестили Бонапарта его недоброжелатели
… интересно, что с поставленной парижскими «стратегами» задачей смог справиться со своей хуже всего снабжаемой армией лишь… «генерал Вандемьер»! Причем так, что с той поры о нем заговорили как о самом блестящем даровании в «декарии» () превосходных военачальников республиканской Франции, тем более что два других несомненных (по масштабам дарований) претендента на вершину полководческого Олимпа Западной Европы той поры – Марсо и Гош – уже вышли из борьбы: оба нелепо погибли – один чуть раньше, другой чуть позже. Так бывает или, каждому – свое… Кстати, по римской военной терминологии – «десяткой» или отделением бойцов
Перемирие завершилось 1 июня 1796 г. И к этому моменту Пишегрю оказался сменен на одного из самых больших талантов Франции той поры – генерала Ж.-В. Моро (1763—1813). Военные действия для обеих сторон сразу приняли затяжной позиционный характер. Нашему герою Жану-Полю-Батисту с его дивизией сначала отчаянно смело вырвавшемуся вперед, пришлось потом в очередной раз демонстрировать свое недюжинное мастерство в арьергардных боях. А ведь они никогда не бывают легкими, поскольку одни получают приказ давить и рваться вперед, а другие – «всем лечь, но врага не пропустить»! Не раз и не два его любимая 71-я полубригада, бесстрашно становилась в последний заслон, спасать честь французского оружия, с каждым разом все сильнее редея. Впрочем, такова участь всех лучших из лучших – они всегда либо на острие главного удара или «стоят и умирают» пока соратники уходят в отрыв от наседавшего врага. А под Бендорфом он и вовсе смог «прыгнуть выше головы»: с восьмьюстами достойно противостоял 10 тыс. врагов. ( то ли, все же, небыль!?) Тогда, в результате 4-х часового боя враг отступил. Что это – то ли быль,
Потом были жаркие дела под Лимбургом, Бург-Эрбахом, Нюрнбергом, Дейнингом, Ноймарктом, Бергом, где ему достойно противостоял лучший австрийский полководец эрцгерцог Карл. Верный своему принципу – быть всегда на виду, всегда в самой гуще боя Бернадотт проявляет храбрость, всегда находясь в самых опасных местах, не думая о своей собственной жизни. Так, 21 августа 1796 г., во время отступления Самбро-Маасской армии, в стычке под Дейнингом, Бернадотт оказывается на грани смерти: получает удар пикой в голову, но остается в строю. «Не будь у меня шляпы, – пишет он брату, – я бы погиб». Под Ноймарктом его снова ранят в голову – на этот раз саблей! (Или, это – одно и тоже ранение, И хотя он по-прежнему в строю, но уже в неудачном для французов сражении под Вюрцбургом (в сентябре 1796 г.) из-за последствий этого ранения (или, все же, этих ранений?) он покинул свою дивизию, правда, лишь на время. но по-разному описываемое в источниках?)
, Бернадотт умел указывать вышестоящим начальникам на их ошибки в прогнозировании военных операций. Так, он на пару с Клебером настойчиво убеждал своего командующего Самбро-Мааской армии генерала Журдана не ввязываться в бой с австрийцами под Вюрцбургом, предвидя всю невыгодность складывавшихся не в пользу французов обстоятельств. Журдан не послушался своих генералов, крупно проиграл австрийцам и вынужден был начать отход, что существенно обострило положение на фронте. Любопытно и то, что в отличие от Клебера, оставшегося с солдатами и участвовавшего в этом сражении, пусть и проигранном французами, как полагают некоторые исследователи, Жан-Поль-Батист счел за благо сослаться на последствия предыдущих болезненных ранений (?) и отсутствовать на поле боя, дабы не запятнать свою репутацию отменного дивизионного генерала! Примечательно и то, что солдаты с пониманием восприняли такой «ход конем», тогда как офицеры сочли этот лукавый демарш предательством! Если это – так, то здесь сказались отрицательные черты Бернадотта – личные амбиции, самомнение, честолюбие и тщеславие. Если какое-либо предприятие не несло реальной выгоды лично для Бернадотта, он – либо уклонялся под разными предлогами от участия в этом деле, либо командовал «спустя рукава». Это не только отталкивало от него многих сослуживцев, но и вызывало у них раздражение и даже ненависть. Правда, Бернадот был достаточно толстокожим, чтобы такие проявления чувств могли вызвать у него сожаления по поводу своих поступков… …Между прочим
Тем временем армии Журдана никак не удавалась закрепиться и она все откатывалась и откатывалась на запад.
Вернувшийся в строй Бернадотт со своей дивизией, сократившейся уже до 6 тыс. человек, прикрывал ретираду армии под Оффенхаймом до последней возможности. То же самое ему пришлось проделать под Нойвидом, причем, тогда Бернадотт, уже будучи генералом, бесстрашно ввязался в рукопашную схватку и едва не угодил в плен к венгерским гусарам.
И хотя этот год для Бернадотта закончился еще и печальным для него сообщением о смерти сестры Мари, но его невероятное умение «вырезать из любого свинства хороший кусок ветчины», т.е. «выгрызать» из любой позиции максимум, позволило ему войти в «обойму» генералов республиканской армии, на которых можно полагаться в самой безвыходной ситуации. Уже тогда стало понятно, что командование дивизией для него не предел.
Годы, проведенные Бернадоттом в рядах Самбро-Маасской армии (1794—1796), когда он участвует практически во всех мало-мальски серьезных военных операциях, делают его известной личностью в глазах начальства и еще больше способствуют его популярности в солдатской массе. Во многих случаях Жана-Батиста выручает его беарнский темперамент. Он как никто другой умеет заставить себя слушать и подчиняться своим приказам. Поток пламенного красноречия, который он обрушивает на головы своих солдат, когда того требуют обстоятельства, заставляет даже самых отъявленных смутьянов идти на попятную.
, некоторые историки склонны считать, что со временем неуемное честолюбие, амбициозность и тщеславие будут преобладать у Бернадотта над разумом, взаимовыручкой. Понятие чести и долга будут ставиться им в зависимость от чинов, титулов и денежных пожалований. Его упрямый, независимый характер приведет к тому, что он будет чисто формально выполнять приказы, а иногда и уклоняться от них, если они, повторимся, не несут какой-либо выгоды лично для него. Любопытно, но это почувствуют не только во французской армии, но и в армиях союзников, когда Бернадотт будет воевать на их стороне против Наполеона… …Впрочем
Конец года Бернадотт проводит в Кобленце в балах, приемах и… романах. И еще не известно, чем бы тогда закончились любовные похождения этого «сержанта с красивыми ногами», если бы «труба снова не позвала его в поход», к тому же, в совсем другом регионе. Директория перебрасывает его в Италию – под начало не менее амбициозного, чем он генерала Наполеона Бонапарта. С ним у Жан-Поля-Батиста отношения не сложатся: слишком они были похожи по… устремлениям! Причем, они будут все ухудшаться и ухудшаться. Дело в том, что на вершине Олимпа, как известно, нет места для двоих – примерно, так высказался спустя годы «нечаянно пригретый славой» победителя самого Наполеона Бонапарта – британский полководец сэр Артур Уэлсли, герцог Веллингтон.



